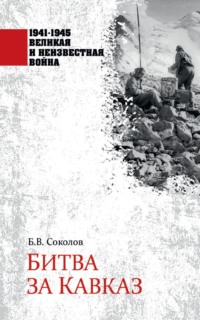Полная версия
Охота на Сталина, охота на Гитлера. Тайная борьба спецслужб
Эта неудача белоэмигрантов – еще одно подтверждение того, что подготовленным террористам, связанным с какой-либо организацией, оказывается труднее осуществить задуманное, чем дилетантам-одиночкам. Конечно, материальные возможности РОВСа для осуществления теракта были неизмеримо больше, чем у Леонида Николаева, но и вероятность того, что исполнители станут жертвой предательства, была очень высока. Ведь организация была буквально нашпигована советскими агентами, вроде одного из руководителей РОВСа генерала Н. В. Скоблина. Поэтому НКВД заранее было информировано о миссии Прилуцкого и поджидало террористов. Первая версия, которую чекисты стали отрабатывать сразу после убийства Кирова, касалась как раз связей Николаева с белой эмиграцией. Поэтому сразу же после покушения шеф НКВД Г. Г. Ягода настойчиво допытывался по телефону у заместителя начальника Ленинградского управления внутренних дел Ф. Т. Фомина, не иностранного ли производства одежда на Николаеве. Данная версия очень быстро была отброшена, но на всякий случай расстреляли 103 человека в Ленинграде и области, легальными и нелегальными путями нерасчетливо вернувшихся из эмиграции с сугубо мирными и по-человечески понятными намерениями – воссоединиться с семьями.
Итак, 1 декабря билета в Таврический Николаев достать не смог, хотя приложил к этому немалые усилия. Потом тех работников обкома, кто имел несчастье с ним беседовать и сказать, что доклад на активе будет делать Киров, исключили из партии за «недостойную члена партии болтовню и несоблюдение элементарных для каждого члена партии, а особенно сотрудников обкома, условий конспирации, выразившееся в даче сведений о работе обкома и, в частности, о товарище Кирове – Николаеву Л., который не имел никакого отношения к обкому». Столь суровые меры были приняты даже несмотря на то, что «не имевший никакого отношения к обкому» Николаев полученной «конспиративной» информацией никак не воспользовался. И в Таврический дворец идти ему не пришлось. Все получилось как по присказке: на ловца и зверь бежит.
По показаниям всех свидетелей, Киров 1 декабря в Смольный заезжать не собирался, а думал ехать сразу в Таврический дворец, где в шесть часов вечера должен был открыться актив. Утром он несколько раз звонил в Смольный и просил все необходимые для доклада материалы доставить на квартиру. Курьер Ленинградского обкома М. Ф. Федорова вспоминала: «Я в этот день была у Сергея Мироновича четыре раза – возила к нему материалы. В этот день он не должен был быть в Смольном, так как готовился к докладу.
Я поехала в 2 ч. 30 мин., он сам открыл мне дверь, так как не было ни Марии Львовны (жена Кирова. – Б. С.), ни домработницы. Сергей Миронович принял материалы, и я у него спросила, нужно ли приехать еще. На это он мне сказал, что приезжать не надо». Потом Киров еще дважды звонил в Смольный – около трех и в четверть четвертого. Как раз в три часа у Чудова началось совещание, где обсуждали предстоящую отмену карточек. По свидетельству присутствовавших на совещании, из телефонных переговоров было ясно, что в Смольный Киров перед активом заезжать не собирается. Однако около четырех часов он позвонил в гараж, находившийся в том же доме, где он жил. Киров попросил подать машину к мосту Равенства (Троицкому). В четыре часа он вышел из дома, прошел пешком несколько кварталов, сел в машину и около половины пятого приехал в Смольный, куда вошел через главный, а не через специальный секретарский подъезд.
Кировский охранник Михаил Васильевич Борисов на допросе 1 декабря показал: «Я встретил Кирова около 16 часов 30 минут в вестибюле главного подъезда и пошел за ним примерно на расстоянии 15 шагов», и эти показания вполне подтверждаются очевидцами. Между вторым и третьим этажом к Кирову подошел секретарь Хибинского горкома партии П. П. Семячкин, рассказывавший в 1935 году: «С утра зашел в Смольный и пробыл там примерно до 16 часов, после чего начал спускаться с 3-го этажа вниз в столовую. В это время на лестнице второго этажа неожиданно встретил Сергея Мироновича, поздоровался и начал говорить, что собираемся отпраздновать пятую годовщину Хибиногорска, и шел с ним рядом в обратном направлении со 2-го на 3-й этаж. По дороге Мироныч мне сказал: „Сейчас иду к секретарям согласовывать проект решения по докладу на Пленуме, завтра приди утром, и мы договоримся о порядке празднования“. После этого разговора я простился с ним в коридоре третьего этажа и пошел вниз в столовую». В этом коридоре Киров встретил референта одного из отделов обкома Н. Г. Федотова, поговорил с ним несколько минут и затем пошел вправо все по тому же коридору. Дальше предоставим слово уже знакомой нам М. Ф. Федоровой: «Я видела Николаева, который стоял у стенки. Я удивилась тому, что он, стоя у стенки, странно косился, и одна его рука была заложена за борт. Я хотела подойти к нему, но не успела, о чем после очень жалела, так как если бы я подошла, то, конечно, отвлекла бы его внимание. Я не видела, что сзади шел Сергей Миронович. Я думала, что Николаеву худо».
Сам Николаев на допросе подробно описал все обстоятельства покушения. Не достав билет в Таврический, он зашел в туалет, а выйдя оттуда, увидел Кирова, идущего главным коридором Смольного, и отвернулся к стене. Немного не доходя до конца, Киров свернул налево в коридор, ведущий к его кабинету. Николаев рассказывал следователям: «Как только Киров прошел мимо меня, я пошел вслед за ним и с расстояния 2-4-х шагов выстрелил ему в затылок».
Легко убедиться, что успеху Николаева способствовала цепь случайностей. Киров, не собиравшийся в Смольный, захотел все-таки перед активом обсудить с секретарями проект постановления. Это решение он принял тогда, когда Николаев уже находился в Смольном. Одно это обстоятельство подрывает все существующие версии о заговоре. Даже если предположить, что убийство Кирова организовали чины НКВД с ведома и по поручению Сталина, у них не было никакой возможности предупредить будущего убийцу, что Киров вот-вот появится в своем кабинете. Мобильных телефонов, как известно, тогда не существовало. Если бы Сергей Миронович воспользовался не главным, а секретарским подъездом, куда обычную публику не пускали, их встреча с Николаевым не состоялась бы никогда. Наконец, если бы Леонид Васильевич задержался в туалете на пару минут дольше или, наоборот, справил бы свои естественные потребности на две-три минуты быстрее, то он тоже не столкнулся бы лицом к лицу со своей жертвой.
Николаеву благоприятствовало и то, что телохранитель Борисов отстал от Кирова на целых пятнадцать шагов. Впоследствии многие видели в этом чей-то злой умысел и связывали это обстоятельство с внезапной гибелью Борисова на следующий день, 2 декабря. Однако подобное нарушение служебной инструкции, скорее всего, имело чисто житейское объяснение. Киров очень тяготился охраной, ему неприятно было ощущать за своей спиной «тень» охранника, а Ф. Д. Медведю он шутя говорил: «Ты скоро танки возле моего дома поставишь». По требованию начальника ленинградского НКВД еще с осени 1933 года охрана Кирова была усилена. Помимо двух сменявших друг друга телохранителей его охраняли и негласные агенты (среди них были швейцар дома № 26/28 по Красным Зорям, где жил Сергей Миронович). Всего жизнь Кирова оберегало 15 человек, а во время поездок его сопровождала автомашина прикрытия. Тем не менее нелюбовь Кирова к слишком, по его мнению, назойливой заботе о его безопасности могла побудить того же Борисова следовать за своим объектом в некотором удалении, чтобы не попадаться Кирову на глаза и не раздражать его. Тем самым телохранитель невольно помог Николаеву реализовать свой замысел. Впрочем, даже если бы Борисов действительно следовал тенью за Кировым, это не обязательно предотвратило бы покушение. Николаев мог выстрелить Кирову в лицо, а не в затылок. Правда, учтем, что наверняка это было первое убийство в жизни Николаева, которому повоевать так и не довелось. Поэтому ему было бы трудно убивать свою жертву, глядя ей прямо в глаза (даже опытные палачи предпочитают завязывать глаза приговоренным). Но Леонид Васильевич также мог спокойно пропустить вперед и Кирова, и Борисова (если бы телохранитель шел сразу за Сергеем Мироновичем), а потом со спины расстрелять обоих. Оплошность Борисова лишь облегчила его задачу.
После ареста первый допрос Николаева провел заместитель начальника Ленинградского управления НКВД Ф. Т. Фомин. Дело происходило уже в «Большом доме» на Литейном, 4, где помещалось управление. Впоследствии Фомин так характеризовал поведение подследственного: «Убийца долгое время после приведения в сознание кричал, забалтывался и только к утру стал кричать: „Мой выстрел раздался на весь мир“». Чекисты съездили на квартиру к Николаеву (Лесной проспект, 13/8, кв. 41), где нашли его дневник, во многом прояснивший мотивы убийства. Туда Леонид Васильевич записывал свои мысли и впечатления, чаще всего без хронологической привязки. После скандала в институте коммунист «ленинского призыва» в коммунизме решительно разочаровался, утверждая, что «коммунизма и за 1000 лет не построить».
Пожалуй, чем-то Николаев напоминает инвалида-философа Жачева из повести Андрея Платонова «Котлован». Тот тоже в финале признавался: «Я теперь в коммунизм не верю!» На неверие платоновского героя толкнула смерть невинной девочки Насти при рытье непонятно для чего предназначенного котлована, символизирующего социалистическое строительство. И реагирует он на гибель ребенка весьма своеобразно – решением убить местного руководителя: «Я урод империализма, а коммунизм – это детское дело, за то я и Настю любил. Пойду сейчас на прощанье товарища Пашкина убью». Платонов, окончивший повесть в апреле 1930 года – за четыре года до того, как Николаева уволили из института и тем зародили у него мысль убить кого-нибудь из руководства, – размышлял о перспективах социализма, который когда-то был кровным для него делом: «Погибнет ли эсесерша подобно Насте или вырастет в целого человека, в новое историческое общество? Это тревожное чувство и составило тему сочинения, когда его писал автор. Автор мог ошибиться, изобразив в смерти девочки гибель социалистического поколения, но эта ошибка произошла лишь от излишней тревоги за нечто любимое, потеря чего равносильна разрушению не только всего прошлого, но и будущего».
Николаев платоновский «Котлован», разумеется, никогда не читал. И на отрицание коммунизма его толкнула отнюдь не слезинка невинного ребенка, а вполне прозаическое увольнение с престижной и необременительной службы и суровое взыскание по партийной линии. Но вот реакция у него была, точно, жачевская: кого-нибудь убить. Кого именно, Николаев размышлял довольно долго. Среди возможных кандидатур Леонид Васильевич записал в дневнике непосредственного обидчика – директора института Лидака, а также второго секретаря Ленинградского обкома – Чудова, но в конце концов пришел к обоснованному выводу: «лучше всего Кирова». Как-никак фигура заметная – член Политбюро, секретарь ЦК. Наверняка войдешь в историю. Правда, с точки зрения истории лучше было бы (во всех смыслах) убить самого Сталина. Однако Николаев реалистически оценивал свои возможности. Иосиф Виссарионович далеко, в Москве, в Кремле, до него рядовому ленинградскому партийцу, да к тому же безработному, никак не добраться. А Мироныч свой, ленинградский, можно сказать, под боком. Чтобы войти в историю, встать в один ряд с Желябовым и Радищевым (а именно с ними сравнивал себя Николаев в дневнике, хотя автор «Путешествия из Петербурга в Москву», слава богу, никого не убивал), хватит и одного точного выстрела в Кирова. Над тем, что последует за этим выстрелом, Леонид Васильевич, очевидно, толком не задумывался. В октябре 1934 года он записал: «Я на все теперь буду готов, и предупредить этого никто не в силах. Я веду приготовление подобно Желябову». А в прощальном письме горячо любимой матери накануне покушения признается: «Я сижу пятый месяц без работы и без хлеба. Однако я силен, чтобы начатое мною дело довести до конца. Это исторический факт. Нет, я ни за что не примирюсь с теми, с кем боролся всю жизнь». Бороться убийце Кирова приходилось, как он говорил, с «бюрократами», с которыми он заводил склоки практически во всех учреждениях и на предприятиях, где довелось работать. Неуживчивый характер Николаева сильно мешал карьере, а именно продвижение по службе, похоже, до определенного момента составляло главную цель жизни будущего террориста. Потом главным стала подготовка громкого покушения, чтобы вся страна, весь мир узнали Леонида Васильевича Николаева. В письме-завещании к жене он утверждал: «Мои дни сочтены, никто не идет к нам навстречу. Вы простите меня за всё. К смерти своей я еще напишу Вам много».
Несомненно, себя Николаев расценивал очень высоко, а убийство одного из руководителей страны, по его замыслу, позволяло встать вровень чуть ли не со Сталиным (который действительно вынужден был снизойти до Николаева и лично допросить Леонида Васильевича на следующий день после выстрела в Смольном). Однако сколь ни была бы завышена николаевская самооценка, террорист прекрасно сознавал, что даже в случае успеха покушения шансов скрыться с места преступления у него не будет никаких. Поэтому Николаев готовился покончить с собой сразу после выстрела в Кирова. Однако застрелиться не удалось: случайно помешала брошенная монтером отвертка. Николаев оказался в руках чекистов, а потом в тюремной камере. К такому повороту событий он явно не был готов. Вся не слишком длинная жизнь Николаева доказывает, что это был человек не только неуживчивый, но и нервно неуравновешенный. А ведь даже для человека с крепкими нервами пребывание в тюрьме, в условиях несвободы – тяжелое испытание. Что уж тут говорить о Николаеве, который сразу после смерти Кирова впал в прострацию, а перед этим собирался покончить с собой. Тем более что в камере ему приходилось ожидать почти неминуемого расстрела.
Единственной отдушиной в тюрьме для Леонида Васильевича стало литературное творчество. Он много писал: автобиографический рассказ «Последнее прости», письмо «Дорогой жене и братьям по классу», «Политическое завещание» («Мой ответ перед партией и отечеством»). Одни только заголовки как будто бы однозначно свидетельствуют о политических мотивах, толкнувших Николаева на преступление. И содержание написанного свидетельствует о том же. Террорист жалуется на бездушных бюрократов, несправедливо уволивших его, говорит о неверии в светлое коммунистическое будущее, о высокой миссии в истории героев-народовольцев, о том, что он тоже готов не только разоблачить социальные язвы советского общества, но и пожертвовать жизнью ради восстановления социальной справедливости, выполнив свою историческую миссию.
На первых допросах, проводившихся в период с 1 по 6 декабря, Николаев категорически утверждал: «Совершил индивидуальный террористический акт в порядке личной мести»; «действовал один»; «совершил убийство в одиночку». 2 декабря в Смольном Николаева допрашивал сам Сталин в присутствии Молотова, Ворошилова, Жданова, Ягоды, Ежова и еще нескольких руководителей партии и НКВД. Во время допроса подследственный впал в состояние нервического шока, потом в истерику, никого не узнавал, кричал: «Я отомстил», «простите», «что я наделал». После возвращения из Смольного Николаеву оказывал помощь врач-невропатолог. Сохранился рапорт сотрудника НКВД (после того как Николаев в тюрьме пытался покончить с собой, в его камере было введено круглосуточное дежурство). Когда Леонид Васильевич немного пришел в себя после допроса Сталиным, он сообщил: «Сталин обещал мне жизнь, какая чепуха, кто поверит диктатору. Он обещает мне жизнь, если я выдам соучастников. Нет у меня соучастников». То, что «любимого вождя и учителя» террорист назвал диктатором, говорит в пользу политической подоплеки его выстрела. Однако существовала тогда и существует до сих пор еще одна версия, куда более романтическая.
Незадолго до смерти ее изложил в своих мемуарах «Разведка и Кремль» отставной генерал-лейтенант госбезопасности Павел Анатольевич Судоплатов. Предоставим ему слово: «Когда погибает перебежчик или кто-либо из политических деятелей, тут же начинают выдвигать самые разные версии ухода человека из жизни. Наиболее естественная причина смерти или логически объяснимый мотив убийства зачастую остаются погребенными под напластованиями лжи из-за недомолвок и взаимного сведения счетов.
Киров был убит Николаевым. Жена Николаева, Мильда Драуле, работала официанткой при секретариате Кирова в Смольном. Естественно, охрана пропускала Николаева в Смольный по партбилету. Кстати говоря, по партбилету можно было войти в любую партийную инстанцию, кроме ЦК ВКП(б). В Смольном, как и в других обкомах, не было системы спецпропусков для членов партии, и Николаеву требовалось только предъявить свой партбилет, чтобы попасть туда, куда был запрещен вход посторонним.
От своей жены, которая в 1933–1935 годах работала в НКВД в секретном политическом отделе, занимавшейся вопросами идеологии и культуры (ее группа, в частности, курировала Большой театр и Ленинградский театр оперы и балета, впоследствии Театр им. С. М. Кирова), я узнал, что Сергей Миронович очень любил женщин, и у него было много любовниц как в Большом театре, так и в Ленинградском. (После убийства Кирова отдел НКВД подробно выяснял интимные отношения Сергея Мироновича с артистками.) Мильда Драуле прислуживала на некоторых кировских вечеринках. Эта молодая привлекательная женщина также была одной из его „подружек“. Ее муж Николаев отличался неуживчивым характером, вступал в споры с начальством и в результате был исключен из партии. Через свою жену он обратился к Кирову за помощью, и тот содействовал его восстановлению в партии и устройству на работу в райком. Мильда собиралась подать на развод, и ревнивый супруг убил „соперника“. Это убийство было максимально использовано Сталиным для ликвидации своих противников и развязывания кампании террора. Так называемый заговор троцкистов, жертвой которого якобы пал Киров, с самого начала был сфабрикован самим Сталиным. Сталин, а за ним Хрущев и Горбачев, исходя из своих собственных интересов и желая отвлечь внимание от очевидных провалов руководства страной, пытались сохранить репутацию Кирова как рыцаря без страха и упрека. Коммунистическая партия, требовавшая от своих членов безупречного поведения в личной жизни, не могла объявить во всеуслышание, что один из ее столпов, руководитель ленинградской партийной организации, в действительности запутался в связях с замужними женщинами».
Официальные версии убийства, опубликованные в прессе, представляют собой вымысел от начала до конца. Сталинская версия заключалась в том, что Николаеву помогали руководители Ленинградского НКВД Медведь и Запорожец по приказу Троцкого и Зиновьева. Хрущевская же версия такова: Кирова убил Николаев с помощью Медведя и Запорожца по приказу Сталина. Но документы показывают, что Запорожец, считавшийся ключевой фигурой среди заговорщиков и якобы связанный с Николаевым по линии НКВД, в то время сломал ногу и находился на лечении в Крыму. Возникает вопрос: мог ли один из руководителей, готовивших заговор, отсутствовать так долго в самый решающий период трагических событий?
Хрущев, подчеркивая тот факт, что многие партийные руководители упрашивали Кирова выставить свою кандидатуру на пост Генерального секретаря на XVII съезде партии, и обвинял Сталина в том, что, узнав о существующей оппозиции, тот решил ликвидировать Кирова. Для Хрущева подобная версия давала возможность выставить еще одно обвинение в длинном списке преступлений Сталина. Документов и свидетельств, подтверждающих причастность Сталина или аппарата НКВД к убийству Кирова, не существует. Киров не был альтернативой Сталину. Он был одним из непреклонных сталинцев, игравших активную роль в борьбе с партийной оппозицией, беспощадных к оппозиционерам и ничем в этом отношении не отличавшихся от других соратников Сталина.
Версия Хрущева была позднее одобрена и принята Горбачевым как часть антисталинской кампании. Скрывая истинные факты, руководители пытались спасти репутацию коммунистической партии, искали фигуры, популярные в партии, которые якобы противостояли вождю. Создавался миф о здоровом ядре в ЦК во главе с Кировым в противовес Сталину и его единомышленникам.
Вся семья Николаева, Мильда Драуле и ее мать были расстреляны через два или три месяца после покушения.
Высшие чины НКВД, особенно те, кто был осведомлен о личной жизни Кирова, знали: причина его убийства – ревность обманутого мужа. Но никто из них не осмеливался даже заговорить об этом, так как версию о заговоре против партии выдвинул сам Сталин, и оспаривать ее было крайне опасно.
Среди историков партии давно бытовало мнение, что роман Мильды Драуле с Кировым закончился смертельным исходом из-за ревности ее мужа, Николаева, известного своей неуравновешенностью и скандальным характером. Материалы, показывающие особые отношения между Мильдой Драуле и Кировым, о которых я узнал от своей жены и генерала Райхмана, в то время начальника контрразведки в Ленинграде, содержались в оперативных донесениях осведомителей НКВД из ленинградского балета. Балерины из числа любовниц Кирова, считавшие Драуле своей соперницей и не проявившие достаточной сдержанности в своих высказываниях на этот счет, были посажены в лагеря за «клевету и антисоветскую агитацию».
Да, читать мемуары генерала Судоплатова – одно удовольствие. Человек, организовавший убийство одного из лидеров украинских националистов Евгена Коновальца (кстати, это прототип полковника Торопца, командующего корпусом облоги, из булгаковской «Белой гвардии») и самого Льва Давидовича Троцкого, бесспорно, обладал острым аналитическим умом. И знал немало. К судоплатовской оценке мифов, возникших в связи с убийством Кирова, просто нечего добавить. Автор почтительно снимает шляпу. Но, разоблачая политически ориентированные фантазии партийного руководства от Сталина до Горбачева, отставной генерал, отсидевший немалый срок по сфальсифицированному делу о заговоре Берии и реабилитированный только в 1991 году, уже после августовского путча, сам горячо поддерживает старый миф о будто бы существовавшей ревности Николаева к Кирову как основном мотиве убийства последнего.
Павел Анатольевич абсолютно прав, когда утверждает, что покушения на более или менее известные персоны тотчас обрастают слухами и, я бы сказал, неким стандартным набором версий. И в этом наборе ревность, как правило, стоит на первом месте. В случае же с Кировым слухи об интимных отношениях между женой Николаева с лидером ленинградских коммунистов должны были возникнуть совершенно неизбежно. Дело в том, что Сергей Миронович действительно пользовался репутацией заядлого донжуана. В этом Судоплатов опять-таки прав.
Не так давно один знакомый рассказывал, что когда в начале 80-х годов в музее Кирова в Астрахани, обороной которой он руководил в годы Гражданской войны, стали реставрировать знаменитый кировский кожаный диван, то внутри под обшивкой обнаружили – что бы вы думали? – не один десяток дамских шпилек. Выходит, Сергей Миронович и в тяжелое время борьбы с белогвардейцами геройствовал не только на военном фронте, но и на любовном. И недаром ленинградский балет, по многочисленным свидетельствам, называли кировским еще при жизни вождя местных коммунистов, поскольку к тамошним балеринам он действительно был неравнодушен. А вот насчет балерин Большого театра Судоплатов, пожалуй, преувеличил. Бывший разведчик и террорист, он в своей второй жизни, уже после увольнений из органов, стал человеком сугубо мирной профессии – детским писателем, и, очевидно, его увлек полет творческой фантазии. Как мы убедимся дальше, Киров в Москву наезжал очень редко, манкировал даже большинством заседаний Политбюро. Мягко говоря, сомнительно, чтобы у него тут оставалось время еще и на шашни с балеринами Большого.
Слухи же о том, что Мильда Драуле была любовницей Кирова, по Ленинграду ходили. Только возникли они на следующий день после выстрела Николаева. Так, например, был исключен из партии фрезеровщик завода «Светлана» Петр Иванович Березинин, ставший большевиком еще в боевом 18-м. Исключен «за распространение клеветнических слухов, порочащих С. М. Кирова». Вся вина несчастного Петра Ивановича заключалась в том, что 2 декабря, узнав о происшествии в Смольном, он имел неосторожность заявить в разговоре с товарищами (среди которых, несомненно, был кто-то, кому по должности полагалось слушать очень внимательно): «Киров убит на почве ревности». За то же самое поплатился и слесарь госзавода № 4 Франц Адамович Ранковский, сказавший кому-то, будто «Сергей Миронович Киров был убит Николаевым из-за ревности к жене». Стоит ли говорить, что ни фрезеровщик, ни токарь с Леонидом Николаевым и Мильдой Драуле знакомы никогда не были, о существовании Николаева узнали из газет и, на свою беду, по классической схеме сконструировали показавшийся убедительным мотив преступления. Ведь слухи о любовных похождениях Мироныча наверняка были распространены в городе еще при его жизни.