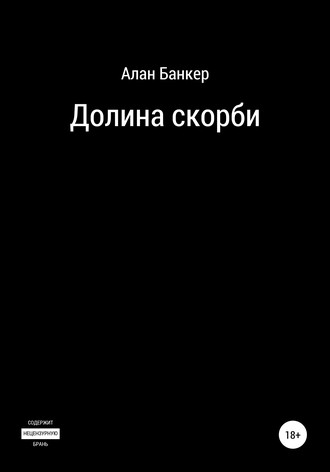
Полная версия
Долина скорби
КАЛУМ
Бледно-красное зарево, оставшееся на горизонте после захода солнца, неумолимо таяло, уступая место глубокой синеве. Со стороны Рогатого залива потянул западный ветер. Где-то вдали раздался собачий вой, протяжный, заунывный, ничего хорошего не предвещавший. Против обыкновения он не был поддержан ни одной собакой, словно все они в раз повымерли. Впрочем, довольно скоро в небе объявился полумесяц, сопровождаемый свитой из мириад звезд, а вслед за ними подтянулись и собаки. Под остервенелый собачий лай то здесь, то там зажигались ночные светильники, выхватывая из темноты силуэт огненной саламандры. То был Миддланд, столица Срединного королевства, прозываемый городом саламандры, а его жители – детьми саламандры. Протянувшись с северо-запада на юго-восток на добрых два десятка миль, город словно вползал на холм, обращая взгляд в морскую даль. В былые времена, когда Боги жили среди людей, а люди почитали Богов, Миддланд имел добрую славу, ибо среди стран пяти морей не было краше города, нежели столица Срединного королевства. Но, с тех пор много времени прошло, много воды утекло: дети саламандры забыли своих Богов, погрязнув в пороках, а город саламандры, задыхающийся от смрада, более не походил на город, поцелованный Богами.
Первым, что бросалось взгляду чужака, впервые оказавшегося в Миддланде, была Дозорная башня высотой в сто десять футов, венчающая голову саламандры. Возведенная на мысе, вдающемся в Рогатый залив на треть мили, башня опоясывалась крепостной стеной, окруженной с севера, запада и юго-запада бездной в пять с лишним сотен футов. Рогатый залив, богатый обилием скал, водоворотами и встречными течениями, не допускал и мысли штурмовать Миддланд с моря, ибо это было сродни самоубийству. Впрочем, как и у всякой неприступной крепости, у Дозорной башни имелось слабое место, каковым являлась восемнадцатифутовая стена, отделяющая крепость от города. Местами обветшалая, она была уязвима, как плоть, незащищенная броней. Массивная железная решетка в стене, и та не внушала уверенности, ибо механизм подъемного моста то и дело заедал, от чего мост частенько зависал надо рвом. Что до крепостного рва, то раньше он был заполнен водой
и кольями, теперь же был сух и гол, как земля на просторах Великой равнины.
За подъемным мостом находилась Безымянная площадь, застроенная богатыми домами. Отсюда свое начало брали Торговая, Южная и Ремесленная улицы, убегающие в юго-западном, южном и юго-восточном направлениях. В полумиле к востоку от площади находился Королевский замок, называемый жемчужиной Миддланда. Опоясанный внешним и внутренним кольцом крепостных стен, замок состоял из восьми башен, возведенных в честь славных деяний королей Аргуса и Эдмуна. Особняком стоял Королевский дворец – самое позднее крупное сооружение на территории Миддланда. К югу от Безымянной площади простирались торгово-ремесленные кварталы, окруженные стеной и рвом. Эта часть города имела Южные, Юго-Западные и Юго-Восточные ворота, иначе называемые Южной аркой, аркой Аргуса и аркой Эдмуна.
За Южными воротами простирались бедняцкие кварталы, застроенные трех- и четырехэтажными деревянными домами, походящими на бродяг, согревающихся спинами в холодные ночи. Покрытая переулками и кривыми улочками, эта часть Миддланда напоминала паутину, в которой мог сгинуть как пришлый человек, так и житель верхней части города. От обилия скотобоен, конюшен, свинарников и прочих достопримечательностей эта часть города называлась Задницей мира, ибо круглый год здесь стояла невообразимая вонь. Но, еще больше вони было у крепостного рва, куда через почву и подземные воды стекались нечистоты из верхней части города.
Довершали образ Миддланда четыре форта – два западных и два восточных, называемых лапами саламандры. Находясь в двух милях от города, они защищали ближние подступы к столице. Сооруженные из темно-серого камня, добытого в Скалистых берегах21, форты располагали бойницами, крепостными рвами и частоколами, вдвое превышающими человеческий рост. Каждый форт имел гарнизон в сотню бойцов городской стражи, и на случай осады имел провианта на три месяца. Правда, за тысячу лет существования Срединного королевства не было ни одного случая, чтобы кто-либо посмел проверить столичные форты на прочность, как, впрочем, и саму столицу.
– Ненавижу собак, – пробормотал Гэвин. – Будь моя воля, всех бы порешил.
Скрестив руки, он стоял на крыльце одноэтажного дома, мало походящего на богатые дома Безымянной площади. Выкрашенные в белый цвет стены резко контрастировали с красной черепичной крышей и зелеными оконными рамами, а витражная дверь и вовсе смотрелась нелепо.
– И чем они тебе не угодили? – спросил Калум.
– А я разве не говорил, что со мной приключилось на той неделе?
– Как же не говорил, говорил, – ответил Калум, обнажив в улыбке стройный ряд белых, как жемчуг, зубов.
– Чего зубы скалишь!? – вскипел Гэвин, сжав кулаки.
Раздувая ноздри, точно бешеный бык, готовый ринуться в бой, он смотрел на Калума безумным взглядом. Калум же, напротив, не выказывал ни толики беспокойства.
– Как же не скалить, когда твое воображение подобно Бескрайнему морю22, не знающему берегов?!
– О чем ты говоришь?
– О, Боги! – воскликнул Калум, запрокинув голову. – Воистину люди говорят, нет Бога в голове, нет места и разуму!
– Я тебя не понимаю, говори яснее!
Голос Гэвина дрогнул, как содрогается грудь воина, вкладывающего вес тела в удар меча. Проводив взглядом падающую звезду, Калум склонил голову и ухмыльнулся в лицо Гэвину, продолжая испытывать судьбу.
– Помнится, в первый раз ты говорил о двух собаках, накинувшихся на тебя посреди ночи. Затем ты брякнул о восьми собаках, и, боюсь, мой друг, сейчас я услышу рассказ про то, как ты задал жару дюжине собак, а то и того больше.
Не найдясь, что ответить, Гэвин отвел взгляд в сторону, будто согласившись с этими доводами. Собачья перебранка прекратилась, уступив место крикам, доносящимся из таверн и борделей. Ночная жизнь в Миддланде вступала в свои права. Вонь, стоявшая над городом весь день, под напором западного ветра стремительно отступала на юг, уступая место ночной прохладе.
– Ты случаем не знаешь, зачем нас призвали? – спросил Калум, прервав затянувшуюся паузу.
– А что, сам не догадываешься? – парировал Гэвин.
– Нет.
– Значит, узнаешь, осталось…
Сдавленный крик, раздавшийся в доме, прервал Гэвина на полуслове. Затем послышались приглушенные голоса, скрип половиц и легкие шаги. Дверь скрипнула и открылась наружу в тот самый миг, когда мимо них стрелой пронеслась ночная птица.
– Держите, Калум, – раздался женский голос.
Из дверного проема появились тонкие изящные руки, держащие сверток из серого одеяла.
– Мне? – удивился Калум, оторвавшись от стены.
– Это пожелание миледи, – сказала женщина. – До третьих петухов вы должны вернуться в замок, вам все ясно?
Переглянувшись с Гэвином, Калум неуверенно взял из рук женщины сверток, в котором мирно посапывал младенец. При виде сморщенного, как скомканный лист бумаги, пунцового лица младенца, он ощутил боль в сердце, которую уже успел подзабыть.
– Куда уж яснее, – ответил Калум с досадой в голосе, ибо ожидал всякое задание, но не такое.
– Калум, дружище, поздравляю! – воскликнул Гэвин, изобразив на лице радость. – Ее Величество…
– Гэвин, – буркнула женщина.
– Ох, Клодия, прости старого дурака, – улыбнулся Гэвин. – Я хотел сказать, миледи оказала тебе большую честь.
Протянув мясистую пятерню, он попытался пожать Калуму руку, но тот не выказал подобного желания, нарочито глядя на Клодию.
– Ну, господа, – сказала Клодия. – Ночь коротка, а дорога не близкая, а посему – в добрый путь.
Так и не выйдя на крыльцо, она затворила дверь и растворилась в недрах дома. Снова послышались голоса, что-то упало, затем раздался стук. Боковая дверца отворилась и в свете луны объявилась четверка крепких мужчин, несущих паланкин. Шестеро вооруженных людей, одетых просто и неброско, отклеились от стен соседних домов и присоединились к процессии, державшей курс на Королевский замок. Когда их след простыл, Гэвин осклабился и подступил к
Калуму, посмотрев на него сверху вниз.
– Что, так руки и не подашь? – спросил он, дыхнув запахом гнилых зубов.
– Нет, не подам.
– А что так?
– Ты не хуже меня знаешь, что большая честь, это сразиться с достойным соперником и умереть в бою. Принести дитя в жертву Богам это не честь, это…
Не найдя подходящего слова для описания собственных мыслей, Калум крепче сжал сверток и сошел с крыльца.
– Преступление, ты хотел сказать? – закончил Гэвин мысль.
Сойдя с крыльца вслед за Калумом, он вперил в него сверлящий взгляд синих глаз, холодных, как снега Нортланда, откуда он бежал десять с лишним лет тому назад. Держатель таверны в третьем поколении, Гэвин, прозываемый Мясником Гэвином, от тягот жизни ступил на скользкую дорожку, занявшись грабежами и убийствами постояльцев. Дождавшись ухода постояльца, он пускал по его следу, будто гончих, своих сыновей, строго-настрого наказывая, чтобы постояльца отправляли в мир Богов в окрестностях соседней таверны. Тем самым он убивал двух зайцев, отводя от себя подозрения и подводя под виселицу конкурентов. Как это зачастую бывает, план, каким бы он ни был идеальным, и тот может дать осечку. Напав однажды на постояльца, которым оказался наемник из псов Риверлока23, его сыновья были убиты, а их головы доставлены властям. Гэвину ничего не оставалось делать, как бежать в Миддланд, где он открыл таверну и сколотил шайку из воришек и убийц. Довольно скоро о его делах прознала королева и, после тайной аудиенции он был приглашен на службу Ее Величества в качестве вершителя судеб. Так прозывали убийц, отправляющих в мир Богов неугодных Ее Величеству людей.
– Да, преступление. То, что Боги жаждут человеческих жертв, нигде не говорится.
– Как и то, что Боги против жертв! Пойми, не принеси младенца в жертву, Ее Величеству не жить, ни тебе ли о том знать!?
– Ты столь наивен, что я диву даюсь.
– О чем ты?
– О том, что никто не знает, приносят ли детей в жертву Богам.
– Как так!?
– Я слышал многое из такого, что твоим ушам это не понравится.
– А ты скажи, а понравится или нет, ни тебе решать.
– Ну что ж… не иначе, как год тому назад услышал одну занимательную историю, как последнего королевского отпрыска
жрецы продали хирамскому купцу.
– Не может быть!
– Может, и это не первый случай. Люди говорят, что жрецы на их глазах продавали их же детей работорговцам и держателям борделей, набивая золотом карманы. Какова их судьба, одним Богам известно.
– Это все ложь! – возмутился Гэвин, чей голос задрожал, точно осенний лист на ветке. – Никто про то не знает, ни я, ни ты, никто не знает, уяснил!?
Всякий раз, слушая россказни о жрецах, он начинал вскипать как суп в котле, ибо искренне считал их божьими слугами. Хуже обстояли дела, если человек непочтительно отзывался о Богах. Приходя в неистовство, он вставал на их защиту с кулаками, оприходывая безбожника от всей души. Так и жили в нем душа убийцы и вера в Богов, не мешая существовать друг другу.
– Дурак, и зачем я тебе все это говорю?
Сплюнув, Калум ступил на Торговую улицу, взяв курс на Храм Хептосида. Однако, не пройдя и пары кварталов, Калум остановился и кивнул на переулок по левую от себя руку.
– Надо бы свернуть, – сказал он.
– Зачем? – спросил Гэвин, с опаской глянув на Мясницкий переулок, обладавший дурной славой.
Вонь, исходившая от требухи и отрезанных голов скотины, гнивших на мостовой днями напролет, говорила о том, что в переулке обитают мясники, а по соседству находится мясной рынок. Помимо требухи и голов скотины здесь частенько находили и трупы людей. Обычное для здешних обитателей зрелище, когда вместе с останками животных в телеги загружают трупы людей, у жителей других кварталов вызывало ужас.
– Так короче.
– А так прямо! – воскликнул Гэвин, махнув рукой на Торговую улицу.
– А я говорю, так короче… хотя, если хочешь, ступай, я не волен
тебя удерживать.
Не дожидаясь ответа, Калум свернул в переулок и растворился в темноте.
– А что, и пошел бы, – процедил Гэвин. – Да вот не могу, Ее Величество прознает, головы мне не сносить.
Вздохнув, он нырнул в темноту вслед за тем, кому этой ночью так нежданно повезло. Поручив Калуму собственное дитя, Ее Величество оказало ему особое доверие, которого он, Гэвин, не смог добиться и за десять лет безупречной службы.
Обходя кучи дерьма и потрохов, они смотрели под ноги с широко раскрытыми глазами. Тишина, окружающая их со всех сторон, казалась мертвой, будто все жители переулка передохли, как мухи по осени. Но, то было видимостью, ибо добравшись до середины переулка, они услышали над головами голоса. Что-то упало, отозвавшись гулким эхом, а затем резко распахнулось окно, будто на свободу вырвался ветер, прежде заточенный в доме.
– Берегись! – раздался резкий женский голос и на мостовую полетели помои.
– Чтоб тебя! – вскричал Калум.
Бросив взгляд на забрызганные полы плаща, он посмотрел на младенца, продолжавшего спать, как ни в чем не бывало. Наградив худосочную женщину гневным взглядом, он поправил меч на правом боку, перешагнул помои и продолжил путь. Что до женщины, то она в ответ смачно сплюнула и с грохотом затворила окно.
– Ты с ним так церемонишься, будто это твой сын, – заметил Гэвин.
– Я только отдаю ему должное, – ответил Калум. – Как ни крути, это человеческое дитя.
– Как по мне, так ублюдок, как и те, что были до него.
– Ублюдок, не ублюдок, а дети ни в чем не повинны, и я на том стою. Если тебе это не по нраву, можешь проваливать на все четыре стороны!
– Все в чем-то повинны, вот, моя матушка, та еще…
– Постой-ка, – оборвал Калум напарника. – Ты это слышал?
Остановившись, он вслушался в тишину, но, ничего, кроме отдаленных криков не услышал.
– Здесь кроме нас, да этого ублюдка, никого нет, – проговорил Гэвин, пожав плечами.
– Значит, показалось. Так что там твоя матушка?
Улыбнувшись, Калум сделал шаг-другой, и незаметно от напарника запустил руку в складки плаща.
– Она любила поговаривать, что будь у нее дар предвидения, то забрала бы мою жизнь, удушив прямо в детской кроватке, каково, а!?
– Значит, было за что?
– Не буду спорить, водились грешки, – улыбнулся Гэвин. – Утопить кошку, да обнести соседа, как на раз-два!
– А знаешь, это никогда не поздно исправить, – сказал Калум с плохо скрываемой угрозой.
На лице Гэвина мелькнула тень страха, и его рука потянулась к эфесу меча, но Калум оказался быстрее. Бледная сталь клинка, сверкнув в ночном воздухе, вырвала из глотки Гэвина крик.
– За что? – простонал Гэвин, схватившись за живот.
– Собаке собачья смерть, – ответил Калум, засовывая кинжал все глубже и глубже в живот напарника, пока тот не вошел по самый эфес.
Опустив взгляд, Гэвин побледнел, завидев, как сквозь пальцы сочится кровь, походящая на капли дождя, только-только набирающего силу. Пошатнувшись, он взмахнул рукой, словно ища опору, и не найдя таковой, завалился на мостовую, уткнувшись лицом в разложившийся кусок требухи.
– Будь ты проклят, – прохрипел он, судорожно хватая ртом воздух, точно рыба на отмели.
– Я уже проклят, ибо не уберег свою семью.
Положив королевское дитя на мостовую, Калум схватил Гэвина за ноги и потащил к канаве, проходящей посередине переулка. Преклонив колено, он схватил Гэвина за волосы и принялся его топить. Отплевываясь от нечистот, Гэвин из последних сил цеплялся за жизнь, а поняв, что все бессмысленно, довольно скоро прекратил сопротивление и расплылся в улыбке, вспомнив, как убивал собственную мать.
Уличив сына в воровстве булочки, испеченной на продажу, матушка схватилась за плеть и попыталась наказать его. Увернувшись от удара, Гэвин вырвал плеть из рук матери и оприходовал ее от всей души, вспомнив все, что она творила с ним прежде. Насладившись местью, он подтащил мать за волосы к бочке вина и довершил дело, утопив ее в отвратительном пойле, раз и навсегда освободившись от страха, преследовавшего его с самого детства. Теперь же, валяясь в
канаве, наглотавшись дерьма и требухи, он умирал подобной
смертью.
– Чему радуешься, ублюдок? – спросил Калум.
Поймав взгляд убийцы, Гэвин скривил губы в злобной ухмылке.
– Радуюсь скорой встрече в мире Богов.
– Не надейся, встреча будет не скорой.
Взметнув руку, Калум вонзил в спину Гэвина кинжал, а затем извлек его и вытер о безрукавку напарника. Поднявшись, он направился к младенцу, оставив жертву подыхать в канаве.
– Врешь, встреча будет скорой, – прошептал Гэвин, пуская кровавые пузыри.
Холод, колючий, как снега Нортланда, расползался по его телу с ужасающей быстротой. Закрыв глаза, Гэвин провалился в темноту, ощутив через мгновение, как ноги отрываются от земли и он куда-то летит. Собрав волю в кулак, он приоткрыл глаза и узрел над собой рой мух, жужжавших в предвосхищении свежего мяса.
– О, Боже, – прошептал он и отдал концы.
ДВЕ СТРЕЛЫ
Первое, что бросалось в глаза при въезде в Миддланд, был массивный, квадратный в сечении, путевой столб с четырьмя почерневшими от времени табличками: левая табличка указывала на Драконий мыс24, правая на Вестхарбор, а те, что по центру, указывали на Миддланд и Соутхиллс, последний из которых находился далеко на юге. В полусотне шагов от столба располагался бордель «Две стрелы», славившийся богатым разнообразием плотских утех. Всякий, кто захаживал в бордель госпожи Делиз, так прозывали хозяйку борделя, мог постигнуть всю глубину порока, о которой только мог помышлять.
Двухэтажный, светло-серый особняк госпожи Делиз напоминал собой песчаный островок посреди красного моря. Шумящие на ветру заросли маргариток, бегоний и бальзамина походили на морские волны, накатывающие на забор, окрашенный в ядовито-красный цвет. Красное море плескалось и за дубовой дверью борделя: вся мебель была красного цвета, словно ее окунули в краску, дали подсохнуть на солнце и затем разместили в гостиной борделя. Под стать были и обои, изобилующие цветами ярко – и бледно красного цвета. Второй этаж, на который вела широкая ажурная лестница, от первого этажа ничем не отличался, все те же яркие и бледно-красные тона: обои, потолки, затянутые тканью, и, конечно же, кровати, используемые для плотских утех. И, лишь зеленая ковровая дорожка, проходящая посередине коридора, выбивалась из общего ряда. Со двора к борделю примыкала конюшня, рассчитанная на десяток лошадей, не более. Покидая Концевую улицу, последнее, что видел человек, была конюшня госпожи Делиз. По этой причине кончиком хвоста саламандры прозывали как конюшню госпожи Делиз, так и саму Концевую улицу. Застроенная двухэтажными домами, она связывала Миддланд с Королевским трактом – главной дорогой королевства, убегающей на юг на сотни и сотни миль.
– Эй, хозяйка, принимай товар! – заорал Силас, перегородив
калитку телегой, запряженной парой гнедых лошадей.
Взирая на дверь борделя, он то и дело отвлекался на тени, мелькавшие в окнах второго этажа. Стоны и крики, доносившиеся из окон, могли взбудоражить сознание любого, но только не Силаса, поверенного в делах госпожи Делиз: любовь к элю и звону монет, вот те две страсти, которые владели его умом.
– Чего орешь, дурень! – отозвалась госпожа Делиз, появившись на пороге борделя. – Клиентов распугать мне хочешь?
– Как же, распугаешь их, – пробормотал Силас.
– Не бубни под нос, я тебя не слышу.
– Я говорю – хороший нынче вечер!
– Будет хорошим, если сгинешь с моих глаз долой! Где черный вход, я надеюсь, ты не позабыл?
– Нет, не позабыл, поди, еще не дурак. Ты, вот что, хозяйка, выйди, да посмотри, какой подарок я тебе привез.
Похлопав по куску парусины, натянутой поверх телеги, Силас обнажил в улыбке великолепный ряд хищных зубов, представив на лице хозяйки удивление.
– Мне некогда, – бросила госпожа Делиз, собравшись, было уходить.
– Ну же, выйди, кому говорю!
– Ну, Силас, смотри у меня.
Погрозив пальцем, госпожа Делиз сошла с крыльца и, припадая на левую ногу, неспешным шагом направилась к калитке.
– Ну как, хорош подарок? – спросил Силас, откинув передний
край парусины, под которым оказалась девушка лет пятнадцати, спящая посреди тюков с хирамским шелком.
Стройная, черноволосая, с острыми чертами лица, она привлекала внимание нездоровой худобой и большой грудью. Платье из бледно-голубой парчи, схваченное под грудью широким бархатным поясом алого цвета только подчеркивало точеную фигурку девушки. Правда, всю картину портили темные круги под глазами, рассеченная нижняя губа, синяки на лице и грязные взъерошенные волосы, в которых виднелись остатки водорослей. Вдобавок ко всему на шее девушки были видны темные пятна, будто ее пытались задушить.
– Подарок, не плох, – сказала госпожа Делиз с сомнением в голосе. – Да только подпорченный, а я, как ты знаешь, за такой товар не плачу.
– Ну как же, как же подпорченный товар!? – вскричал Силас.
Гнев и досада проступили на его лице, прогнав улыбку: протянув трясущуюся руку к девушке, он стащил с ее живота тюк и со злостью
отбросил его в сторону. Перекатившись через пару тюков, он подскочил и перевалился через борт телеги, упав на пыльную мостовую.
– Дурак, – буркнула госпожа Делиз, проследив за тюком. – Моли Богов, чтоб на шелке не оказалось ни пятнышка, иначе… я с тебя три шкуры сдеру!
Прочный и мягкий на ощупь хирамский шелк ценился на вес золота, ибо прекрасно защищал от солнца и кровососущих тварей. Об этом знали все, включая госпожу Делиз. Силас, будучи ее поверенным, занимался скупкой шелка для последующей перепродажи в Миддланде, попутно привозя с юга хирамских рабынь. По крайней мере, так ему представляли пленниц тамошние разбойники, что степняки, что ракушники.
– Ох, женщины, – с горечью в голосе усмехнулся Силас, покачав головой. – Все у вас на уме тряпки, да безделушки. Ты вот что, лучше сюда глянь.
Ткнув пальцем в живот девушки, он заулыбался, позабыв о гневе и досаде. Оторвав взгляд от тюка, хозяйка посмотрела на девушку и в тот же миг просветлела.
– Не иначе, седьмой месяц, а может и того больше, – прикинула госпожа Делиз.
Пустившись в размышления, она прикидывала, какую выгоду извлечет из несчастной через месяц-другой.
– Хозяйка, – сказал Силас, прервав размышления госпожи Делиз. – Ну, как тебе подарок?
– Знаешь, как ублажить свою хозяйку. Даю шиллинг, на большее не рассчитывай!
– Хозяйка, как же так!? Я столь трудный путь преодолел, и всего-навсего шиллинг?
Улыбка, слетев с лица Силаса, уступила место досаде. На подходе был и гнев, ибо его уши запылали огнем, а губы затряслись, будто от холода.
– С тебя и того много, ибо товар подпорчен. Так что, берешь деньги или нет?
Вперив в поверенного насмешливый взгляд, которым смотрят на человека падшего или человека низкого происхождения, госпожа Делиз всем видом показывала, что это ее последнее слово.
– Ладно-ладно, хозяйка, твоя взяла! – поторопился с ответом Силас.
Иного он и не мог сказать, ибо полностью зависел от хозяйки, державшей его на коротком поводке. Семь лет тому назад, потеряв дом, отобранный за долги, Силас был изгнан из Почетной компании суконщиков и пополнил ряды бродяг. Обивая пороги домов, он два дня проблуждал по Миддланду, пока не оказался на пороге борделя «Две стрелы». Узрев голодного, исхудалого человека с протянутой рукой, госпожа Делиз, питающая странную любовь к увечным и обездоленным, сжалилась над ним. Получив место уборщика, Силас открыл новую страницу в своей жизни, да так лихо, что уже через месяц был переведен в садовники. Проявляя большое радение к труду, он за какие-то полгода успел побывать и конюшим, и смотрителем борделя, пока не стал поверенным в делах госпожи Делиз. И, все бы ничего, если бы не любовь к элю и благородному металлу, ибо первая губила его желудок, а вторая извращала душу.
– Скажи-ка, а есть ли у подарка имя?
– Кто же ее знает, но, в бреду, она не раз произносила имя Тармиса.
– Странное имя.
– Имя как имя.
– Ладно, пусть будет Тармиса. Отнеси подарок на второй этаж, хотя, зачем я тебе это говорю?
Кивнув в ответ, Силас причмокнул на лошадей, но, те не подчинились. Зыркнув на госпожу Делиз, он схватился за кнут и вложил в удар всю душу, точно хотел выместить на лошадях всю злость на хозяйку. Взбрыкнув, лошади издали недовольное ржание и тронулись с места.
– Да, и тетушку Мэй позови! – крикнула госпожа Делиз вдогонку.
– А на что тебе шлюхи?
– Не спорь, сказала, позови, значит позови.
– Не надо никого звать, – сказала тетушка Мэй, объявившись за спиной хозяйки.
– А, это ты, – обронила госпожа Делиз, окинув тетку взглядом с головы до ног.

