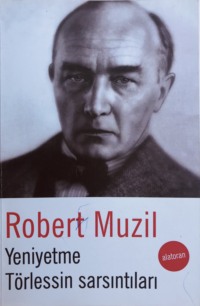Полная версия
Человек без свойств. Том 1
Но, действуя так умно, граф Лейнсдорф не учитывал одного. Не только такой человек, как он, видел то истинное, что нам нужно, но и несметное множество других людей мнит, что они обладают истиной. Это можно, пожалуй, назвать отвердевшей формой того вышеупомянутого состояния, в котором еще прибегают к сравнениям. Раньше или позже пропадает радость и от них, и тогда многие, в ком застревает толика окончательно неудовлетворенных мечтаний, облюбовывают себе какую-то одну точку, в которую тайно вперяются, словно там начинается мир, недоданный им. Уже вскоре после распространения своей информации через газету его сиятельство, как ему показалось, заметил, что все, у кого нет денег, носят в себе взамен какого-то неприятного сектанта. Этот своенравный человек в человеке ходит с ним по утрам на службу и вообще никаким действенным образом не может протестовать против хода вещей, но зато он всю свою жизнь не отрывает глаз от одной тайной точки, никем другим упорно не замечаемой, хотя там-то явно и начинаются все беды мира, который не узнает своего спасителя. Такими облюбованными точками, где центр тяжести личности совпадает с центром тяжести мира, являются, например, плевательница, запирающаяся простым движением руки, или отмена в ресторанах солонок, в которые лезут ножами, благодаря чему одним махом приостанавливается распространение бичующего человечество туберкулеза, или введение стенографической системы «Эль», решающей заодно, благодаря беспримерной экономии времени, и социальную проблему, или пропаганда естественного, останавливающего повсеместное опустошение земли образа жизни, но также и какая-нибудь метафизическая теория движения небесных тел, упрощение административного аппарата или какая-нибудь реформа половой жизни. Если обстоятельства благоприятствуют человеку, он ублажает себя тем, что в один прекрасный день пишет книгу о своем пунктике, или брошюру, или хотя бы газетную статью и этим как бы подшивает к делам человечества протокол своего протеста, что невероятно успокаивает, даже если написанного им никто не читает; но обычно это кого-нибудь да привлекает, и такие люди уверяют автора, что он новый Коперник, после чего представляют ему себя как непонятых Ньютонов. Этот обычай взаимовычесывания пунктиков очень благотворен и распространен, но действует недолго, потому что участники вскоре ссорятся и остаются опять совершенно одни; случается, однако, что тот или иной собирает вокруг себя небольшой круг поклонников, которые единодушно клянут небо за то, что оно не оказывает достаточной поддержки помазанному своему сыну. И если на такие кучки с пунктиками вдруг упадет луч надежды с заоблачной высоты, как то случилось, когда граф Лейнсдорф позволил публично заявить, что австрийский год, если таковой действительно состоится, хотя последнее еще неизвестно, будет во всяком случае отвечать истинным целям бытия, – если на них вдруг упадет луч надежды, то они воспринимают это как святые, которым посылает видение Бог.
Граф Лейнсдорф полагал, что его детище будет мощной демонстрацией, поднимающейся из самой гущи народа. Он думал при этом об университете, о духовенстве, о некоторых именах, всегда фигурировавших в отчетах о благотворительных начинаниях, думал даже о газетах; он принимал в расчет патриотические партии, «здравый смысл» буржуазии, вывешивающей флаги в день рождения кайзера, и поддержку финансовых тузов, принимал он в расчет и политику, втайне надеясь сделать именно ее, благодаря своему великому детищу, излишней, привести к общему знаменателю «отчая земля», который он намеревался позднее разделить на «землю», чтобы единственным итогом остался властитель-отец; но об одном его сиятельство не подумал, и он был поражен широко распространенной потребностью улучшить мир, которая от тепла великого случая созревает, как яйца насекомых во время пожара. Этого его сиятельство не принял в расчет; он ожидал очень большого патриотизма, но он не был подготовлен к открытиям, теориям, системам мира и людям, требовавшим от него освобождения из духовных тюрем. Они осаждали его дворец, славили параллельную акцию как возможность помочь наконец прорваться правде, и граф Лейнсдорф не знал, что ему с ними делать. Сознавая свое общественное положение, он ведь не мог сесть со всеми этими людьми за один стол, а с другой стороны, как человек высоконравственного ума, не хотел их избегать, и, поскольку образование у него было политическое и философское, но отнюдь не естественное и не техническое, он никак не мог разобраться, есть ли в этих предложениях что-то дельное или нет.
В этой ситуации он все сильней тосковал по Ульриху, рекомендованному ему как именно тот человек, в котором он нуждался, ибо его секретарю, да и вообще любому обыкновенному секретарю, такие задачи были, конечно, не по плечу. Один раз, очень уж рассердившись на своего служащего, он даже помолился Богу, – хотя на следующий день устыдился этого, – чтобы Ульрих наконец явился к нему. И, когда этого не последовало, его сиятельство сам начал систематические розыски. Он велел заглянуть в адресный справочник, но Ульриха там еще не было. Затем он направился к своей приятельнице Диотиме, которая обычно знала, как быть, и в самом деле, эта восхитительная женщина уже успела поговорить с Ульрихом, но она забыла узнать, где он живет, или сослалась на это, чтобы воспользоваться случаем и предложить его сиятельству другую, куда лучшую кандидатуру на пост секретаря великой акции. Но граф Лейнсдорф был очень взволнован и решительно заявил, что уже привык к Ульриху, что ему не нужен пруссак, хотя бы и пруссак-реформатор, и что он вообще не хочет больше никаких осложнений. Он смутился, когда его приятельница показала ему, что обижена, и тут его осенила самостоятельная мысль; он объявил ей, что тотчас поедет прямо к своему другу, начальнику полиции, который, в конце концов, может добыть адрес любого подданного.
38. Кларисса и ее демоны
Когда пришло письмо Ульриха, Вальтер и Кларисса снова так бурно играли на рояле, что плясала тонконогая, фабричного производства художественная мебель и дрожали на стенах гравюры Данте Габриэля Россетти. Старику-посыльному, заставшему все двери открытыми и никем не задержанному, ударили в лицо громы и молнии, когда он пробрался к гостиной, и священный гул, в который он вступил, заставил его благоговейно прижаться к стене. Освободила его Кларисса, разрядив наконец двумя мощными ударами неунимавшийся музыкальный восторг. Пока она читала письмо, прерванный поток еще лился, извиваясь, из рук Вальтера; мелодия побежала, дергаясь, как аист, а потом расправила крылья. Кларисса недоверчиво следила за этим, разбирая записку Ульриха.
Когда она сообщила Вальтеру о предстоящем приходе их друга, он сказал: «Жаль!»
Она снова села с ним рядом на вращающийся табурет, и улыбка, которую Вальтер почему-то нашел жестокой, разомкнула ее чувственные с виду губы. Это был тот миг, когда играющие задерживают ток крови, чтобы начать в одном ритме, и оси глаз торчат у них из голов, как четыре одинаково направленных длинных стержня, а седалищами они напряженно удерживают на месте всегда норовящий качнуться на длинной шее своего винта табурет.
В следующий миг Кларисса и Вальтер уже рвались вперед, как два несущихся рядом локомотива. Пьеса, которую они играли, летела им в глаза, как сверкающие полосы рельсов, исчезала в грохочущей машине и ложилась позади них звенящим, слышимым, никуда каким-то чудом не отступающим ландшафтом. Во время этой неистовой езды все, что чувствовали эти два человека, сжималось воедино; слух, кровь, мышцы безвольно отдавались одному и тому же ощущению; мерцающие, клонящиеся стены звуков направляли их тела в одну колею, сгибали их разом, расширяли и теснили грудь единым вздохом. В одни и те же доли секунды Вальтера и Клариссу пронзали веселье, грусть, злость и страх, любовь и ненависть, желание и пресыщение. Это было слияние воедино, похожее на слияние в великом ужасе, когда сотни людей, еще только что во всем различных, одинаково гребут воздух руками, пытаясь убежать, издают одинаковые нелепые крики, одинаково разевают рты и таращат глаза, когда всех вместе бросает вперед и назад, влево и вправо бессмысленная сила, когда все вместе орут, трепещут, мечутся и дрожат. Но не было у этого слияния той тупой всеподавляющей силы, что есть у жизни, где подобное случается не с такой легкостью, но зато без сопротивления уничтожает все личное. Злость, любовь, счастье, веселье и грусть, которыми на лету проникались Кларисса и Вальтер, не были полными чувствами, а были только чуть большим, чем их взбудораженная до буйства телесная оболочка! Оцепенело и отрешенно сидели они на своих табуретах и не были ни на что злы, ни во что влюблены и ни о чем не грустили или же были злы, влюблены и грустили – каждый на что-то другое, во что-то другое и о чем-то другом, думали о разном и каждый о своем; веление музыки соединяло их в величайшей страсти и в то же время оставляло им что-то отсутствующее, как в насильственном сне под гипнозом.
Каждый из двоих ощущал это по-своему. Вальтер был счастлив и взволнован. Он, как большинство музыкальных людей, принимал эти бури, эти похожие на чувства внутренние волнения, то есть взбаламученную телесную подпочву души, за простой, соединяющий всех людей язык вечности. Он был в восторге оттого, что прижимал к себе Клариссу сильной рукой первозданного чувства. В этот день он пришел со службы домой раньше обычного. Он занимался каталогизацией произведений искусства, которые еще были отмечены печатью великих, цельных времен и излучали таинственную силу воли. Кларисса встретила его приветливо, теперь, в неистовом мире музыки, она была крепко привязана к нему. Все в этот день несло в себе тайную удачу, беззвучный марш, как бывает, когда боги в пути. «Может быть, сегодня как раз этот день?» – думал Вальтер. Он ведь не хотел возвращать себе Клариссу силой, а хотел, чтобы она по глубокому внутреннему пониманию ласково склонилась к нему.
Рояль вколачивал сверкавшие шляпками гвозди нот в стену из воздуха. Хотя по своему происхождению процесс этот был совершенно реален, стены комнаты исчезали, и на их месте поднимались золотые стены музыки, таинственное пространство, где «я» и мир, восприятие и чувство, внутреннее и внешнее смыкаются самым неопределенным образом, хотя само это пространство состоит сплошь из ощутимости, определенности, точности, даже, можно сказать, из иерархии блеска подчиненных определенному порядку деталей. К этим-то ощутимым деталям и были прикреплены нити чувства, тянувшиеся из клубящегося марева душ; и марево это отражалось в точности стен и казалось ясным себе самому. Как куколки в коконах, висели на этих нитях и лучах души обоих. Чем толще они были закутаны и чем шире расходились лучи, тем больше блаженствовал Вальтер, и мечты его принимали настолько младенческую форму, что он то и дело фальшиво и сентиментально подчеркивал отдельные ноты.
Но до того как это началось и привело к тому, что пробивавшаяся сквозь золотой туман искра обыкновенного чувства восстановила их земное отношение друг к другу, мысли Клариссы по самому роду их были так отличны от его мыслей, как только возможно это у двух человек, бушующих рядом с одинаковыми, словно близнецы, жестами отчаяния и блаженства. В колышущихся туманах возникали картины, сливались, накладывались одна на другую, исчезали: таков был способ Клариссы думать; она думала на свой особый лад; порой было сразу много мыслей одна в другой, порой не было совсем никаких, но тогда чувствовалось, что мысли, как демоны, стоят за сценой, и временная последовательность ощущений, которая служит другим людям верной опорой, превращалась у Клариссы в пелену, то собиравшуюся плотными складками, то рассеивавшуюся до почти невидимой дымки.
Три человека было на этот раз вокруг Клариссы – Вальтер, Ульрих и убийца женщин Моосбругер.
О Моосбругере ей рассказал Ульрих.
Притягательное и отталкивающее смешались тут в странном очаровании.
Кларисса грызла корень любви. Он раздвоен, с поцелуем и укусом, со сцеплением взглядов и страдальчески отведенными глазами в последний миг. «Неужели полюбовное сосуществование толкает к ненависти? – спрашивала она себя. – Неужели благопристойная жизнь хочет грубости? Неужели мирный покой нуждается в жестокости? Неужели порядок требует, чтобы его растерзали?» Вот это и в то же время не это вызывал Моосбругер. Под гром музыки вокруг нее витал мировой пожар, еще не вспыхнувший мировой пожар; он глодал балки внутри здания. Но это было и как в метафоре, где вещи одинаковы и все-таки совершенно различны, а из несходства сходного и из сходства несходного вырастают два столба дыма со сказочным ароматом печеных яблок и брошенных в огонь сосновых веток.
«Надо бы играть без конца», – сказала себе Кларисса и, быстро перелистав ноты, начала пьесу сначала, когда та кончилась. Вальтер смущенно улыбнулся и присоединился к ней.
– Какие, собственно, у Ульриха дела с математикой? – спросила она.
Вальтер, продолжая играть, пожал плечами, словно он вел гоночный автомобиль.
«Играть бы и играть до самого конца, – думала Кларисса. – Если бы можно было непрерывно играть до конца жизни, кем был бы тогда Моосбругер? Чем-то ужасным? Идиотом? Черной птицей неба?» Она не знала этого.
Она вообще ничего не знала. Однажды – она могла бы высчитать с точностью до одного дня, когда это случилось, – она пробудилась ото сна детства, и уже сразу готово было убеждение, что она призвана что-то совершить, сыграть особую роль, может быть, даже избрана для чего-то великого. Тогда она еще ничего не знала о мире. И она не верила ничему из того, что ей о нем рассказывали – родители, старший брат; это были громкие слова, вполне милые и вполне прекрасные, но то, что они говорили, нельзя было сделать своим; просто нельзя было, как не может одно химическое вещество вобрать в себя другое, которое ему не «подходит». Затем появился Вальтер, это и был тот день; с этого дня все стало «подходить». Вальтер носил усики щеточкой; он сказал ей: «фрейлейн»; мир вдруг перестал быть хаотической, неправильной, разломанной плоскостью, он стал сияющим кругом. Вальтер стал средоточием, она стала средоточием, они стали двумя совпадающими средоточиями. Земля, дома, опавшие и неподметенные листья, причиняющие боль воображаемые кратчайшие линии (как мучительнейшие в ее детстве, вспоминала она минуты, когда однажды озирала с отцом «пейзаж» и он, живописец, бесконечно долго им восхищался, а ей было только больно глядеть на мир вдоль этих длинных кратчайших линий, как больно было бы провести пальцем по ребру линейки) – из таких вещей состояла жизнь прежде, а теперь она вдруг стала своей, как плоть от ее плоти.
Она знала с тех пор, что совершит что-то титаническое; что именно, она еще не могла сказать, но пока она ощущала это острее всего за музыкой и надеялась в такие минуты, что Вальтер будет даже большим гением, чем Ницше, и уж подавно – чем Ульрих, который возник позднее и просто подарил ей сочинения Ницше.
С той поры все и пошло. Насколько быстро, сейчас уже нельзя было сказать. Как плохо играла она прежде на пианино, как мало понимала в музыке; теперь она играла лучше, чем Вальтер. А сколько книжек она прочла! Откуда они все взялись? Она представила себе все это в виде черных птиц, вьющихся стаями вокруг девочки, которая стоит на снегу. А немного позднее она увидела черную стену и белые пятна на ней; черным было все, чего она не знала, и хотя белое стекалось в островки и острова, черное оставалось неизменно бесконечным. От этой черноты исходили страх и волнение. «Это дьявол?» – подумала она. «Дьявол стал Моосбругером?» – подумала она. Между белыми пятнами она заметила теперь тонкие серые дорожки; так приходила она в своей жизни от одного к другому; это были события: отъезды, приезды, взволнованные объяснения, борьба с родителями, замужество, дом, неимоверная борьба с Вальтером. Тонкие серые дорожки змеились. «Змеи! – подумала она. – Заманивают!» Эти события обвивали ее, задерживали, не пускали туда, куда ей хотелось, они были скользкими и заставили ее внезапно метнуться к точке, которой она не желала.
Змеи, заманивающие, засасывающие: так бежала жизнь. Ее мысли побежали, как жизнь. Кончики ее пальцев окунались в водопад музыки. По руслу этого водопада спускались змеи и петли. И тут спасительно, как тихая заводь, открылась тюрьма, где был упрятан Моосбругер. Мысли Клариссы, содрогаясь, вошли в его камеру. «Надо играть, и играть до конца!» – повторяла она себе в ободрение, но сердце ее трепетало. Когда она успокоилась, всю камеру заполнило ее «я». Это было чувство приятное, как болеутоляющая мазь, но, когда она захотела закрепить его навсегда, оно стало раскрываться и раздвигаться, как сказка или как сон. Моосбругер сидел подперев рукой голову, и она, Кларисса, снимала с него оковы. Когда ее пальцы двигались, в камеру входили сила, мужество, добродетель, до б-рота, красота, богатство, словно вызванный ее пальцами ветер с разных лугов. «Совершенно безразлично, почему я могу это делать, – чувствовала Кларисса, – важно только, что я сейчас это делаю!» Она положила ему на глаза свои руки, часть собственного своего тела, и, когда она отняла ладони, Моосбругер уже превратился в прекрасного юношу, а она стояла с ним рядом дивной красоты женщиной, чье тело было сладким и мягким, как южное вино, и совсем не строптивым, каким тело маленькой Клариссы обычно бывало. «Это наш образ невинности!» – определила она думающим где-то далеко в глубине слоем сознания.
Но почему Вальтер не был таким?! Поднимаясь из глубин музыкального сна, она вспомнила, сколько в ней еще было ребяческого, когда она уже любила Вальтера, тогда, в пятнадцать лет, и хотела мужеством, силой и добротой спасти его от всех опасностей, грозивших его гению. И как было прекрасно, когда Вальтер везде замечал эти глубокие духовные опасности! И она спросила себя, было ли все это только ребячеством. Брак затмил это резким светом. Великое смущение для любви вышло вдруг из этого брака. Хотя этот последний период был, конечно, тоже чудесен, может быть, содержательней и насыщенней, чем предшествующий, все-таки гигантский пожар и сполохи на небе обернулись трудностями никак не разгорающегося очага. Кларисса была не вполне уверена в том, что ее сражения с Вальтером действительно еще величавы. А жизнь бежала, как эта музыка, которая исчезала под руками. Того и гляди, она пройдет. Постепенно Клариссу охватил отчаянный страх. И в этот миг она заметила, какой неуверенной стала игра Вальтера. Как крупные капли дождя, шлепалось на клавиши его чувство. Она сразу угадала, о чем он думает: ребенок. Она знала, что он хочет привязать ее к себе ребенком. Это был их каждодневный спор. А музыка ни на секунду не останавливалась, музыка не знала никаких «нет». Как сеть, вокруг нее стягивавшаяся, это все опутало ее со страшной быстротой.
Кларисса вскочила среди игры и захлопнула рояль, так что Вальтер едва успел отдернуть пальцы.
О, до чего было больно! Еще не оправившись от страха, он все понял. Приход Ульриха, одно лишь оповещение о нем – вот что привело Клариссу в такое неуравновешенное состояние! Он причинял ей вред, грубо волнуя то, чего Вальтер сам едва осмеливался касаться, пагубную гениальность Клариссы, тайную каверну, где что-то зловещее натягивало цепи, которые когда-нибудь могут не выдержать.
Он не трогался с места и только растерянно смотрел на Клариссу.
А Кларисса не давала никаких объяснений, она просто стояла перед ним и учащенно дышала.
Она вовсе не любит Ульриха, заверила она Вальтера, когда он заговорил об этом. Если бы она любила его, она бы это сразу сказала. Но она чувствует себя зажженной им, как свеча. Она каждый раз чувствует, что чуть больше светит и значит, когда он близко. А Вальтер всегда хочет только затворить ставни. А что она чувствует, до этого никому нет дела, ни Ульриху, ни Вальтеру!
Но Вальтеру все-таки показалось, что среди злости и негодования, которыми дышали ее слова, на него пахнуло дурманяще-гибельной крупицей чего-то, что не было злостью.
Наступил вечер. Комната была черная. Рояль был черный. Тени двух любивших друг друга людей были черные. Глаза Клариссы светились в темноте, загоревшись, как свечи, а во рту Вальтера, перекошенном болью, эмаль на одном зубе поблескивала, как слоновая кость. Какие бы великие государственные дела ни вершились где-то там в мире, это было, казалось, несмотря на все свои неприятные стороны, одно из тех мгновений, ради которых Бог сотворил землю.
39. Человек без свойств состоит из свойств без человека
Однако Ульрих в этот вечер не пришел. После того как директор Фишель поспешно покинул его, он снова занялся вопросом своей юности – почему мир так зловеще благосклонен ко всяким ненастоящим и в высшем смысле неправдивым словам. «На шаг вперед продвигаешься всякий раз именно тогда, когда лжешь, – подумал он. – Надо было мне еще и это сказать ему».
Ульрих был страстным человеком, но под страстью не следует в данном случае подразумевать собирательное обозначение того, что называют страстями. Что-то, правда, было, по-видимому, такое, что вовлекало его в них снова и снова, и это, возможно, была страсть, но в состоянии волнения и даже взволнованных действий его поведение было одновременно страстным и безучастным. Он прошел чуть ли не через все, через что можно пройти, и чувствовал, что и теперь еще всегда готов кинуться во что-то, пусть даже ничего для него не значащее, лишь бы оно пробуждало его инстинкт действия. Поэтому с его стороны не было бы большим преувеличением, если бы он сказал о своей жизни, что все в ней совершалось так, словно все соответствовало скорее друг другу, чем ему самому. За А всегда следовало Б, будь то в борьбе или в любви. И потому он должен был, верно, считать, что личные свойства, которые он при этом приобретал, соответствовали больше друг другу, чем ему самому, и правда, каждое из них, если он испытывал себя как следует, оказывалось связано с ним не глубже, чем с другими людьми, которые тоже могли обладать им.
Но, несомненно, определяют тебя все-таки они и состоишь ты из них, даже если ты не одно и то же с ними. И порой поэтому ты кажешься себе в спокойном состоянии таким же чужим, как в своем непокое. Если бы Ульриху надо было сказать, каков же он на самом деле, он пришел бы в замешательство, ибо, как и многие, никогда не испытывал себя иным способом, чем на какой-нибудь задаче и в своем отношении к ней. Его чувство собственного достоинства не было ущемлено, оно не было ни изнеженным, ни суетным и не знало потребности в том ремонте и той смазке, которые называют проверкой собственной совести. Был ли он сильным человеком? Этого он не знал; на этот счет он пребывал, может быть, в роковом заблуждении. Но наверняка он всегда был человеком, полагающимся на свою силу. Он и теперь не сомневался, что эта разница между обладанием собственными опытом и свойствами и чуждостью им есть лишь разница в манере держаться, в каком-то смысле акт воли или некая выбранная ступень между всеобщим и личным, на которой живешь. Говоря совсем просто, к вещам, которые с тобой случаются или которые ты делаешь, можно относиться более обще или более лично. Какой-нибудь удар можно воспринять не только как боль, но и как обиду, отчего он невыносимо усиливается; но можно посмотреть на него и со спортивной точки зрения, как на препятствие, которого не нужно страшиться и от которого нельзя приходить в слепую ярость, и тогда нередко его вообще не замечаешь. Но в этом втором случае ты просто-напросто отводишь этому удару место в какой-то общей системе, в данном случае в системе боя, а сущность удара зависит от задачи, которую он должен выполнить. И как раз этот феномен – что пережитое получает свое свечение, даже свое содержание лишь в зависимости от своего места в цепи последовательных действий – демонстрирует каждый, кто смотрит на него, то есть на пережитое, не как на событие чисто личное, а как на вызов своим духовным силам. Он тоже слабее ощущает тогда то, что он делает; но удивительно: то самое, что в боксе считается превосходством духа, называют лишь холодностью и бесчувственностью, когда у людей, боксом не занимающихся, это возникает от интеллектуального подхода к жизни. Есть и всяческие разграничения, чтобы в зависимости от ситуаций проявлять и рекомендовать более общее или более личное отношение к чему-либо. Если убийца действует деловито, это квалифицируется как особая жестокость; если профессор продолжает свои вычисления в объятиях супруги, это толкуется как верх сухости; если политик идет в гору по трупам, это, в зависимости от успеха, именуют подлостью или величием; а от солдат, палачей и хирургов прямо-таки требуют, напротив, как раз этой самой непоколебимости, которую в других осуждают. Незачем пускаться в долгие рассуждения насчет моральной стороны этих примеров – и без того видна ненадежность, с какой каждый раз заключается компромисс между объективно правильным и лично правильным поведением.
Эта ненадежность создавала личному вопросу Ульриха широкий фон. Быть индивидуальностью раньше можно было с более чистой совестью, чем сегодня. Люди походили на колосья в поле: Бог, град, пожары, чума и войны шевелили их, вероятно, сильнее, чем теперь, но совокупно – городами, землями, как ниву, а если, кроме того, для отдельного колоска оставалось еще и какое-то индивидуальное шевеление, то за него можно было отвечать и оно четко определялось. А сегодня главная тяжесть ответственности лежит не на человеке, а на взаимосвязи вещей. Разве незаметно, что переживания сделались независимы от человека? Они ушли в театр, в книги, в отчеты исследовательских центров и экспедиций, в идеологические и религиозные корпорации, развивающие определенные виды переживаний за счет других, как в социальном эксперименте, и переживания, не находящиеся в данный момент в работе, пребывают просто в пустоте; кто сегодня может еще сказать, что его злость – это действительно его злость, если его настропаляет так много людей и они смыслят больше, чем он? Возник мир свойств – без человека, мир переживаний – без переживающего, и похоже на то, что в идеальном случае человек уже вообще ничего не будет переживать в частном порядке и приятная тяжесть личной ответственности растворится в системе формул возможных значений. Распад антропоцентрического мировоззрения, которое так долго считало человека центром вселенной, но уже несколько столетий идет на убыль, добрался, видимо, наконец до самого «я»; ибо вера, что в переживании самое важное – это переживать, а в действии – действовать, начинает большинству людей казаться наивной. Вероятно, есть еще люди, живущие совершенно индивидуально, они говорят: «Вчера мы были у того-то и того-то» или «мы делаем сегодня то-то и то-то» и радуются этому, не ища за этим никакого другого значения и содержания. Они любят все, что ни соприкасается с их пальцами, и являют собой частное лицо в столь чистом виде, сколь это возможно; при соприкосновении с ними мир становится чистым миром и светится как радуга. Может быть, они очень счастливы; но эта порода людей обычно уже кажется другим нелепой, хотя еще отнюдь не установлено – почему… И среди этих раздумий Ульрих вдруг должен был с улыбкой признать, что он при всем при том – некий характер, хотя характера у него нет.