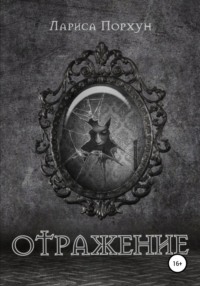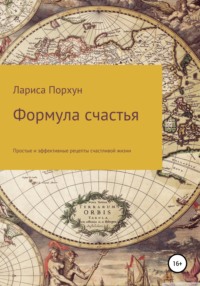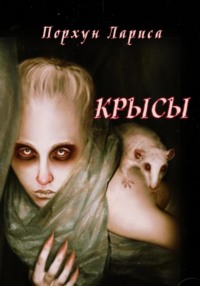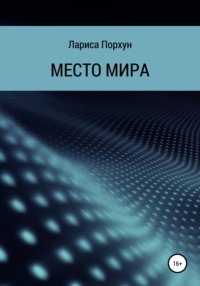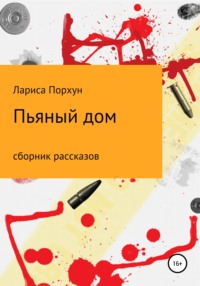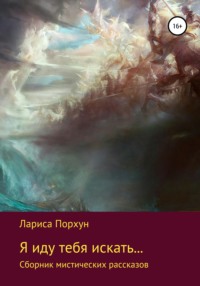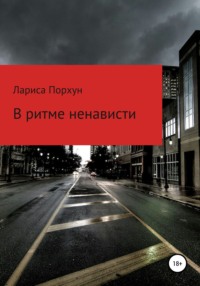полная версия
полная версияЖенский клуб
Как-то в начале зимы, на большой перемене подходит ко мне Светка, и говорит:
– Есть предложение, собраться после работы узким кругом и отметить, так сказать, последнюю пятницу на этой неделе, а заодно и приближающийся Новый год. Я, зачем-то старательно делая вид, что предложение, мол, так себе, к тому же, возможно, мой вечер и не совсем свободен и даже, может быть, вовсе не предназначен для подобных пустяков, пожимаю плечами:
– Какое значение имеет пятница для людей, у которых рабочая суббота? – как бы между делом, лениво так, интересуюсь я, – И вообще, – говорю, – сегодня 13 декабря, не рановато ли отмечать собираетесь?
Я какого-то чёрта продолжаю изображать из себя целомудренную трезвенницу, будто и в самом деле ни разу в жизни не отмечала праздники заранее или никогда не принимала активного участия в спонтанных «девичниках» среди трудовой недели или в тех же пятничных вечерах, отлично зная, что завтра с утра на работу. Ещё не закончив предложения, я уже пожалела, что говорю вслух то, чего на самом деле не думаю. И даже немного испугалась, что переусердствовала. И что Светка передумает, и скажет что-то вроде: «Ой, и в самом деле, чего это я, ладно, давай в следующий раз», развернётся и убежит на пару. А я даже не узнаю, какой именно узкий круг она имела в виду.
Светлана
Дело в том, что Светка тоже жила с родителями, с той только разницей, что она от них никуда и не уезжала. Ну, разве что на учёбу, в 198 – каком-то лохматом году, прямо страшно сказать, ещё при советской власти. И всё. И в свои 37 лет так и жила с папой, мамой и братом, время от времени отбывающим в места не столь отдалённые. По всей вероятности Светкин брат вёл жизнь довольно насыщенную и активную, так как за те шесть или семь лет, что мы с ней дружили, и, разумеется, неоднократно бывали друг у друга, я видела его всего лишь пару раз. И каждый раз, как выяснялось позже, это было либо накануне его ареста, либо сразу после освобождения. Так что в смысле компактности проживания, ситуации у нас с ней были схожи. С той только разницей, что мой брат отлучался не в колонию, а в армию, а после службы в Москву на заработки. Несмотря на плавающий график пребывания в домах наших родителей отдельных членов семьи, устраивать столь любезные нашим душам «девичники» мы, по понятным причинам, не у неё, не у меня не могли. Девичниками мы завуалировано, и, как нам казалось, остроумно, именовали возникающее у нас обоюдное и регулярное желание устроить культурные посиделки. Не просто выпить, это и так подразумевалось само собой, и уж, тем более, не забухать, хотя этим, к сожалению, не редко и заканчивалось, а встретиться, чтобы свободно поговорить о том, что беспокоит, поделиться планами, обсудить положение дел, пожаловаться на людей и обстоятельства жизни (это уж, как водится), снять напряжение, рассказать о наболевшем, ну и прочий вздор, который мы лили в уши себе, друг другу и своим близким, оправдывая свои загулы.
Светка, между прочим, до знакомства со мной даже в отпуск никуда не ездила. Копила деньги на собственную квартиру. И поэтому вынуждена была экономить. Так она объясняла нам с Ольгой и Наташкой, (о которых речь впереди) свою весьма очевидную прижимистость. Хотя я считала, что это свойство характера. Не исключено даже, что врождённое. И в этом нет ничего удивительного, Светка родом из очень бедной, рабоче-крестьянской семьи. Мать её была детдомовской, а от отца, хронического алкоголика, к тому времени, как мы с ней познакомились, уже мало чего путного оставалось. Светка рассказывала, что жили они часто впроголодь, а ведь известно, что мозг человека, хоть раз испытавшего настоящий голод, запоминает это навсегда, с целью не допустить повторения подобного опыта в дальнейшем. Поэтому Светка панически боялась остаться без денег (а значит без еды) и по этой же причине они у неё всегда были. В этом мы с ней отличались кардинально. Мне, по выражению моей мамы, «деньги карман жгли».
Стоит заметить, что квартиру, в отличие от меня, например, Светка всё-таки купила. Хотя случилось это только года через три после того, как мы все четверо сдружились. А до этого штаб-квартира «девичника», предвестника, как мы полагали, нашего женского клуба всё время меняла свою дислокацию. Возможно, это и послужило главным толчком, явилось, так сказать, первопричиной для развития темы о создании клуба. Я, как главный идейный вдохновитель, получающий уже второе высшее образование, давала помимо психологического, социальное и коммерческое обоснование важности этого проекта. Я уверяла своих потенциальных бизнес-партнёрш, что официальный статус и дальнейшее процветание клуба, позволит нам не только зарабатывать, но, что ещё более важно, раскрыть собственный потенциал, обрести бесценный опыт, свободу самовыражения, независимость, создать платформу для личностного и профессионального роста… и бог знает какие ещё доводы можно привести с целью легализации наших «девичников», а заодно, и самого обычного, бытового пьянства. Однако я снова отвлеклась. Итак, Светка была пышнотелой блондинкой с выдающимися округлостями исключительно в нужных местах. Из тех, кого внушительная часть представителей мужского пола считает «аппетитными». Тем большее недоумение вызывает тот факт, что она так и не вышла замуж. И даже более или менее длительных отношений у неё ни с кем не было. Хотя Светка, сколько я её помню, всегда к этому стремилась. Но у неё плохо получалось. Вернее, совсем не получалось. Впрочем, как и у нас всех, четверых. Это была, кстати, ещё одна причина, наверное, даже самая главная, по которой мы и собирались организовать женский клуб. Видимо, предполагалось, что привлечение в наши ряды более успешных в этом отношении женщин, будет каким-то образом способствовать и нашей, более ощутимой котировке. Исследуя положительный опыт более удачливых женщин, мы, вероятно, сможем, наконец, выяснить, в чём причина нашей затяжной невостребованности на этом фронте. Другое дело, что вопрос, а какого лешего успешные женщины побегут в наш клуб и что они, собственно говоря, забыли в нашем обществе, перед нами, судя по всему, не возникал.
Что ж, продолжаем… Какой ещё была Светка? Педантичной и сдержанной, весёлой и практичной, скрытной и очень отзывчивой. Светка могла быть разной. От чего этого зависело? От многого, пожалуй. От текущего положения дел, от настроения, от степени заинтересованности и вовлечённости, ну и от состояния, конечно. Причём как раз состояние здоровья, я имею в виду в последнюю очередь. Ведь, как уже упоминалось, почти всегда, когда мы встречались не на работе, без алкоголя не обходилось. Хотя, впрочем, и на работе, время от времени, тоже. Надо сказать, это очень сближало. Могу утверждать, как человек в этом отношении весьма опытный, что совместное распитие всевозможных напитков, различных по своей категориальной принадлежности и содержанию этанола, обладает замечательными объединяющими и компенсаторными функциями. Мало что может сравниться с этим по своей эффективности, быстроте реакциии выдающимся цементирующим характеристикам. Правда, реакции эти весьма скоротечны, ну так и собирались мы не так уж и редко. Именно этим я объясняю наше со Светкой взаимное приятие. Да и с другими девчонками тоже. Хотя утверждать это наверняка, разумеется, я могу только относительно себя. Вполне возможно, что моими подругами двигали чувства более высокого порядка. Не скажу даже, что мне так уж хотелось бы на это надеяться. Вовсе нет. Скорее, мне было всё равно. Это характеризует меня, возможно, ни как самого лучшего друга, да и человека вообще, но так было. Мне просто нравилось проводить с ними время от времени несколько часов, не слишком часто, но и не так, чтобы редко. Не спеша, с удовольствием, предлагая и поддерживая тосты, выпивать и закусывать, со значительным видом рассуждая о текущих делах, и о том, как всё было бы замечательно, если бы судьба не сталкивала меня то и дело с клиническими идиотами. Так что, следует ещё раз заметить, что я ждала наших встреч, у меня заметно поднималось настроение ещё на этапе их планирования. А иногда на лекции, обводя студентов благожелательным взором, я внутренне замирала в радостном предвкушении, отмечая автоматически, что через каких-то часа полтора, мы со Светкой выйдем с работы на улицу, вздохнём полной грудью и, перебивая друг друга, будем решать, куда направимся и что купим по дороге. Я, как всегда, буду голосовать за кафе. Светка, наморщив курносый нос и скривив губы, что нисколько, впрочем, не омрачит её такого же лучезарного настроения, как и у меня, с фальшивой презрительностью протянет:
– Тоже мне богачка нашлась! – и, заметив мой насмешливый взгляд, красноречиво намекающий на её чрезмерную, скажем, э-э расчётливость, которую она категорически у себя не признавала и старалась всячески замаскировать, добавит:
– Алиса, милая моя, мы живём в национальной республике, – Светка здесь, возможно, показушно и устало вздохнёт с видом человека, вынужденного регулярно общаться с недалёкими, вроде меня, людьми, – Ты совсем недавно приехала, и до конца этого ещё не осознала, понимаешь? – в голосе её проскальзывают уже совсем неподдельные менторские нотки и сейчас очень легко представить её за кафедрой или у доски, – Здесь женщины сами по себе, без сопровождения не ходят по ресторанам или кафешкам, а тех, кто так поступает, считают проститутками, ясно?
Я улыбаюсь, и киваю головой, уж куда ясней… Светка вздыхает и отводит глаза, и я без всяких слов и подсказок, буквально всей кожей ощущаю, как бы она хотела, чтобы на моём месте сейчас оказался какой-нибудь представительный мужчина, и… сопроводил её уже куда-нибудь что ли…Я тоже вздыхаю, но немного по другой причине. Я хорошо понимаю Светкины чувства, её тоску «по сильному плечу», но не разделяю их. Только недавно начиная выздоравливать душевно и физически от своего замужества, стряхнув, наконец, пятилетний железнодорожный морок с ним связанный, я вовсе не стремилась тут же вступать в новые отношения. А вздыхаю я от безысходности и жалости к Светке: нечасто можно встретить женщину, которая настолько бы жаждала любви, насколько боялась её и отталкивала… Но показывать этого нельзя, поэтому я снова бодро киваю:
– Окей! Значит, опять идём к дяде Коле… Дядя Коля был каким-то дальним родственником Светкиного отца: одиноким, престарелым, вяло пьющим уже в силу своего возраста и умеренно сумасшедшим. Он подходил нам, потому что был очень удобным: тихим, улыбчивым и не задающим никаких вопросов. И ещё он ничему никогда не удивлялся. Как будто было в порядке вещей, что несколько раз в месяц к нему приходят в гости две молодые женщины, непринуждённо располагаются в его пятиметровой кухне, выставляя на стол кульки и бутылки и сидят допоздна. Открывая нам дверь, он только кивал головой, улыбался и приговаривал: «А вот и девчата мои пришли…». Тогда это очень подкупало, хотя, возможно, должно было бы настораживать. Но поскольку идти нам кроме как по домам больше было некуда, а домой совсем не хотелось, потому что там были родители, и потому что очень тянуло посидеть, и снять на время маски, и перестать играть какие-то роли, и хоть на некоторое время стать самими собой, то эта убого обставленная, холостяцкая однокомнатная квартирка с характерным, не выветриваемым запахом бедности, старости и постепенного, но неумолимого увядания, сквозившего во всём, что там находилось, включая стены, оклеенные ещё при почившем в бозе государственном строе, а ныне совершенно выцветшими бумажными обоями, потолок с грубой синей побелкой, с забившейся в его неровностях пылью, закопчённую, пластмассовую люстру на кухне, и самого дядю Колю, – на тот момент, как нельзя лучше нам подходила. После того, как дядя Коля выпивал полстакана вина или рюмочку чего покрепче, он брал чашку, заваренного Светкой чаю, накладывал в блюдце, принесённые ему пряники или печенье, и уходил в комнату смотреть телевизор. Эта дяди Колина деликатность весьма высоко нами ценилась. Через полчаса он засыпал в продавленном кресле и открывал глаза только во время рекламных блоков. С радостным недоумением вглядывался в экран, улыбаясь и кивая маленькой и лысой, шишковатой головой. Светка часам к девяти укладывала его в солдатскую с железной сеткой кровать, выключала телевизор, и под хриплый, уютный шепоток дяди Коли: «Ложились бы вы спать, девчата, поздно уж», прикрывала дверь. Как бы мы не засиживались, и как бы не торопились, обязательно перед этим мыли толстенные рюмки из голубоватого стекла, с пузырьками воздуха у основания, убирали оставшиеся продукты в старый, битый коррозией, тумбочкообразный холодильник «Саратов», тщательно заворачивали в целлофан и туда же ставили все принесённые хлебобулочные изделия, (у дяди Коли случались тараканьи набеги), а в самом конце, перед уходом, протирали клеёнку, ромашки на которой в центре столешницы постепенно, под действием тряпки и времени, исчезали, а по бокам, подворачивающимся воланом свешивающимся вниз, всё ещё цвели буйным желтоглазым цветом на весёлом голубоватом поле.
Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что утром дядя Коля выйдет на кухню поставить свой огромный, тёмно-зелёный чайник с изогнутым носиком и отбитой в нескольких местах эмалью, и ничуть не удивится наличию в холодильнике сыра, колбасы и свежей выпечки. А также новой пачке чая на крышке старого буфета у плиты, потому что даже не вспомнит, что накануне вечером у него кто-то был… А может просто потому что дядя Коля живёт на свете очень долго, и видел за свою жизнь достаточно, чтобы уже давно перестать чему-либо удивляться.
Так вот, когда я думала о предстоящем вечере, у меня улучшалось не только настроение, но и повышался, в общем и целом, жизненный тонус. Я просто чувствовала это! Изменялся в сторону проникновенной бархатистости даже мой голос, розовели щёки, блестели глаза. Особенно явственно почему-то это происходило во время работы, возможно из-за контраста, так как работу свою я не любила, а наши со Светкой встречи, совсем наоборот. Но вот в этом состоянии приподнятого и радостного ожидания, я на время забывала о том, что преподавательская деятельность не доставляет мне ровным счётом никакого удовольствия и читала лекции на одном дыхании. Я была убедительна, остроумна, красноречива и находчива. И будто сами собой всплывали, как нельзя, кстати, интересные факты и припоминались нужные цифры. Я апеллировала яркими примерами, приводила настолько весомые аргументы, что это приводило в восторг меня саму. Но моё вдохновение подпитывалось не этими чёрными, карими, иногда голубыми и совсем редко зелёными глазами, смотревших на меня с изумлением, подозрением или любопытством… Иногда завороженно и недоверчиво, но никогда безучастно… Незаинтересованных или пустых глаз не было вообще в периоды этого моего экзальтированного состояния. И, понятно, что вдохновляли меня вовсе не эти склонённые над столом и тёмные, как правило, макушки моих студентов, тщетно старающихся законспектировать моё пламенное выступление. Вовсе не они питали этот благодатный и вдохновенный источник, нет… Он брал своё начало отнюдь не в этой аудитории, и даже не в этом здании, а значительно дальше… Далеко за его пределами… Он там, где можно будет потягивая со смаком креплённое вино, или маханув стопку водки/коньяка, спокойно закурить, и не напрягаясь слушать Светкин незатейливый трёп, вальяжно откинувшись к стене, неторопливо дождавшись своей очереди, поделиться тем, что кажется таким важным и глубоким на этом отрезке времени. И так тепло, так хорошо становится на душе. Так приятно сидеть вполоборота за маленьким кухонным столиком, с прорвавшейся на углах клеёнкой, – Надо будет в следующий раз купить дяде Коле новую, – читает Светка мои мысли, проследив за направлением взгляда. Я киваю, улыбаясь масленичными глазами, и почти люблю её в этот самый момент. И я там, где можно смотреть в дядь Колино окно, с потрескавшейся деревянной рамой, одновременно слушая, то возмущённый, то ровный, то ликующий голос, в зависимости от того, что она рассказывает и покачивать головой в такт её словам. А за окном то вздрагивает пожелтевшей листвой молодое деревце под несильным, но докучливым осенним дождём, то в свете фонаря, что как раз напротив старого окна старого дяди Коли, мелькают редкие снежинки, и мыслями уносишься далеко-далеко, пока Светкин голос, вдруг резко перейдя в совершенно другую тональность, возвращает меня снова в настоящее время какой-нибудь заезженной шуткой:
– Ну что, хорошие люди посидят-посидят, да и выпьют, верно?
Но оказалось, что в этот раз Светка, предлагая собраться узким кругом, имела в виду кое-что другое… Она выдержала паузу, зачем-то оглянулась по сторонам и как опытная подпольщица зашептала:
– Знакома с нашей новой лаборанткой? – она отстранилась и внимательно посмотрела на то, как я неуверенно киваю, – Да ты что?! Оля её зовут…Эх ты! Человек уже две недели, можно сказать, работает в нашем гадюшнике, а ты даже не сразу вспомнила, кого я имею в виду! – у Светки случались такие двусмысленные обороты в речи, и довольно часто, – Ну ничего, я вас познакомлю сегодня… Она классная, сегодня у неё тусим…
Ольга
Не без некоторого, я бы даже сказала весьма значительного волевого усилия, я поняла, кого имеет в виду Светка. Это была дебелая, рыхлая женщина, на вид лет тридцати пяти, с огромными серыми глазами навыкате, с коротко стрижеными тёмными волосами и настолько белой кожей, что она казалась слегка голубоватой. Это всё, что мне было на тот момент известно, так как по рабочим моментам взаимодействия у нас пока не возникало, а оснований для обычного, человеческого общения было явно недостаточно. К тому же Ольга показалась мне особой замкнутой, холодной и не слишком нацеленной на расширение списка личных контактов. Но в тот день всё изменилось. Мы втроём отправились к Ольге, так как её мама, как раз была на сутках. О да… Оля тоже не имела, увы, собственного жилья. Зато у неё было ценное преимущество перед нами, вернее, даже два: проживающих вместе с ней на одной территории родственников было гораздо меньше, чем у нас со Светкой, и к тому же у этого родственника, то бишь, Олькиной матери, были регулярные, раз или два в неделю, ночные дежурства в больнице, где она работала санитаркой. С того самого первого дня знакомства, мы и подружились. Ольга подкупала своей искренностью, рассудительностью и всегда своим особым, не похожим ни на чей другой взглядом на вещи. Говорила она всегда мало (не то, что мы со Светкой!), и больше слушала. Но если уже решала высказаться, то выделяла главное и излагала самую суть, без излишней болтовни и трескучей примеси. Чем больше я узнавала этого человека, тем больший интерес она у меня вызывала. Будучи дипломированным биологом, работала лаборанткой на кафедре не своего даже профиля и нисколько не переживала по этому поводу. Она стучала на машинке (компьютеры ещё только-только начали завоёвывать пространство и были далеко не во всех учреждениях), правила расписание занятий и отвечала на звонки, ничуть не теряя собственного достоинства. Я очень скоро обратила внимание, что относятся к ней не как к девочке за пирожками, что было, в общем-то, в порядке вещей практически в любом учебном заведении любой кафедры любого города. Но только не в случае с Ольгой. Что-то в ней было, что исключало любое панибратство и фамильярность. Даже заслуженные и именитые преподаватели обращались к ней подчёркнуто уважительно и по имени-отчеству. У неё была своя какая-то внутренняя философия жизни, которой она подчинялась и согласно которой жила. Она была самодостаточна по своей природе до мозга костей. Ей невозможно было что-то навязать или к чему-то принудить. По меньшей мере, такие мысли неизменно возникали, когда Ольга не мигая и очень серьёзно смотрела на тебя своими огромными серыми глазами, ни к селу, ни к городу расположенными будто на чужом, позаимствованным у другой, немолодой бабы лице, с кипенно белой, лишённой малейшего намёка хоть на ничтожную кровинку или слабый румянец кожей.
Ольге, на самом деле, было тридцать лет, и была она наполовину черкешенкой. По материнской линии. Характерной особенностью их отношений с матерью было то, что они едва переносили друг друга. Их отношения скользили по тонкой и острой, как лезвие грани от озлобленного и плохо скрываемого раздражения, до открытой агрессии с доброй порцией плохо замаскированной лютой ненависти. Раньше, в зависимости от ситуации, то грушей для битья, то буфером был отец Ольги, но эта ноша оказалась ему не под силу. Явно не преуспев в деле примирения сторон и не в силах более наблюдать эту женскую войну, он не придумал ничего лучше, как скоропостижно и навсегда сбежать с этого ринга, посредством инфаркта. Противостояние между Ольгой и матерью было всегда. С самого детства. Но расцвета своего достигать стало к подростковому возрасту Ольги. Она никак не вписывалась, по мнению матери и многочисленной родни, в те каноны, которым, по их мнению, должна соответствовать девушка из, пусть наполовину, но всё-таки мусульманской семьи. Ни по своему внешнему, ни, тем более, внутреннему содержанию. Но мать, сколько помнит Ольга, неустанно и всеми известными способами пыталась эту ситуацию изменить. Основы исламского воспитания, преломлённые через призму материнского искажённого сознания, чаще всего в дочь вколачивались. Причём в буквальном смысле и всем что придётся под руку. Ничуть не уступая матери в зашкаливающем уровне накала и страсти, Ольга этому сопротивлялась. Уже одно то, например, что своё восемнадцатилетие она решила отметить с компанией друзей на православном кладбище, свидетельствовало о том, что вряд ли эта девушка в ближайшее время начнёт совершать намаз. На этом самом кладбище, предварительно накачав вином, её в тот день и изнасиловали. То, что дочь в положении, мать заметила только, когда Ольга была уже на шестом месяце. Под гнётом чувства вины, ужаса от содеянного и ежеминутного ожидания кары небесной, Ольга не выходила из дома, не могла есть, спать и разговаривать, довольно быстро превращаясь в бесплотное и неподвижное подобие самой себя. На семейном совете, который лишь ненадолго прерываясь, длился несколько дней, Ольге, поклявшейся Аллахом перед всем этим домашним судилищем, что она покончит с собой, если её отправят (как предлагала мать) на искусственные роды, разрешили оставить ребёнка, только велели наладить режим (то есть начать есть и спать), и снова закрылись в комнате матери.
Сына Оля видела только один раз. В ту ночь, когда родила. Затем практически в том же составе, делегация из родных тёток, двоюродных сестёр, сосношниц и племянниц, возглавляемая матерью, в скорбном молчании стояла под окнами маленькой районной больнички, где Ольга почему-то рожала. Они стояли в черных платках, с траурными лицами и как будто чего-то ждали. Ожидание сквозило в каждом взгляде, хотя выражалось у всех по-разному: укоризненно, сочувственно, осуждающе. Ольга смотрела на них в окно и улыбалась, хотя по лицу текли слёзы. Только что суетливый, грубоватый врач сообщил ей, не глядя в глаза, что её ребёнок умер. А Ольга и ожидала, вернее, предчувствовала что-то подобное. Потому что хорошо знала свою семью, ведь не зря же она была её частью. Ольга смотрела на этих людей за окном, и ей казалось, что она героиня дурной мыльной оперы с дешёвым и заезженным сюжетом. И поэтому она улыбалась. Долго. Специально. Назло. Чувствуя, как затекли ноги, и распухла грудь, и как промокла сорочка от слёз и подступающего молока.
Только через два года Ольга узнала, что Тимура, как она назвала мальчика, усыновила бездетная семья их родственников,– отпочковавшаяся ветвь, пустившая корни в чужой далёкой стране их нескончаемо-гигантского фамильного древа. Ольга никогда не помышляла не только о том, чтобы вернуть своего сына, но даже не предпринимала попыток, для того, чтоб хотя бы увидеть его. Она оплакала его, как и какую-то часть себя, ещё тогда, стоя у больничного окна и глядя на эти лица, обращённые к ней. И тогда же что-то умерло в ней и испарилось вместе со слезами и перегоревшим молоком. Она запретила себе думать об этом и даже вспоминать: выжгла из сердца калёным железом и развеяла по миру… И стала жить дальше. Только улыбаться перестала совсем…
Вскоре на семейном совете решено было отдать её замуж за вдовца с тремя детьми, жившим в отдалённом горном селе. Ольга, понимая, что у неё появляется реальный шанс уехать от матери, согласилась немедленно, не раздумывая и даже не видя жениха. Мать тут же прошипела, что она ведёт себя, как продажная девка. А порядочная мусульманская женщина, никогда открыто не станет выражать своё согласие, тем более что его никто у неё и не спрашивает. Добропорядочная девушка, воспитанная в лучших традициях исламской культуры и глаз-то поднять на старших или на мужчину не посмеет. Особенно когда обсуждается вопрос её замужества.
– А эта, – шипела мать, – опозорившая весь их род, стоит и чуть ли не смеётся от радости…
– Ошибаешься, мама, – ни секунды не раздумывая, в тон ей ответила Ольга, – Засмеяться я смогу только, когда узнаю о твоей смерти.
С мужем разница в возрасте составляла семнадцать лет. Его старшая дочь была моложе Ольги всего на четыре года. Он держал большое хозяйство, к которому Оля тут же была приставлена. Две коровы, с десяток баранов, а также гуси, утки и куры, не поддающиеся никакому исчислению. Ольга приучилась ходить в галошах с шерстяными носками, в тёплом байковом халате, надетом поверх другой одежды и носить платки. Как она поначалу не сопротивлялась, довольно скоро поняла, что это действительно, самая удобная и подходящая одежда для тех условий, в которых она оказалась. Но не это было самое трудное. И не то, что приходилось вставать каждое утро в полпятого и доить коров, хотя это умение ей, городской девочке, далось весьма непросто. И совсем не его дети, которые оказались как раз самостоятельными, тихими и практически беспроблемными. И не свекровь, угрюмая и сварливая, обращающаяся к ней, исключительно на родном языке, которого Оля почти не знала. И не отсутствие элементарных удобств, что чуть позже не замедлило сказаться на её здоровье, и не наводящие ужас громадные крысы, обитающие в сарае и коровнике… Дело было даже не в её муже. Вернее, не совсем в нём.