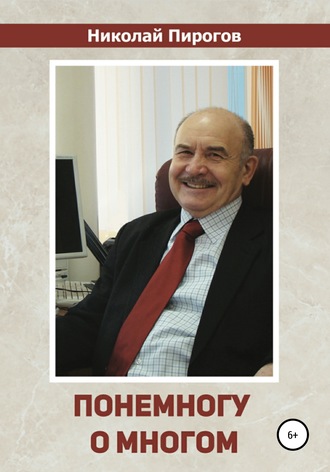
Полная версия
Понемногу о многом
Алексей Алексеевич. Ладно, Саша, не горячись, полегче. Это тоже надо делать. Не очень-то ты и щедрый. Даешь на копейки, придуриваешься, что сам бедный, убыточный. Мне же рассказывают.
Бондарев. Так вот этот друг вместо того, чтобы приватизацией треста заниматься, а захотел бы – миллионы долларов бы имел, ухватил по дешевке ЗИЛ-130. Но даже этой машиной распорядиться не сумел. За девять лет на учет не поставил. Меня просил. Я все сделал и с ним рассчитался. Теперь она моя. Ты дай команду Васе Панкратову, директору автобазы, чтобы купил ее за двадцать пять тысяч баксов. Документы я подготовил. Васе даю тысячу – так ему и скажи. Тебе – тоже тысячу. Машину немного доработать надо, на своем предприятии он это и сделает, а, в общем-то, она в хорошем состоянии. Этот чудик следил за ней. Ну что, по рукам?
Воронин с трудом встал на ноги.
Воронин (еле слышно). Негодяи! Уйти отсюда, немедленно уйти. (Пошел к выходу, держась за стенку.)
Рабочие (негромко, в сторону). Надрался, свинья.
Воронин остановился на крыльце, под навесом. Схватился за сердце.
Воронин. Дойти до машины, дойти! Ой, как больно!
Быстро прошел, качаясь, по прямой к «Ниве». Сел, завел мотор и рванул с места. В кабинете Бондарева Алексей Алексеевич и Бондарев обнимаются, клянутся в дружбе. За сценой слышен шум подъезжающего грузовика.
Водитель грузовика, подходя к рабочим (громко). Это от вас тут мужик на «Ниве» выехал?
Рабочие. От нас. Пьяный в стельку.
Водитель самосвала. Машину разбил. Вдребезги. Говорят, уже мертвый ехал.
Занавес2015–2018II. Повесть. Хорошо в деревне летом…
Едешь из Москвы по Киевскому шоссе и в районе авиапорта «Внуково» по левую сторону есть указатель «Мешково». Там я не был, но предполагаю, что это городская деревня. Уж очень близко она от Москвы, и живут в ней скорее всего те, кто в Москве и работает.
А если следовать дальше и свернуть с Киевского шоссе на сотом километре по направлению на Малоярославец и двигаться дальше на Медынь, а от нее к небольшому поселку Гусево, а потом налево километра три-четыре, то попадешь в Мешково – деревню, которую городской уж никак не назовешь. От Московской кольцевой автомобильной дороги на спидометре будет 150 километров. Это уже Калужская область – место, которое писатели и журналисты любят называть глубинкой. Мешково стоит на безымянном ручье, впадающем в речку Шаню, а она – в Угру, Угра – в Оку, ну, а Ока, все знают, вливается в Волгу. Невдалеке от Мешково у самой реки Шани две деревни: Прокшино и Гребенкино. Выяснить происхождение названий этих трех деревень руки не дошли.
Довелось как-то взглянуть на подробные карты Московской, Владимирской и других центральных российских областей и с удивлением обнаружил, что деревень и сел с названием Мешково не так и мало: три нашел сразу, не напрягаясь. И опять укорил себя, что не выяснил, откуда возникло это имя, ведь раз Мешковых много, значит, есть в них что-то типичное. общее: история, уклад жизни, местоположение.
В конце 70-х годов я возвратился в Москву из Якутии, где проработал почти два десятка лет и впитал в себя сибирское восприятие жизни. Огромные необозримые просторы, когда 100 километров – не расстояние, 30 градусов – не мороз даже, а как бы отдых от настоящих морозов, которые в Сибири бывают и за 50, и за 60 градусов. Почти первобытная охота на непуганых животных, рыбалка, когда рыбу, фактически, и не ловят, а черпают из реки неводом или бреднем или просто выбирают из сети, а бывает – и голыми руками из лужиц, образовавшихся от пересыхающих летом многочисленных ручьев. Все это, конечно, наложило отпечаток на характер, сформировало привычки, потребности подчас уж очень непохожие на московские.
Когда в семье встал вопрос об обзаведении дачным участком, поневоле пришлось столкнуться с московской действительностью. Горожане, оказывается, по нескольку лет стояли в очереди в своих предприятиях для получения восьми или шести соток земли, расположенных на расстоянии до 100 км и больше от Москвы. Случайно узнал, что, оказывается, есть участки и по четыре сотки. Не хотелось в это верить, пока сам не убедился. Увидел это под Калугой, где земли – немерено. Как-то в выходной день был в той местности, где только что нарезали эти квадратики двадцать на двадцать метров, называемые садовыми участками, и люди приступили к их освоению. На каждом кусочке земли – небольшой домик и туалет, грядки, плодовые кусты и деревья. Была солнечная погода, и с небольшого бугорка была хорошо видна вся панорама – на нескольких гектарах трудились сотни людей, и большинство в одинаковой позе – согнувшись пополам. Грустно стало от созерцания этой картины.
Твердо решил: никаких дач или садовых домиков у нашей семьи не будет. Дом в деревне, и чтоб земли было столько, сколько нужно, и чтоб лес, водоем какой-нибудь и обязательно тишина – вот это и буду искать. Нашел сравнительно быстро: знакомый подсказал, что в деревне Мешково продается старенький рубленый дом. Все условия подошли, и быстро, не торгуясь и практически не глядя, приобрели этот дом за 1300 рублей. (В то время «Жигули» стоили примерно 6000 рублей.) Хозяева в доме давно не жили и были очень довольны, что продали его, ведь еще год-два и дом развалился бы и продавать тогда стало бы нечего. Директор местного совхоза своей властью отписал десять соток земли, пояснив, что больше дать не имеет право, а использовать можно гораздо больше – хоть пятьдесят.
В те годы человек мог иметь только одно место жительства: или государственную квартиру, или собственный дом, где гражданин и должен быть прописан. Люди исхитрялись и оформляли владения по-разному: через дарственные, через наследование. Обычно это проходило гладко, но случалось сталкиваться и с обманщиками. Встречались хозяева-прохиндеи: оформят бумаги, получат деньги, а через некоторое время передумают – отзовут дарственную или перепишут завещание на другого человека. Но к тому времени новый собственник мог уже хорошо вложиться в приобретенное имущество.
Зная о подобных «фокусах», решил твердо: никаких завещаний и дарственных, дом оформляю по купчей. В сельсовете немного попротестовали, но найти запрещающие документы не смогли. Да их, вероятно, и не существовало. Запрет был не юридический, а идеологический, соответствующий концепции, что буржуазные замашки граждан власть поощрять не должна. Оказалось, что в то время подобных случаев приобретения дома в Калужской области не было. И за это нарушение председатель районного исполкома впоследствии имел серьезные неприятности.
Вот так я стал владельцем дома и участка в этой деревне. Поскольку мы с женой работали, а двое детей учились – один в школе, другой – в институте, – то приезжали семьей в Мешково только в выходные дни и в отпуск. А это значит, что все хозяйство оставалось безнадзорным в теплый период пять дней в неделю, а в холода – по меньшей мере, полгода. Было постоянное опасение, что разворуют наше добро. Поэтому, с одной стороны, не торопились тратиться, делали только самое необходимое, а с другой – стремились получше познакомиться с жителями деревни, стать для них полезными, чтобы они присматривали за нашим хозяйством. Старались, как могли, оказывать соседям разные услуги, терпели иногда их выкрутасы. Потихоньку перезнакомились, как-то притерлись и стали почти своими.
Мешково, как многие среднерусские деревни, жалась к воде. Дома стояли по сторонам оврага, по дну которого протекал безымянный ручей. В половодье он становился маленькой бурливой речкой, летом снова входил в свои берега, неся холодные (видимо, ключевые) воды в реку Шаню, чистую, не оскверненную никакими производствами.
До войны в деревне стояло не меньше пятидесяти домов, молодежь ходила «на круг», танцевали под гармонь и патефон, пели песни. Немцы в войну оставили свой след: здесь квартировала какая-то пехотная часть, скорее всего – рота. Убегали быстро и внезапно, сжечь ничего не успели, но многие дворы разорили, разобрав строения на дрова. В коллективизацию создали небольшой колхоз, а после войны из нескольких колхозов сделали один совхоз – «Петровский», контора которого размещалась в Гусево. Хозяйство работало рентабельно, регулярно платило неплохую зарплату, кроме того, по себестоимости, а значит, задешево, продавало работникам продукты: мясо, молоко, зерно. Застали мы в совхозе огромные свинарники и немалое стадо коров. В полях выращивали картофель, свеклу, рожь и овес. В общем, совхоз как совхоз.
Перестройку начали с того, что ликвидировали все свинарники – основу своего благополучия. А дальше уже быстро покатились по дороге обнищания. Молодые уезжали в города, старики тихо доживали свой век: типичная картина для средней полосы России. Ко времени нашего укоренения в этой деревне осталось там 17 домов. Располагались они по обе стороны оврага: 12 – на пологом, нашем склоне, и 5 – на противоположном, крутом. С самолета виделось это, очевидно, как шамкающий рот старого человека, лишившегося многих зубов. Где 5 домов – верхняя челюсть, а где 12 – нижняя. Вверху промежутки между домами были немалые, а когда-то, судя по остаткам фундаментов, дома очень плотно стояли друг и другу. Потерь зубов-домов в нижней челюсти, на пологом склоне, было поменьше – никак не больше трех-четырех. Эта часть деревни жила активной жизнью, да и воспринималась всеми (в том числе властями и посторонними) именно как сама деревня, а те строения, что стояли на другой стороне – это как бы несущественное приложение к ней.
Фактически так оно и было. Из пяти домов, что стояли на высоком берегу ручья, три пустовали. В одном, маленьком, неказистом, собранном из щитов, жила Раиса, сестра нашего соседа Володьки, крикливая одинокая женщина лет пятидесяти. Вдруг объявили, что она умерла, покончила с собой – повесилась. Причина самоубийства не выяснялась, следствия никакого не было, тихо и незаметно похоронили ее и забыли. Ни разу впоследствии не слышал, чтобы кто-либо о ней вспоминал.
Известно было, что хозяин одного заброшенного дома – местный мужик. Все звали его Толян. Жил он в Прокшине и в Мешково иногда наведывался. Говорил, что хочет сдать дом дачникам. Но проходили годы, а дачники что-то не появлялись. Один дом приобрел москвич, бизнесмен средней руки. Не торопясь приводил хозяйство в порядок. Но бывал там редко, только летом, да и то не каждую неделю. Жизнь теплилась в двух домах. В одном жили деревенские пенсионеры – муж с женой, в другом – тоже семья: лесник, его жена и взрослая дочь.
Почти все обитатели деревни старались с нами, москвичами, познакомиться. Кто-то скромно приходил и чинно представлялся, предлагая свою помощь. А иные, идя мимо, здоровались и называли себя, сообщая, где они живут. Именно так познакомился я с лесником. Делал я какую-то работу за оградой, на задворках. Шел мимо и вдруг свернул в мою сторону маленький сухонький мужичок средних лет. Чернявый, без признаков седины, в форменном потертом кителе, в руках – фуражка. Видно было, что он работник какой-то лесной службы. Поздоровался, спросил, что, дескать, поселились у нас? «Да, – говорю, – летом будем жить, а зимой – в городе, в Москве». – «Ага, понятно, – протянул руку, – Юрка». Пожал его узенькую ладонь, назвал себя по имени-отчеству. Спрашиваю: «А тебя как зовут полностью, отчество-то какое?» Махнул рукой: «Зови Юрка». Удивился, но настаивать не стал. Потом уже как-то свыкся с тем, что все в деревне звали друг друга Сашка, Генка, Колька, лишь иногда: Рая, Виктор, Паня, но никогда не обращались по отчеству. Знакомый до этого периода с деревенской жизнью в основном по классической литературе, я знал, что до революции у нас на селе было принято называть хозяина, даже совсем молодого, уважительно – по имени и отчеству. Помнил также из книжных рассказов о Ленине, что когда в Кашине Владимир Ильич знакомился с местными крестьянами, то они представлялись ему как Иван Спиридонович, Митрофан Игнатьевич и т. д., с чувством собственного достоинства и самоуважения.
Трудно понять, почему мы вдруг так помельчали и опустили себя. А ведь это замечено не только в данной деревне. Повсеместно ли такое отношение к себе у нашего народа, сказать трудно, но тенденция налицо. Это хорошо заметно на телевидении, когда какой-нибудь 30-летний ведущий обращается к пожилому профессору: «Петр, а что вы думаете по этому поводу?». И Петр, не поправляя невежду, начинает излагать свое мнение. Здесь проявляется явный американизм. Там, в Соединенных Штатах, свойственно такое обращение. Но у нас-то традиции другие.
Неуважительное отношение к себе и друг другу уже проникло в молодежную среду. Однажды я проводил занятия со студентами, будущими менеджерами. Положенного журнала учета посещений почему-то не было. Дали мне список группы, написанный от руки, а в нем увидел примерно следующее: Азаров Витя, Бочарова Таня, Васин Коля и т. д., всего 24 человека. Насмешливо спрашиваю: «Это что, группа детского сада?» Знал, конечно, что это студенты четвертого курса, заочники, значит, существенно старше обучающихся на дневном отделении. Пришлось разъяснять, что для того, чтобы добиться уважения к себе со стороны окружающих, нужно прежде самому себя уважать. И если в официальной обстановке представляться как Вася или Маша, то и отношение к тебе будет соответствующее. Это, конечно, не значит, что если назовешься Василием и Марией, то этого будет достаточно для уважения со стороны коллег, но что будет сделан первый и правильный шаг в завоевании авторитета – сомнений нет.
В деревне Мешково ни о каком американизме, конечно, не слышали и никому не подражали. Дело, видимо, в том, что люди не ощущали себя личностями, а в этом случае то, как тебя называют, большого (а может быть и никакого) значения не имело.
В конце 80-х годов довелось побывать в служебной командировке в Княжпогостском районе Карелии. В краеведческом музее узнал, что до революции там жил крестьянин-кустарь, умевший делать необыкновенные валенки: легкие, тонкие, но при этом почти не пропускающие воду. Носили их дамы императорского двора, в том числе и особы царской фамилии. Остались сведения очевидцев, что из заполненного водой валенка она начинала сочиться только через час. Вот такую он делал обувь. Немыслимо, чтобы этого человека называли Ванькой или Васькой. В музее рассказали, что судьба его оказалась трагичной. Сельчане буквально заваливали его заказами. А он все их выполнить не мог: собственный надел надо обрабатывать. Упросили его делать только валенки, а мы, дескать, тебе и вспашем, и засеем, и урожай уберем. Такой был уговор. А когда пошло раскулачивание, то шустрые и активные комбедовцы приперли его к стенке: «Применял наемный труд – это факт». Хозяйство конфисковали, а самого куда-то выслали, и след его простыл.
В Мешкове же даже отдаленно похожих специалистов не было. Я пытался узнать, а может, раньше здесь жили какие-то люди с изюминкой, что-то такое умели, что другие не могли. Да нет, говорили мне, жили все одинаково, не высовывались, ковырялись в своем хозяйстве, в колхозе работали, потом в совхозе. Казалось, безликая какая-то деревня. Но, однако, каждый человек был со своим характером и блюл свои интересы.
На самом краю нашего ряда стоял небольшой неказистый домик, в котором жил одинокий старик. Питался он с огорода и получал, как говорили, небольшую пенсию. Прожил он после нашего появления в деревне недолго, года два, не больше. Тихо и незаметно помер, и так же незаметно его похоронили. Позже мы узнали, что работал он когда-то председателем здешнего колхоза, если и не первым, то одним из первых. По деревне ходил, опираясь на палку, держался прямо. Одет всегда аккуратно, хоть и бедно: брюки и пиджак, светлая рубашка, тупоносые тяжелые ботинки. Звали его Тихон. Пообщаться с ним довелось всего один раз. Подошел он однажды к нашей невысокой ограде, оперся об нее двумя руками, стоит, молчит. Я поздоровался, спросил, что ему нужно-то. Он посмотрел на меня немигающими, пустыми глазами и заговорил: «Иисуса Христа я сегодня видел. Был он у меня. Выхожу утром из дома, а он мне навстречу. Волосы длинные, в белой одежде». И замолчал. Я стою, жду, что еще скажет. Он продолжал: «Постоял он около меня, посмотрел внимательно, повернулся и ушел. И в тумане пропал». Старик, не ожидая моей реакции, поковылял в сторону своего дома, как тот Иисус Христос, о котором он только что рассказывал. Скончался он, спустя всего несколько дней после нашей встречи. После похорон в его домике появилась какая-то юркая тетка, по возрасту – молодая пенсионерка, которую раньше никто никогда не видел. Жила летом, сторонясь всех. Приезжала, не замеченная никем, и так же незаметно исчезала.
Генка и Галька
Рядом с домиком Тихона располагалось хозяйство семьи Козленко: муж – Генка, жена – Галька. Лет им было в начале 80-х не больше 35, их сыну Лешке – годов 5. Генка был малорослый, но крепкий мужичок. Галька – выше его на полголовы и тяжелее пуда на два. С большим бельмом на правом глазу и могучей фигурой производила впечатление главы бандитской группировки. Начинала говорить – и мнение в этом укреплялось: лающая манера изъяснения и каждое третье слово – матом. Работала в совхозе в полеводческой бригаде, а когда он развалился – переключилась целиком на свое хозяйство. Генка трудился где-то в лесничестве. Пьянствовал, его выгоняли, а потом снова брали на работу – людей не хватало, а он в трезвом виде считался толковым работником: понимал и в плотничном деле, и в печном, да и к тому же неплохо разбирался в технике, имел права на управление трактором и автомашиной.
Когда началось фермерство, он сразу же включился в эту работу. Оформил землю в аренду, быстро соорудил для скота помещение и разместил там купленных в совхозе двадцать бычков. Землю засеял пшеницей. Пить бросил напрочь. Вертелся на работе вместе с Галькой от зари до зари. Если раньше дружил с Володькой, нашим соседом, объединяясь с ним общим интересом по поводу выпивки, то теперь связь эту оборвал. Стал к нам прибиваться: как свободная минутка появится – идет в нам в гости вместе с Галькой и сыном. Поим их чаем, знаем, что спиртного – ни-ни, не предлагать. Жалуется на Володьку: тот смириться не может, что потерял собутыльника. Все, говорит, в драку лезет, как увидит меня, так и норовит подраться. Слыша это, Галька реагировала всегда одинаково: «Увижу такое дело, Володьку прибью, так ему и скажи». Но Володька, видно, имел это в виду, оттого, кроме скандальных разговоров, ничего и не предпринимал.
Генка вел с нами умные разговоры экономического характера: о расходе кормов на бычков, о ценах на мясо в живом весе, об урожае пшеницы, да сколько он соберет зерна, сколько заработает. Считал все правильно. Слушал я его и душа радовалась. Вот, думал, нашел себя человек. А Галька, сидя у нас, откровенно маялась: ругаться нельзя, глупости молоть тоже нежелательно, да и говорить криком не пристало. А беседовать-то надо, и ее, бедную, от такого напряжения даже пот прошибал. Долго не выдерживала, полчасика, не больше.
Генка продолжал уверенно двигаться по пути к успеху. Упорно трудился: заготавливал сено для бычков, добывал для них комбикорм, устроил поилку, провел электричество в коровник и постоянно старался что-нибудь рационализировать, улучшать. Дорогу к своему дому выровнял щебнем, ограду, не ремонтировавшуюся лет десять, привел в порядок. Всем стало видно, что это – усадьба серьезного человека. Даже Галька изменилась: стала опрятней одеваться, меньше говорить, больше работать. Приятно было смотреть на эти изменения. Думалось – вот наглядное влияние свободного труда, без какого-либо принуждения, работа на себя, а не на дядю или государство.
Наступила осень, пришло время собирать урожай и получать дивиденды за напряженный труд. Бычки, по словам Генки, дали «нормативный привес». Сдал он их заготовителям с Калужского мясокомбината. Увезли бычков на нескольких автомашинах. С ними же уехал и сам хозяин. На комбинате после взвешивания скотины дали ему справку, а деньги обещали только дней через десять, не раньше. Такой вот был у них тогда порядок. Ну, а не хочешь – не сдавай, занимайся сам и забоем, и продажей мяса.
Для Генки эта ситуация стала серьезным напрягом. Он поскучнел, затих. Впереди, однако, его ждало еще более серьезное испытание. Пшеница на его пяти гектарах созрела и зерно начало осыпаться, нужно было срочно убирать урожай. С совхозом была договоренность, что после уборки урожая на своих полях отправят комбайн на Генкины пять гектаров. Но единственный комбайн постоянно ломался, и дело не двигалось. Генка нервничал. Поле было рядом с деревней, поэтому всем было видно, что урожай пропадает. Генка не вылезал из приемной директора совхоза, ловил его на дороге, просил, умолял, объяснял, что урожай может погибнуть. Но директор бы непреклонен: «Уберем свое, а потом – к тебе».
Деревня сочувствовала Генке и кляла бессердечное начальство. На Генкино поле комбайн пришел, когда уже выпал первый снег. Потери зерна были, конечно, большие, но все же то, что собрали, в результате дало приличную прибыль. Зерно Генка сдал на совхозный ток и стал ждать получения за него денег. Это время стало для него, очевидно, самым трудным в жизни. Калужский мясокомбинат срывал обещанные сроки выплаты, дозвониться туда было очень трудно. Совхоз тоже не торопился рассчитываться, откладывая это дело со дня на день.
Сочувствие односельчан Генка стал оборачивать себе на пользу. Идет кто-либо в сторону Гусево, Генка даст ему просьбу-поручение – нажми на директора, пускай не тянет с оплатой. Как-то вечером пришел ко мне и говорит: «Назавтра надо ехать в Калугу, на мясокомбинат, ты давай, отвези меня». Это была не просьба, а сообщение о работе, которую я должен сделать. Язык не поворачивался отказать, разъяснить, что я занят, да и в Калугу можно съездить на попутке, как все ездят. Отвез я его, за что он дал мне канистру бензина – двадцать литров.
Кончились Генкины мытарства тем, что ему чуть ли не одновременно выплатили положенные деньги и за бычков, и за зерно. В руках у Генки оказалось полтора миллиона рублей. Таких денег у него не было никогда в жизни. На удивление всем стал он совсем другим человеком. Ходил спокойно, важно, говорить стал медленно и рассудительно. Пришел как-то к нам уже не как раньше – послушать хорошего совета, узнать что-то новое, а как равный к равному, сообщить о своих планах. Деньги, говорит, положу в банк под шестьсот процентов годовых. То время было лихое – инфляция бешеная, расплодилось много фирм, разными завлекательными обещаниями выманивающих деньги у клиентов, множество частных банков обещало фантастические проценты по депозитам.
Осторожно разъясняю Генке, что для выплаты ему шестисот процентов годовых банк за этот год должен смочь заработать сам значительно больше, а с учетом инфляции – вообще страшно подумать сколько. Спрашиваю: «Ты сам-то знаешь хоть одно дело, занимаясь которым можно заработать подобную прибыль?» – «Не знаю, но знать-то мне это зачем? Вон сколько у меня вырезок из газет, смотри. Все предлагают большие проценты. Некоторые даже больше шестисот годовых». И, поучающе: «Думать надо. Очень много когда предлагают – это может быть обман. С такими иметь дело нельзя. Вот так». Ясно стало, что Генка, как положено бизнесмену, изучил вопрос, и переубедить его вряд ли удастся. «Ладно, – говорю, – раз все знаешь – действуй». Мое «разрешение» воспринял с усмешкой, дескать, мы и сами с усами.
Отнес он почти все свои деньги в калужское отделение какого-то московского банка. Оставил немного на текущие траты и зажил с этого момента совсем другой жизнью. С Галькой на пару стал выпивать, причем запах шел от него, поддатого, совсем не сивушный, а благородный – коньячный, и курил он уже не «Приму», а красивые длинные сигареты с фильтром. На барахолке в Медыни купила ему Галька белый свитер. Выглядел в нем он очень импозантно.
С неделю Генку никто не видел. Это время он сидел в избе и занимался расчетами. Сделал, как потом рассказывал мне, несколько вариантов. Все они касались его предполагаемых контактов с банками. Идея была такая: через год он получает свои деньги, выросшие в шесть раз, часть тратит, а другую – распределяет по трем-четырем банкам с разными депозитными условиями. Где-то будет брать проценты ежемесячно, в каком-то банке вклад будет выигрышный, а еще наметил держать часть денег в банке в валюте. В общем, разработал целую программу, с которой меня и познакомил. Главное в его программе было то, что работать физически он больше не будет. Хватит, потрудился, поломал спину. Умные люди и жить должны по-умному. Переедет в Медынь, купит там квартиру. Сына Сережку определит в Калуге в платный интернат с математическим уклоном. У пацана ведь явные способности к математике: нет и семи лет, а до тысячи считает запросто. Галька станет домашним хозяйством заниматься.

