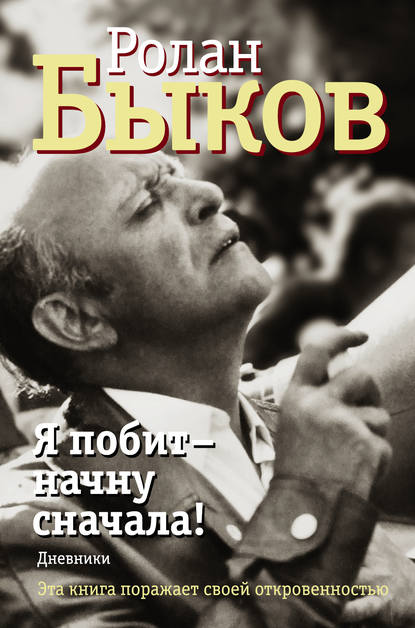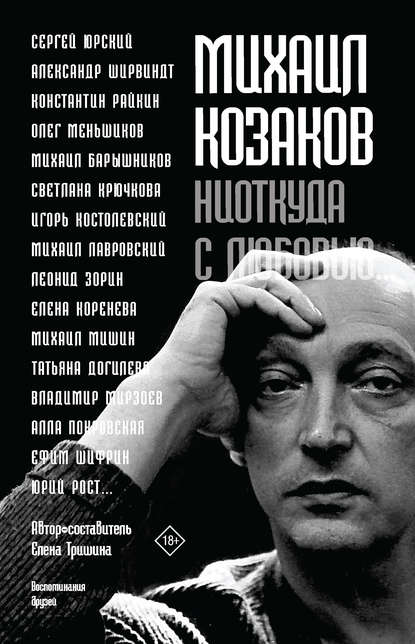Полная версия
Миражи советского. Очерки современного кино
Третье: “Годовщина революции” предрекает великие разрушения устоявшейся, казалось, цивилизации. Не реже, чем люди, в объективе пространства, улицы, дома, города. Даже визионерский кадр с окнами казанского дома, “остроумно” заклеенными крест-накрест, чтоб не полопались от взрывов и выстрелов. Каждый кадр со знакомыми постройками – будь то Зимний дворец, Большой театр или Кремль – хочется поставить на паузу, сравнить с нынешним, найти десять отличий. Вот уничтоженный Чудов монастырь, а вот какие-то “дома у Никитских ворот”, уже в руинах, с чудом уцелевшей вывеской “кондитерской Хатунцева”. Корабль идет по Волге, мимо нас проплывает старая Россия с деревнями и куполами. А люди, истомленные дорогой, спят – будто этот пейзаж им приснился. На берегу латают случайные хижины оставшиеся без дома беженцы.
Таких моментов ненамеренной (хотя кто знает?) поэзии в “Годовщине революции” хватает. Чего стоят склеенные кадры обугленного трупа и затонувшего на реке парохода – только труба торчит над водой. Но обычно Вертов обходится без спекулятивных методов. Крупным планом – жертва войны, убитый матрос. На одном мертвеце мог бы взойти целый “Броненосец Потёмкин”. А у Вертова уже через минуту у других моряков – “бодрое настроение”, пляшут вприсядку. Контрасты смотрятся впечатляюще.
Наконец, хотел того автор или нет, это фильм о природе кинематографа. Полвека спустя Алексей Герман будет уговаривать своих актеров нарушить правило – посмотреть в камеру, зрителю в глаза. Людей “Годовщины революции” упрашивать не надо. Напротив, они не в состоянии не замечать камеры. Иногда, кажется, свидетели событий выстраиваются вокруг камеры и не дают ей снять что-то крайне важное – скажем, штурм Зимнего. Находясь вне поля зрения, она остается центром картины в противовес обычно молчащим, будто бы декоративным, пушкам и пулеметам. Вертов сделал фильм о кипящей, счастливой, ожидающей царства небесного вот-вот, на Земле, жизни – и ее борьбе с небытием, смертью или забвением. Главным инструментом жизни становится камера. Она – пропуск в пока невидимый Эдем; будто “Годовщина революции” – документальная сестра написанной в том же году “Мистерии-буфф” Маяковского.
Финал “Годовщины революции” напоминает еще об одном ключевом революционном тексте – утопическом платоновском “Чевенгуре”. В фильме некие Кондратий Коганов, Ефим Парфёнов и Василий Ксензов в идиллической коммуне на фоне пасущихся гусей строят светлое будущее: пашут в поле, доят коров, кормят взрослых и детей. Дело происходит в бывшей барской усадьбе, от которой осталась ныне пустующая башня-тюрьма – романтическая, будто со старого немецкого пейзажа. Кажется, тюрьмы больше никогда никому не понадобятся. То ли хеппи-энд, то ли открытый финал.
Сравнительно короткий и довольно недружелюбный отзыв на один из последних фильмов Балабанова. Тогда и представить себе было нельзя, что через считанные годы его не будет в живых, он внезапно окажется канонизированным классиком, трагически рано покинувшим нас. В любом случае фильмы Балабанова провоцировали на резкую и острую реакцию, и даже события столетней давности в его картинах казались сегодняшними. Это редкое, даже уникальное для отечественного кино качество особенно очевидно в “Морфии” – возможно, самой страстной из российских экранизаций прозы Булгакова.
Один укол на всех
“Морфий” Алексея Балабанова (2008)
Фильмы Алексея Балабанова – чистый морфий; окончательно ясно это становится после просмотра нового опуса. Одни потребляют Балабанова обильно, то впадая в эйфорическое состояние, то бросаясь блевать к унитазу. Другие боязливо отказываются от сильнодействующего средства. Третьи считаются умеренными и избирательными морфинистами, теша себя надеждой, что “еще не подсели”. Четвертые ведут уверенную антинаркотическую пропаганду – поскольку абсолютно всем ясно: Балабанов – это кайф, но вредный для здоровья.
Двенадцатая инъекция Балабанова в мировой кинематограф – не рядовой укольчик, а одна из сильнейших доз: передохнуть после “Груза 200” своим фанам-наркоманам и противникам-трезвенникам режиссер не дал. Известно, что сам он делит свои фильмы на “коммерческие” и “авторские”. “Морфий” – третья, после “Брата” и “Войны”, его работа, подпадающая под оба определения сразу. Что любопытно, все три были связаны с Сергеем Бодровым-младшим: в первых двух он играл, в “Морфии” его сценарий.
С одной стороны, последовательно рассказанная история молодого доктора в до- и околореволюционной русской глубинке, как любая врачебная эпопея, полная трагизма (люди-то болеют и умирают) и катарсических моментов (других врач, неожиданно для себя, спасает от верной смерти). Есть яркий герой – Леонид Бичевин, в которого Балабанов после “Груза 200” уверовал не меньше, чем когда-то в Бодрова. Есть отчетливая любовная линия, отменно разыгранная Бичевиным и Ингеборгой Дапкунайте – тут, кажется, лучшая ее роль. Любимцы народные Андрей Панин и Сергей Гармаш. Песни Вертинского. В конце концов, в основе сюжета – “Записки юного врача” Михаила Булгакова, самого популярного из русских классиков XX века. С другой стороны, булгаковский сюжет об абсурдном саморазрушении порядочного молодого человека здесь воплощен настолько натуралистично и скрупулезно, что становится физически не по себе. В памяти сразу всплывают “Груз 200” и “Про уродов и людей”. Дело, разумеется, не в страшненьких эпизодах трахеотомии и ампутации, а в операции более масштабной – добровольном превращении хомо сапиенса в комок страдающей биомассы при помощи вспомогательного средства: морфия.
То, в чем Булгаков (сам врач, как-никак) видел клинический случай, для Балабанова – образ обобщенный. Потому и революция в “Морфии” не проходит незаметно, по краю (“Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Николая II”, – читаем в книге), а охватывает огромное студенистое тело империи как фатальная болезнь. Февральская напасть – необъяснимая суицидальная одержимость сродни той, что губит, без явных причин, забавного талантливого юнца, доктора Полякова. У Балабанова, как и у Булгакова, врач стреляется, только в фильме самоубийство – не суд над собой, а историческая неизбежность: оно приравнено к слиянию с толпой революционного быдла, ржущего над тупой комедией в провинциальном синематографе. Морфинизм как медленная деградация показан через серию кратких главок, отделенных друг от друга ретровиньетками с титрами. Перед каждым титром – “зтм.”, киношное затемнение. Всё темнее с каждой минутой, всё короче главы, и так до самого конца: убыстряющийся темпоритм в картине – практически идеальный, от экрана не оторваться.
В “Брате” и “Войне” герои были активными, агрессивными, настроенными на решительную победу – даже когда воевали со всем миром в одиночку В “Морфии”, как и в “Грузе 200”, и герой, и идея – страдательные: ближайший предшественник Балабанова этих двух фильмов – писатель Достоевский. Без некоторых идеек из “Дневника писателя” (гениальному Фёдору Михайловичу хватило ума не вставлять их в романы) тоже не обошлось. Злым двойником Полякова – еще одним морфинистом, но не трагическим, а карикатурным – оказывается носастый и очкастый фельдшер Горенбург. Да и в финале, увидев из окна, как революционные солдатики пинают господ, обезумевший доктор кричит в форточку что-то неразборчивое о жидовских тварях.
В принципе, картина саморазоблачительная: беспричинно доведя себя до ручки, на краю могилы русский талант начинает истерически орать, что во всем виноваты евреи – нация, которую герои Балабанова со времен “Брата” “как-то не очень”. В этот момент вся грозная сила “Морфия” вдруг куда-то испаряется, оставляя одно лишь похмельное чувство сильнейшей ломки. И сколько бы друзья и коллеги Балабанова ни уверяли общественность, что он не антисемит (сам режиссер мрачно отмалчивается), с каждым фильмом эти слова всё больше похожи на испуганное заклинание Полякова: “Что вы, я не морфинист!” Что ж, каждому – своя болезнь. Кино, собственно, об этом.
Свадебный адмирал
“Адмиралъ” Андрея Кравчука (2008)
Не очень понятно, как писать о фильме “Адмиралъ”. Всё, что вы скажете, может быть обращено против вас: кино-то всё равно, как выражаются прокатчики, “свое соберет”. На самом деле соберет и чужое. Выходя в количестве 1250 копий по всей стране, “Адмиралъ” отнимет экраны у всех, кроме совсем уж отчаянных маргиналов. Хоть слово скажешь против – реальность тебя опровергнет. Кстати, хвалить тоже бессмысленно: в общем вале тщательно просчитанной рекламы индивидуальные голоса так или иначе утонут. Народ пойдет, ему понравится. Под шапкой “Первый канал представляет” сегодня кассовым хитом станет даже фильм о любви зубочистки к спичечному коробку.
Освоенная производителями самых кассовых фильмов тактика “смотрите на всех киноэкранах страны” лишает хлеба не только критиков – вредное племя профессиональных дармоедов, которым бы только поглумиться (а Колчака расстреляли, а его любовь в лагеря отправили, а Хабенский сколько страдал, а режиссер Андрей Кравчук на это кино шесть лет жизни убил! Как не стыдно!). Расслабляется зритель, которому заранее известно: если везде – значит, хорошо, а где и когда – нам сообщат, не пропустим. Расслабляются буквально все участники съемочной группы – за твердокаменной спиной Первого канала им так уютно, а барыши кажутся настолько надежными, что особенных причин рвать себя на куски нет. Ну да, не очень-то рыночно, зато душеспасительно. Для русского человека что важнее – рынок или душа? То-то.
Душа требует немногого. Всего-то ответа на несколько вопросов. Первый из них: зачем было делать такой дорогостоящий и сложный фильм именно о Колчаке? Возможно, в биографии адмирала нашли благодатный материал для увлекательного сценария? Предположение неверное: самые интересные детали в картине отражения не нашли. Колчак – покоритель Севера, прототип героев “Земли Санникова”… на это в фильме нет ни намека. Колчак – герой Русско-японской войны… и не догадаешься об этом (в кадре адмирал бьет только немцев и большевиков). Колчак – трагический тиран, по приказу которого в Екатеринбурге были расстреляны двадцать пять тысяч человек… видимо, малозначимый факт – создатели фильма не сочли нужным ни опровергнуть его, ни подтвердить. Даже яркий эпизод с георгиевской золотой шашкой, выброшенной Колчаком за борт в знак протеста против приказа сдать оружие, рассказан не до конца: шашку-то потом водолазы со дна извлекли и отдали владельцу! Об этом зрители не узнают. Узнают они лишь о том, что в жизни Колчака были две, но пламенные страсти: служить Руси Святой и любить Елизавету Боярскую (она же мужняя жена Анна Тимирёва). Биография любовницы адмирала тоже из увлекательных: сама сдалась властям, провела в лагерях и ссылках тридцать семь лет. Об этом – не больше одного скупого титра в финале; ГУЛАГ в географию гламурного блокбастера вписывается с трудом.
Так, наверное, авторы решили реабилитировать белое движение в глазах широкой публики? Однако и эта цель немного странная. Нынешний зритель, особенно молодой, не так много знает о том, чем белые отличались от красных, а зритель постарше твердо помнит еще со школы, что Колчак – негодяй высшей пробы. Так или иначе, если кто-то хотел расставить точки над “i”, ничего не вышло. В картине так много путаных деталей и второстепенных исторических лиц, такое количество лакун в сценарии, что понять смысл происходящего сможет лишь человек, прочитавший несколько монографий о Гражданской войне. А он и без “Адмирала” всё знает.
Впрочем, кое-что усвоят даже недоросли. Во-первых, русский человек должен верить в Бога, как можно чаще креститься и молиться, а в заплечном мешке носить иконку-другую на крайний случай. Во-вторых, русскому человеку следует опасаться людей нерусских – обязательно предадут в самый неудобный момент (вот сдача Колчака большевикам французом Жанненом и чехами показана во всех деталях). В-третьих, белые офицеры, их жены, дети и даже некоторые гражданские соратники были честью и совестью своей эпохи – никогда не лгали, не подличали, даже под ураганным огнем или в постели обращались друг к другу исключительно по имени-отчеству. Напротив, большевистская шваль состояла из отбросов человечества – постоянно хамили, богохульствовали, убивали, грабили, а в перерывах между злодеяниями смачно сморкались в кулак. Хотя и тут неясно: почему для того, чтобы сообщить столь элементарные вещи, надо было тревожить многострадальную тень Колчака?
Может, для того чтобы иметь возможность показать памятную со времен “Чапаева” каппелевскую “психологическую атаку” с противоположным знаком? Под началом Сергея Безрукова (он же генерал Каппель) и под “Прощание славянки” белогвардейцы, у которых кончились патроны, героически шагают на врага, а подлые красные косят их пулеметными очередями… только за пулеметом почему-то не Анка, а безвестный мужик в папахе. Саморазоблачительный эпизод: ведь тактика Первого канала – не только колоссальные рекламные бюджеты, но и психологическая атака на все кинотеатры и всех зрителей страны.
Следующий вопрос: зачем был нужен Константин Хабенский? Отметем как недостойную деталь условные рефлексы индустрии: формула “Хабенский + Боярская + Безруков = успех и много денег” неактуальна, ибо съемки “Адмирала” стартовали задолго до “Иронии судьбы-2”. Так значит, и правда хотели подарить Хабенскому роль на все времена? Может быть. Отчего ж тогда этот ходульный страдалец даже в любви толком на экране признаться не может? А прося руку и сердце возлюбленной, адмирал каменным голосом добавляет: “Я задал вам конкретный вопрос”. Да еще и свели, на свою беду, Хабенского с Виктором Вержбицким, сыгравшим Керенского, – ну чисто Городецкий с Завулоном, раздираемый противоречиями “светлый иной” на рандеву с “темным лордом”. Ассоциация с “Дозорами” действует железно, и верить в то, что перед тобой персонажи из учебника истории, уже никак не получается. Не работает даже очевидное портретное сходство актера с Колчаком. Лишь в сравнении с инфантильной хорошенькой физиономией Боярской лицо Хабенского может показаться исполненным возвышенного страдания – как лик Иова с иконы, подаренной Колчаку императором Николаем II (в роли оного – Николай Бурляев, загримированный так, что в нем никак не опознать ни царя, ни известного артиста). А вот рядом с Каппелем-Безруковым никакой Боярской нет. Его, бедолагу, в иконописного мученика превращают более жестоким способом – отпиливая в кадре гангренозные ноги.
Или вот еще вопрос: стоило ли ангажировать автора симпатичной скромной мелодрамы “Итальянец” Андрея Кравчука для того, чтобы запустить в действие всю эту громадину? Всё равно ни кравчуковского, ни чьего-либо еще индивидуального стиля в “Адмирале” не ощущается.
Многочисленные вопросы упираются в один, основной. Кто стоит за этим мегапроектом? Кто построил, а потом потопил в кадре столько боевых кораблей? Да ладно в кадре, на бюджет одной только премьеры в “Пушкинском” можно было бы снять две-три картины попроще! Циники, которым надо бить собственные рекорды и искусственно растягивать бокс-офис отечественного проката, – или неисправимые романтики, по каким-то таинственным причинам влюбленные в адмирала Колчака? По всему похоже, что на “Адмирале” одни встретились с другими: первые отвечали за размах батальных сцен, вторые – за почвеннически-религиозный пафос. Что же их объединило, если не госзаказ (но государству сейчас фильм о главном герое “белого движения” вроде не очень нужен)? Прислушайтесь к словам, чаще всего произносимым с экрана: “Вера, Надежда, Любовь; но Любовь из них больше”. Они и объединили.
С верой в Бога и надеждой на коммерческий успех всё понятно. А о какой любви идет речь? Создатели “Адмирала” повторяют это слово так часто, будто хотят убедить – даже не зрителя, а самих себя, – что снимают мелодраму. Уговаривают по-разному. Например, читают за кадром письма Тимирёвой Колчаку (текст трогательный, но хрипловато-безразличный голос Боярской подводит). Глушат неприлично-сентиментальной музыкой. Вставляют в фильм аж три прямые реминисценции из “Титаника” – с играющим перед смертью оркестром, с утоплением положительного героя, с постаревшей девушкой, танцующей на балу с утраченным возлюбленным… Ничего не выходит. По Фрейду, Колчаку с Тимирёвой не удается ни поцеловаться в кадре, ни даже выпить на брудершафт – тем более не нашлось места для эротики. Этот брак если где и свершится, то только на небесах.
Нет, в “Адмирале” речь идет совсем о другой свадьбе – мистическом ритуале, наподобие Химической Свадьбы Христиана Розенкрейца. Лабораторном опыте, в результате которого появится – если не в жизни, то хотя бы на экране – совершенный Голем: Верховный Правитель России (именно такой титул принял когда-то Колчак) с лицом секс-символа Хабенского, с Богом в душе и триколором над головой, с холодными руками и горячим сердцем, русский par excellence.
Многое объясняет финальное явление Фёдора Сергеевича Бондарчука в роли Сергея Фёдоровича Бондарчука, снимающего в 1964-м на “Мосфильме” “Войну и мир” – там-то и работала историческим консультантом Тимирёва. “Адмиралъ” счастливо завершает миссию “Иронии судьбы-2”. В той комедии счастливый гламур современной России сочетался браком с теплым 340-том брежневских 1970-х; здесь к этой дуалистической схеме присоединился третий элемент – величие дореволюционной империи и ее мифических обитателей. В последних кадрах “Адмирала” из вод морских встает непотопляемая громадина Руси Триединой – главного объекта любви. За нынешнюю РФ отвечает состав популярных киноактеров. За Россию, Которую Мы Потеряли, – самолично адмирал Колчак. За связующую нить Советской Державы и славные традиции советского кино – Сергей Бондарчук, обретший экранный облик своего сына и наследника, центрального персонажа сегодняшней киноиндустрии.
Якорь брошен, пушки наведены, прицелы проверены. Мишень – зритель – ждет выстрела, затаившись, как кролик перед удавом. Пли! Пощады не ждите. Ибо (цитируя фильм) “сильна, как смерть, любовь”.
Ушедшие на дно
“Жила-была одна баба” Андрея Смирнова (2011)
Закрыв XIX Выборгский фестиваль “Окно в Европу” и поразив даже наименее лояльных зрителей (два с половиной часа из крестьянской жизни всё-таки выдержит не каждый) уровнем постановочного мастерства, новый фильм Андрея Смирнова “Жила-была одна баба” отправился в Монреаль, чтобы представлять нашу страну в конкурсной программе. Победа на этом фестивале была бы весьма приятной – прежде всего для создателей картины, в меньшей степени – для директоров кинотеатров или рядовых зрителей, которым и каннский штамп на постере – пустое место. Зато и проигрыш не обиден. Да и вообще, важна тут не столько послепремьерная судьба картины – учитывая то, как вяло публика сейчас ходит на российские фильмы, на сенсации надеяться не приходится, – сколько картина как таковая. Всё-таки Смирнов – автор “Белорусского вокзала” и “Осени”, он знает не понаслышке, что такое “полка”, каково быть отделенным от своей аудитории. Знает он и о том, что срока давности настоящие произведения не имеют. Пройдет время – рассмотрят, оценят, поймут. Ведь прошло сто лет с тех событий, которые описаны в фильме, и только сейчас о них наконец-то сделано кино. А смотрится, увы, актуально и своевременно.
Речь о Тамбовском восстании, трагическая 90-летняя годовщина которого неслучайно совпала с премьерой фильма, о так называемой антоновщине. Крупнейший бунт крестьян против советской власти, подавление которого ознаменовало и финал Гражданской войны, и начальный этап уничтожения крестьянства как класса, ни разу не становился материалом для значимого художественного текста – литературного ли, кинематографического ли. Недаром Смирнов, кроме исторических источников, ссылается на классику: Лескова, бунинскую “Деревню”, чеховских “Мужиков”.
Это и понятно: само восстание – лишь кульминационный эпизод картины, сделанной в редком и трудном жанре фундаментального киноромана (чисто жанровые, не содержательные аналоги – “Угрюм-река”, “Сибириада”, “Тихий Дон”). Речь, как явствует из заголовка, – о частной судьбе женщины, прослеженной от 1909 до 1921 года. Теперь вопрос: зачем сейчас – и об этом? Ответ откроется любому внимательному зрителю: крокодиловы слезы по потерянной России – результат лени и неинформированности, а еще – непонимания того, как беспомощен и жалок человек перед лицом Истории. Это она бессмысленна и беспощадна, а не пресловутый русский бунт – осмысленный, но безнадежный. Так было сто лет назад, и с тех пор ничего не изменилось. В этом весь ужас. Впрочем, фильм Смирнова дышит совсем другими чувствами: горечью об утраченном, нежностью к невидимому и любопытством. Последнее, пожалуй, важнее всего – это ключ к “археологии чувств”, которой режиссер предается, пытаясь несуетно, тщательно и отстраненно воссоздать исчезнувший мир.
В центре фильма – довольно очевидный и во всех смыслах прозрачный, но от этого не менее действенный образ: град Китеж. “Жила-была одна баба” начинается подводными съемками – и завершается мифическим потопом, впечатляющие кадры которого резко контрастируют с ультрареалистической манерой повествования остальных частей картины. Метафора не нуждается в расшифровке: Россия ушла на дно, и нет больше ни тех людей, ни тех домов, ни тех икон, ни тех речей, что были прежде. Не то чтобы затонувшие жители Тамбовской губернии были поголовно святыми, да и большевики в фильме не выведены как нечестивое воинство хана Батыя. Скорее, речь о предощущении Апокалипсиса, явленного в частной судьбе отнюдь не героической, ничем не выдающейся крестьянки, потерявшей одного за другим четырех мужей. Интересно, кстати, что судьбу описанного в летописях XVIII века мифического города, по легенде, волшебным образом затонувшего в XII столетии, подробно начали осмыслять только современники смирновской бабы – Римский-Корсаков написал оперу о Китеже в 1907-м, Нестеров закончил картину “Град Китеж” в 1922-м.
Впрочем, ни посконно-почвеннической, ни умилительно-былинной интонации в картине Смирнова нет и в помине. Поначалу зритель чувствует себя так же неуютно, как героиня фильма, деревенская молодка Варвара (Дарья Екамасова), которую выдают замуж в дом зажиточного крестьянина – за его младшего сына Ивана (Владислав Абашин), угрюмого и замкнутого парубка. В церкви и за столом невеста еще держится, а когда приходит время отправляться на сеновал, в ужасе кричит и вырывается из рук новой родни – страшно же и к мамке хочется! Не менее страшно и дико любому из нас в этом мире причудливых ритуалов, где суеверие и ведовство гармонично уживаются с религией, заморенная лошадь может стоить жизни человеку, а свекор применяет давным-давно упраздненное “право первой брачной ночи” по отношению к невесткам.
Однако проходит немного времени, и Варвара осознаёт, что ужаснее всего – не соборное копошение, а отделенность от семьи (и, получается, от народа). Выселение супругов на одинокий хутор приводит к катастрофам – изнасилованию, пожару, нищете. И если героиня еще ощущает себя частью некоей большой и неделимой массы, когда отправляется с крохой-дочерью на богомолье – там дурехе, кстати, и рассказывают о Китеже, – то с началом Первой мировой, а потом и революции, ей, а вместе с ней и всем остальным, становится окончательно ясно, что единство распалось, а народ перестал существовать. Россия в фильме Смирнова – архаическая вселенная, в которой невозможны ни индивидуализм, ни индивидуальность, а насильственное, экспериментальное отделение частиц от общей массы моментально приводит к их бесследному сгоранию в непригодной для жизни атмосфере. Именно это происходит и с другими мужчинами Варвары – малахольным новобранцем (Максим Аверин) и угрюмым “кулаком” (Алексей Серебряков), на считанные мгновения озаряющими безрадостную жизнь “одной бабы” вспышками острых эмоций.
Но и остальные, мудро избегающие частной судьбы, идущие в общем строю, обречены – как статные ополченцы армии Антонова, шагающие на верную смерть под залихватскую песню безымянного атамана (в этой роли засветился не только колоритный, но и уместный по-актерски Юрий Шевчук). Поворотный момент уже позади, и плотина вот-вот рухнет, затопив всё и вся потоками безразличной воды – то бишь истории. Неясно, что может помочь выплыть и выжить в этой глобальной катастрофе тому, кто слаб и одинок. Например, филигранно сыгранной артисткой Екамасовой “одной бабе” – которая, увы, всего лишь женщина, а вовсе не мифическая “Родина-мать” или “Русь моя, жена моя”.
Утешительных рецептов фильм Андрея Смирнова не предлагает, и в этом его сила, в этом принципиальное отличие, скажем, от михалковских “Предстояния” и “Цитадели”, где следование христианским заповедям и патриотизм спасали героев от самых невероятных опасностей. Ведь перед нами кино об извечном российском парадоксе – с одной стороны, страна постепенно исчезает, истаивает, стирается с карты мира, как в какой-то злой сказке, а с другой стороны, ничего в ней не меняется, и процесс этой медленной смерти, как в Дантовом аду, кажется бесконечным.