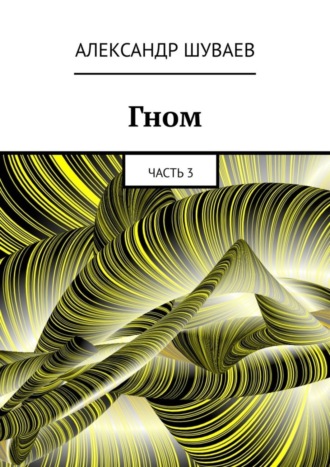
Полная версия
Гном. Часть 3
То, что это не совсем так, выяснилось через несколько месяцев. Этак, – через полгодика. Разумеется, от сожительства с Варгасами она не испытывала ровно ничего хорошего. Никаких приятных ощущений, а только боль и отвращение. И не могла представить себе, что это – вообще может быть приятным. Не верила, что может нравиться хоть одной женщине. Знала, что это не так, но тем не менее была убеждена, что все кругом врут. Такой вот всемирный заговор. Единственное, – со временем обрела определенную привычку, приспособилась к постылой половой жизни. Выработались даже некоторые реакции физиологического характера, которые помогли ей, наконец, практически не ощущать ничего. Так, легкую щекотку, не мешающую думать о постороннем. Зато теперь, по прошествии долгого времени, в одну прекрасную ночь она проснулась от чудовищного, поглотившего на миг все ее существо ощущения. Спазмы, гасящие сознание, еще продолжались какое-то время после пробуждения, только постепенно слабея. Лицо… пылало огнем, похоже, скорее, от сюжета того сна, что снился перед пробуждением, но после как-то позабылся, а между ног было мокро. Настолько, что она лежала в лужице, словно слегка обмочившись, да только тут-то она точно знала, что это такое. Оргазмы бывают разные, но этот оказался впору качественному нокауту: она не сразу смогла встать, а потом идти смогла только по стеночке, с заплетающимися ногами.
Казалось бы, – ну и что? Дело-то житейское. Первый оргазм во сне – такое нечасто, но случается и с девушками. Так-то оно так, вот только случившееся находилось в недопустимом противоречии с той системой, которую она для себя выстроила. Испытать ЭТО помимо воли и вопреки собственной твердой уверенности, что секс – суть мерзость, было для нее более, чем унижением. Возвращением в дом Варгасов, в допросную, в зловонную камеру к замученной насмерть Тересе. Вторым актом и продолжением пройденного.
Еще более унизительным оказалось то, что у ней возникла вовсе нешуточная потребность в сексуальном удовлетворении. Настойчиво требующая своего, навязчивая, переводящая мысли в определенное русло, и, главное, заставляющее вспоминать кое-что из прошлого. Теперь многое из того, что совсем недавно хотелось только забыть, воспринималось как-то по-другому. Попытки воздержания не имели смысла, поскольку, если она переставала ласкать себя, начинались сны с такими сюжетами, что онанизм был куда как приличнее. В системе координат ее нынешней морали, бывшей соединением несоединимого, химерой в классической трактовке понятия, это могло обозначать только одно: полковник дотянулся до нее из могилы, добившись-таки своего. Сделал какой-то половой наркоманкой. Блядью.
Человек, если он все-таки не умер и продолжает жить, как-то сживается с чем угодно. Сжилась с ощущением своего уродства и двадцатипятилетняя, редкой красоты пенсионерка НКГБ-МГБ, только в процессе этого сживания стала, как это случается очень нередко, еще более, – прямо таки до мозга костей, – циничной.
Вот только мужчин она по-прежнему избегала, а однополая любовь даже не приходила ей в голову. Очевидно, была просто органически чуждой.
Ее спонтанное побуждение соблазнить Беровича явилось неожиданным для нее самой, ничем особенным не мотивированным и не преследовало никаких даже умеренно благих целей.
А вот для Сани после той ночи, проведенной в «гостевой» комнате, все прочие женщины просто перестали существовать. На всю жизнь. Чувство, которое он испытывал к ней на протяжении всей совместной жизни, нельзя назвать любовью, поскольку оно не содержало ни дружбы, ни теплоты, ни нежности, ни душевной близости. В нем не было органически присущего любви счастья. Больше всего оно напоминало непреодолимое пристрастие к какому-то темному зелью. Большая беда, если вдуматься.
На случай беды у достойных людей существуют друзья. Иногда они в своем стремлении помочь действуют опрометчиво.
– Этот отчет является совершенно секретным. Гриф: «Разглашению не подлежит», гриф: «Хранить вечно». Это – точная копия. Почитай, любопытно.
– О чем это? – Лениво проговорил Берович, лениво прикасаясь к папке. – Если коротенько…
– Ну, если коротенько, то это о том, как во время штурма Мадрида боевая группа под командованием твоей Насти проникла в частный дом, где и захватила хозяина дома, полковника Варгаса, вместе с семьей. Там она произвела допрос хозяина дома, бывшего крупным чином тайной полиции. В ходе допроса непрерывно применялись недозволенные методы воздействия на допрашиваемых. В частности, сын хозяина дома был на глазах отца подвергнут длительным, крайне циничным истязаниям, в результате которых умер. Ему раздавили пальцы и половые органы, выкололи глаза, – и все такое прочее, захочешь – прочтешь. После этого, хотя полковник во всех подробностях ответил на все вопросы, она проделала с ним примерно то же, что и с сыном, только в расширенном, так сказать, ассортименте. Рассказывать, с твоего позволения, не буду… Собственно говоря, по содержанию этого рапорта ее и уволили. Да оно и понятно: кому нужна кровожадная психопатка с наклонностями садистки?
Да, так все и было. Она продолжила бы истязания и дальше, и подольше, но только приходилось спешить. А когда они проходили через патио, откуда-то из бокового хода на нее бросилась с ножом донна Инес. В одном полурасстегнутом халате, под которым виднелось тучное, рыхлое, болезненно-белое тело. При захвате дома она была связана, как и слуги, но вот как-то развязалась же. Жар-Птица на ходу, не меняя шага, снесла ее очередью из автомата.
– Мне. Все. Равно. – Полузакрыв глаза, раздельно ответил Саня. – Очевидно, он того стоил, а у нее были весомые причины. И запомни: любые разговоры о моей женщине, о ее прошлом, там, о ее моральном облике есть вторжение в мою личную жизнь, которое я ни в коем случае не намерен допускать. И не допущу. Это запретная тема. Для кого угодно и тебя в том числе.
К счастью, бывает и так, что из неудач делают правильные выводы.
– Слушай-ка, – ты зачем все это затеяла?
– Что – все?
– Да всю эту историю с охмурежем?
– А зачем вообще затевают интрижки? Поразвлечься.
– Так ты выбрала себе неподходящую игрушку. На нем половина страны держится, так что полной воли тебе не дадут, не надейся. Так что решай.
– Чего – решай!?
– Либо серьезные отношения, семья-дети. Либо отваливай с концами. Не буду говорить, насколько предпочтительней второй вариант, но у него, кажется, все слишком серьезно… Так что может не выйти.
– А если нет?
– Тогда я тебя пристрелю. Или прикажу пристрелить.
– Интересно. И кто тебе сказал, что я этого боюсь?
– А я и не говорила тебе, что боишься. И пугать не собиралась. Просто предупредила, что пристрелю. И не вздумай проверять меня на вшивость: будет обидно, если застрелят не за дело, а по ошибке.
– А теперь слушай сюда, коза чахоточная: если я начну капать ему на мозги, потихонечку, прямо сегодня вечером, то в пятницу ты уедешь командовать филиалом в Петропавловск.
– Если я почувствую что-то такое, – а я почувствую обязательно, не сомневайся, – то ты до пятницы не доживешь.
– Под расстрел угодишь, дура…
– Что такое моя жизнь по сравнению с его благополучием?
– Да ладно. Даже интересно для разнообразия. Развестись никогда не поздно. Только он, между прочим, мне предложения пока что не делал.
– Ты знаешь, что предпринять, чтоб сделал. И – всегда помни, что я тебе сказала.
– Слушай, – в глазах Стрелецкой мелькнул интерес, – а почему не убьешь прямо сейчас, если уж я такое говно?
– Потому что не уверена, сможет он это перенести, или нет. И: внесем ясность. Ты не говно, не обольщайся. Ты что-то гораздо, гораздо более вредное и опасное. Говно можно подцепить на лопату. Водой смыть. А с тобой это не пройдет.
А Саблер, познакомившись с ней, позже сказал:
– Ну что сказать? Среди миллионов бесхозных девок он, для жениться, безошибочно выбрал себе шмару. Роскошную, – кто будет спорить? – только не я! Только зачем-то мертвую. Ее забыли похоронить, и она-таки неудачно попалась ему на глаза. Такое бывает только за грехи родителей.
И потом за глаза он называл ее не иначе, чем Мертвой Шмарой.
Свадьба была-а! Хотели, как всегда, скромную, только кто же всерьез обращает внимание на желания новобрачных? Их поздравляют, им дарят подарки, и когда дарителей набирается несколько тысяч человек, включая членов правительства, ЦК, товарищей по ВСТО, масштаб увеличивается на порядки просто сам по себе. Невеста… проявила прямо-таки фантастический артистизм: сплошное счастье и очарование, цветение и такт, непосредственность и обаяние, кружева и цветы.
Естественно, о счастливом супружестве не могло идти и речи. Она и никогда-то его не любила, не могла разделить ни его интересы, ни его энтузиазм, но, будучи человеком по-своему справедливым, отдавала ему должное, как личности безусловно масштабной. Не скучала по нему, не радовалась его приходу, иногда поневоле раздражалась, замечая, что он-то – скучал, что он-то – радуется, хоть радость эта и не продлится долго. Как ни странно, ее животная, механическая сексуальность сказалась на их супружестве весьма положительно. О нем нечего говорить: жена на протяжении всей совместной жизни неизменно пробуждала в нем истинную страсть, но и сама она, благодаря своему искусству, получала необходимое ей удовлетворение.
И: по какой-то причине ей и в голову не приходила мысль, что она может стать матерью. То, что она не забеременеет, не подлежало сомнению, хотя причин для такой уверенности не было, приблизительно, ни одной. Когда у нее через недолгое время появились соответствующие симптомы, неприятному удивлению ее не было границ. Это не помешало ей в положенный срок произвести на свет первенца, Ассунту. За ней, спустя два года, последовал Федор Александрович. Беременности и роды протекали совершенно нормально, но на другой день у матери развился тяжелейший психоз, такой, что она едва не погибла. Но обошлось. Настя поправилась, на семейном совете решили больше детей не заводить, но ничего серьезного не предприняли, в результате чего у них без малейших осложнений родились еще два сына, Иван и Сергей. Детям нанимали нянек, старшие подросли, и у Беровича все-таки появилось что-то похожее на дом, хоть и старался он, чтобы дети с матерью слишком тесно не общались. За год до серебряной свадьбы они отметили появление первого внука, а еще через два месяца Настя, дождавшись, когда останется дома одна, достала из каких-то ей одной ведомых похоронок пожелтевшее свадебное платье, натянула его на свое взматеревшее, крепкое тело, приколола к волосам фату и повесилась на электрическом проводе.
Великая Блажь I
Вчера, когда гигантский вагон тронулся, без малейшего толчка, так, что показалось, будто это вокзал, все его строения, празднично убранные к торжественному моменту Пуска, сдвинулись с места и плавно поплыли назад, он еще некоторое время ждал, когда начнется мерный перестук колес. В его возрасте не так просто расстаться с привычным. Тем более – с привычным настолько, что уже начинает казаться чем-то таким, что всегда было и пребудет до скончания века. Но стука не было, при тех нагрузках, которые возникали при эксплуатации этой колеи, стыки между рельсами были бы недопустимой слабостью. Не было также слышно звука двигателей, и слишком далеко, и слишком тихо работают громадные электродвигатели локомотива. Говорят, – в самом скором времени и локомотива-то никакого не будет… но пока гигантский, как целый сухопутный корабль, электровоз еще имел место. Гула не было, но, передаваясь через рельсы, и дальше – через насыпь на землю давила такая тяжеловесная мощь, что казалось, будто он все-таки присутствовал. Такое напряжение не могло, не имело права разрешаться вовсе без звука.
Никогда, никто, ни один владыка в истории, ни один император, царь или тиран не имели такого дорогостоящего выезда. Даже близко. Восьмерик белоснежных лошадей, лимузин, личный бронепоезд, обставленный изнутри с немыслимой восточной роскошью, – мелочи, не заслуживающие внимания, потные медяки в судорожно сжатом кулаке нищеброда. Трехэтажная повозка, на которой объезжал свои владения легендарный объединитель Китая, – смешная лакированная игрушка для богатенького ребенка… хоть и тащили ее чуть ли ни сто буйволов, а для проезда пришлось специально расширять дороги по всей Поднебесной. Самое смешное, что выезд этот предоставили никакому не императору, не полновластному диктатору, а человеку, у которого от прежней, – действительно, немалой! – власти осталось не так уж и много. Остатки. Угли былого костра.
И главная роскошь не в том, что все четыре вагона гигантского поезда – по сути, к услугам одного человека. И не в убранстве этих вагонов, потому что внутри все, действительно, добротное, удобное, несокрушимо прочное, из недешевых материалов и сделано со вкусом, но без какой-либо особой роскоши. Самая главная роскошь его выезда в том, что настоящая сквозная эксплуатация Магистрали начнется только сутки спустя после его отъезда. Хотя частичная, понятно, велась и раньше. Вовсю. Чуть ли ни с самого начала строительства. А вот теперь специальное постановление издали, хотя он и не просил. Решили дать ему возможность прокатиться по стране до Южно-Сахалинска без спешки, с заездом в города и общением с гражданами, на смешной скорости сто пятьдесят километров в час. Потому что стандартная скорость на длинных перегонах магистрали планируется в двести – двести пятьдесят. При этом интенсивность движения предполагается такая, которой старик Транссиб не видывал ни в сорок первом, ни в сорок третьем, ни позже. Всем вдруг оказалось надо! Сколько талдычили о «заведомой нерациональности проекта» который «не окупится в обозримый срок, а если откровенно, то никогда», а теперь упрекают в том, что вдоль всего континента протянули всего-навсего шесть «ниток». Надо было восемь! Десять! Ага. Двадцать. Это уже без него. Так что сутки Магистрали – это деньги колоссальные, убийственные. По нынешним временам, пожалуй, будет подороже поезда с локомотивом вместе, хотя куда он, поезд этот, денется после его вояжа? Дальнейших прогулок по Магистрали он не планировал, и оставлять поезд за собой не собирался ни секунды. Так что, по сути, речь шла о цене нескольких сотен билетов. А вот уточнять истинную цену этих суток он не захотел, чтобы не расстраиваться, хотя в душе был доволен. Да и то сказать, – задержка-то частичная, только в направлении «туда», и уже завтра поутру они увидят первые встречные составы. Разумеется, грузовые. Разумеется, сверхтяжелые: нужно же побыстрее отбить прибыль!
Нет, все-таки до чего интересно получается: сначала мы им набили морду. Потом вытащили из полнейшей уже ямы. Потом под завязку обеспечили заказами, так, что где-то эта их пресловутая послевоенная депрессия – кончилась, а где-то даже и не успела начаться. А ведь они ее считали совершенно неизбежной. И теперь мы же, в значительной мере, пляшем под их дудку! Точнее, – привычно поправил он себя, потому что даже самому с собой надо быть точным в формулировках, – во многом играем по их правилам.
В отличие от внимания государства, интересы общественных групп есть величина постоянная, они давят и давят, непрерывно, неуклонно и неустанно, так что устоять, в конечном итоге, становится невозможно. И то сказать, – людям же по-настоящему надо. Более того, составляет основное содержание их маленьких, но единственных жизней. И, может быть, именно поэтому, слишком часто их варианты выглядят логичнее, убеждают, и в этих условиях продавливать что-то свое, худшее, только для того, чтобы настоять на своем, выглядит уже чистым капризом. Несолидно, неумно, даже стыдно как-то. Вот и теперь: людям же надо! У людей громадная потребность в быстром перемещении груза за умеренную цену. Были бы те самые двадцать ниток, – и их забили бы под завязку! Казалось бы, – и хорошо, и слава богу, но, однако же, что-то точит. Делаем то, что надо не нам. Точнее, не нам одним. Наверное, он не прав. Даже скорее всего, вот только сердцу не прикажешь. И это еще одна из причин, по которым старикам вроде него надо уходить вовремя. Не только слабость, болезни и все менее продуктивная работа головы, но еще и это: со временем начинаешь хотеть не то, что по-настоящему нужно, и, делая совершенно правильные, полезные вроде бы дела, не испытываешь радости. Только по той причине, что в молодости не считал их чем-то похвальным, а, слишком часто, прямо наоборот. Делаешь, даже убедишь себя в их необходимости, а сам как будто изменяешь самому себе, молодому и горячему.
Поднял глаза и усмехнулся, удивляясь нелепости собственного своего поведения. Долгожданный день, он первый человек, которому предстоит до конца пройти по величайшему Пути за всю историю, как будто бы именно для того, чтобы как можно больше увидеть в путешествии, – а он занят своими мыслями и не глядел в окно, кажется, ни одной полной минуты. Даже в общей сложности. И, словно устыдившись того, что, вроде бы отлынивает от взятых на себя обязательств, – непонятно перед кем, но все-таки, – посмотрел в пресловутое окно. Ну, – посмотрел. Все равно ничего не может изменить того факта, что главным, доминирующим элементом ландшафта, что виден с высоты Магистрали, является сама Магистраль. Все остальное не производит и десятой доли впечатления от увиденного. Значит, и мысли совершенно неизбежно будут соответствующими, и от этого никуда не денешься. Смешно, – он как будто бы снова оправдывается перед каким-то невидимым оппонентом. А раньше полагал своим особым даром умение не считаться ни с чьим мнением. Ему тогда казалось, что с точки зрения стратегии бывает полезно навязать свое решение, даже если оно и не самое лучшее. Прекрасно дисциплинирует, предотвращая разброд и шатания.
Вице-король I: воцарение
Собственно говоря, официальная должность у него была одна и называлась: «командующий Особым Дальневосточным военным округом». «Особым» он оставался по той простой причине, что война по соседству никуда не делась. После того, как перестал действовать японский фактор, безвыходная заваруха в Китае, казалось, сделалась еще более ожесточенной. Своих не стесняются, со своими не считаются, а разобраться в этой каше представлялось совершенно немыслимым. Вроде бы, имел место какой-то «гоминьдан», действовали коммунисты, но на деле это мало что значило. Гоминьдан позиционировал себя в качестве демократической партии, но демократия имела специфические китайские черты и просматривалась с трудом, а товарищ Владимиров считал крайне своеобразным китайский вариант коммунизма. А помимо этого в каждой провинции главный представитель правительства и местный коммунистический лидер одинаково считали себя ванами и поэтому гоминьдановцы соседних провинций нередко резали гоминьдановцев, а коммунисты смертным боем, с применением артиллерии критиковали коммунистов.
Американцы, вместо того, чтобы своим присутствием стабилизировать обстановку на Корейском полуострове, по какой-то причине играли роль фактора, скорее, раздражающего. Южнее 38-й параллели страна тлела непрекращающейся партизанской войной. Многие и многие, досыта нахлебавшись чужеземного владычества, вовсе не были рады тому, что одного хищника сменил другой, еще более сильный и чуждый, нежели прежде. Севернее, соответственно, устанавливалась новая, народная власть, тоже нелегко и непросто, и в этом процессе структуры Красной Армии принимали просто-напросто непосредственное участие. Так что командующему ОсДВО, в общем, было чем заняться. Но это официальный пост. После того, как он испросил себе в качестве заместителя товарища Апанасенко, о вопросах собственно военного строительства в пределах округа можно было не беспокоиться. Иосиф Родионович тоже с удовольствием вернулся на прежнее место службы, а с новым начальством практически мгновенно нашел общий язык. Он увидел, чего тот на самом деле хочет, сколько работает и, главное, оценил способы, которыми Черняховский добивается своих целей. Поэтому очень скоро они начали работать в полном взаимопонимании, как единое целое.
По сути, Ивану Даниловичу вручили всю полноту власти на Дальнем Востоке. Стоит ли говорить, что и территория, на которую эти полномочия распространялись, так и сам их объем были весьма неопределенными. Предполагалось, что он определится на месте, сам. Изобретенный под давлением крайней военной необходимости механизм Представителей Ставки, в общем, доказал свою эффективность, и в ГСТО, в общем, не видели причин, по которым это не сработало бы теперь, в мирное время. Да, прецедентов не было. Да, на первый взгляд, такая полнота власти в столь удаленном регионе таила в себе некоторую угрозу. На самом деле особого риска не было: до сих пор ни у кого, ни при проклятом царизме, ни при новой власти государство особых успехов в освоении Дальнего Востока не стяжало. И на момент принятия решения надежных способов к решению этой задачи тоже не было видно. Так что опасностей на самом деле было немного, а если точнее, то всего две: во-первых – провал, а во-вторых – успех. В провале, понятно, ничего страшного, не привыкать, а вот успех бывает разный. Опасность мог представлять собой успех полный и решительный, как разгром фашистов под Сталинградом, а в него, по большому счету, никто особо не верил. Кроме того, было и еще одно обстоятельство. Война открыла советскому руководству еще одну истину, вовсе невероятную: некоторым людям можно доверять. Умение доверять, понятно, не обозначало доверчивости. Обыкновенный навык, который дается опытом. Этому, – можно, этому – нельзя, этому – до определенного предела.
В конце концов, с Дальним Востоком и его проблемами все равно надо что-то делать, так почему не попробовать еще и эту схему? Этому человеку верить можно. Он изъявил желание, так что стараться, работать не за страх, а за совесть – будет. А снять, если что, никогда не поздно.
Спустя самое короткое время после того, как он принял дела, истинное положение дел открылось перед ним во всей неприглядности. Точнее, это был целый ряд неприглядных истин, главной из которых была такая: Восточная Сибирь вообще и Дальний Восток в частности СССР по большому счету не нужны. Точнее, были лишними в его народно-хозяйственном комплексе. То сравнительно немногое, что здесь добывалось и делалось на потребу остальной страны, не окупало затрат на снабжение, охрану бесконечных рубежей малолюдных краев, защиту и транспортное обеспечение. Парадокс, но малорентабельным было даже золото Магадана.
Разумеется, это произошло не сразу. До этого ему пришлось убедиться, что он буквально ничего не смыслит в экономике. То есть настолько, что до сих пор вроде бы и не знал о существовании у нее каких-то законов. Нет, ему, понятно преподавали все то, что сказал на эту тему товарищ Маркс, но книжное знание тем и отличается, что до поры кажется не имеющим отношения к реальной жизни. Слишком многие, столкнувшись в жизненной ситуации с книжным случаем, испытывают самое искреннее удивление. Специальная литература вкупе с академическими знаниями, по большей части, идет впрок только тем, кто прочувствовал. Зато когда это произойдет, люди учатся, как правило, быстро. Умные люди. Можно даже считать, что это самая правильная последовательность, когда тех, кто по-настоящему умеет, просто нет. Да и то сказать, в случаях непростых чужие рецепты идут впрок только тому, кто сам пару раз пробовал изобретать велосипеды. А случай с советским Дальним Востоком, относился, мягко говоря, к непростым.
Он очень скоро заподозрил, что в глубине души это осознавали если не все, то многие. Вот только тема являлась настолько неприличной, даже запретной, что ее не то, что не обсуждали, а даже от себя самих гнали эти опасные мысли. Понятно, что хозяйственные соображения не могли считаться решающими: тут жили миллионы советских людей, для которых именно этот далекий край являлся той самой Родиной. Вот только легче от этого не стало. Убедившись в реальном существовании такой штуки, как хозяйство, он с безнадежной ясностью увидел перспективу нескольких десятилетий. Все – в последнюю очередь, потому что каждый раз, неизменно, находятся дела и территории поважнее. Чем дальше, тем сильнее будет отставание края от остальной страны, тем ниже будет жизненный уровень, и люди под разными предлогами и по разным причинам начнут уезжать туда, где больше жизненных благ и возможности реализовать себя, чем меньше будет рабочих рук, тем меньше станет отдача территории и круг замкнется. Так в один прекрасный день может оказаться, что единственными обитателями громадных территорий являются исключительно казенные люди вроде военных и пограничников. Разумеется, социалистическое государство способно противодействовать тенденции плановыми, административными методами, это у капиталистов все нерентабельное перестает существовать моментально, но со временем реально существующий фактор все равно проявится так или иначе, либо же полюбившийся ему край так и останется иждивенцем, ярмом на шее и без того не слишком-то зажиточной страны. И то, и другое, разумеется, было совершенно неприемлемо.



