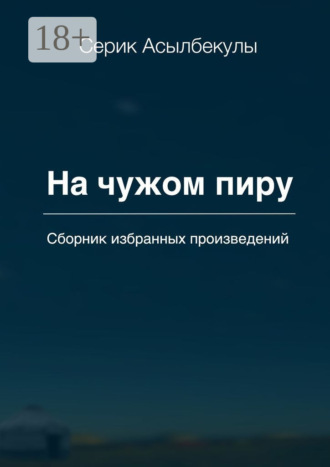
Полная версия
На чужом пиру
– Алмагуль, а ты, оказывается, ужасно красивая, – шепнул девушке Нураш.
– Неужели?! – ответила она с откровенной усмешкой. – С чего это ты взял?!
– Да ты настоящая красавица!.. И где это раньше мои глаза были!
– А ведь и сейчас не слишком поздно, —рассмеялась Алмагуль звонко, —да только…
– Что только?
– Ладно уж, брось выпытывать. Вон Бибижан смотрит, постыдился бы.
Нураш невольно оглянулся. Бибижан и в самом деле следила за ними из угла комнаты. Неожиданно встрегившись взглядом с Нурашем, она, словно застигнутая на месте преступления, густо покраснела и отвернула сь. В это мгновение юноша почувствовал какую-то томящую жалость к ней и к себе.
– Нураш, а у тебя усы, я гляжу, пробиваются, – попыталась изменить его настроение Алмагуль.
– Значит, пора… – буркнул нехотя Нураш.
– Интересно все же, – продолжала девушка, не придав значени его тону. – Как сказал Рахат-ага, кажется, что только вчера мы были детьми. В школе я все спешила скорее закончить учебу и освободиться от опеки старших и учителей. Десять лет казались для меня вечностью. А сейчас смотришь и удивляешься, что все промелькнуло за какие-то мгновения.
Нураш промолчал. Дейстивительно, детство и школьные годы промчались так быстро, словно не годы это были, а мгновения.
– Нураш…
– Ау…
– Говорят, ты едешь учиться?
– Да.
– В Алма-Ату, конечно?
– Нет.
– А куда же еще?
– В Ленинград.
– В Ленинград?! Ну даешь! Теперь, небось, и носа не покажешь к нам.
Нураш поневоле рассмеялся.
– Об этом будешь говорить после того, как я поступлю.
– Ты-то поступишь, конечно… – сказала девушка, не скрывая сожаления.
Нураш не стал возражать. Да и как возразишь против такого варианта. Впрочем, мысли его занимало в это время совсем другое.
– А когда отправляешься? – спросила Алмагуль через некоторое время.
– Послезавтра.
– Но ведь до экзаменов еще уйма времени.
– Отец так решил, – ответил Нураш. – Говорит, чем без толку шататься по аулу, лучше уж езжай пораньше да подготовься к экзаменам.
– Может, так действительно лучше. Если уж ехать, то пораньше.
– Ну а ты? – спросил Нураш больше из вежливости.
– Мы? Мы если и уедем, то не дальше областного центра. В какой-нибудь из тамошних техникумов или училищ постучимся. Попытаем счастья, так сказать.
– Это почему же?
– А потому, что сами виноваты. Куда нам соваться в институты с нашими троечками в аттестате? Для нас сгодятся те самые техникумы и училища, о которых вы и думать не думаете.
Нураш рассмеялся.
– Чему то смеешься? – обиделась Алмагуль.
– Да так… Тому, что ты искренняя девушка.
– Не знаю… Не уверена… —повела плечами Алмагуль.
Вальс закончился. Амурские волны с плеском бившиеся о берега, оборвали свое волнующее кипение. Все снова разошлись по своим местам. Возбуждение и шум пошли на убыль, некоторые даже невольно позевывали.
– А теперь сделаем небольшой привал. Что-то в горле пересохло, – предложил один из ребят.
– Да вам бы только выпить, – ворчливо ответила стоявшая рядом с ним невысокая смугленькая девушка.
Большинство же безучастно стояли, ожидая слова тамады.
– Присядем, так присядем. И правду, в горле пересохло, – вяло пошутил Айдар. Затем, взглянув на настенные часы, удивленно произнес:
– Ребята, ведь уже шестой час!..
Все стали рассаживаться за стол, хотя прежнего энтузиазма ни у кого уже не было.
– Нураш, иди сюда, – позвала к себе стоявшего поодаль спутника Алмагуль. Нураш безразлично повиновался.
В это время в комнату с шумом вбежало несколько девочек. Они насквозь промокли под дождем.
– Товарищи! А на улице дождь!.. – с восторгом закричали они.
Все радостно зашумели, словно до этого только и делали, что с нетерпением ждали дождя. Постепенно шум стих и за окном отчетливо послышались звуки падающих капель. В наступившей тишине вдруг прогремели разрывающие небо грозовые раскаты, и по стене метнулись всполохи молнии. Вслед за ними вниз обрушились потоки ливня.
***
К утру начали постепенно расходиться. Среди тех, кто собрался уходить первыми, была и Бибижан. Теперь уже Нураш во что бы то ни стало решил встретиться с ней наедине. Выждав момент, когда сидящие рядом с ним увлеклись разговором, он пулей выскочил из-за стола. В передней Бибижан и ее подружка Сара разыскивали свою обувь среди одинаковых белых туфелек, выстроившихся в ряд, словно стая белых лебедей.
– Бибиш!.. – прознес он сбившимся голосом.
Бибижан оглянулась на знакомый голос. Нураш даже отпрянул от неожиданно резкого взгляда. Полные слез глаза девушки глядели на него со злостью и презрением.
– Бибижан!.. – произнес он дрожащим голосом, приближаясь к ней.
Девушка отвернулась от него, суетливо надевая туфли. Пальцы не слушались ее, и она все никак не могла застегнуть петельки на туфлях.
Так и не сумев справиться с петельками, она опрометью выскочила на улицу. Поначалу замерев от растерянности, Нураш бросился вслед за ней.
За это время подруги удалились на порядочное растояние. Нураш припустил за ними, оглушая затихшую улицу гулким топотом. У клуба девушки разминулись. Нураш бросился вслед за Бибижан, которая свернула к улице, расположенной с восточной стороны аула. Заметив, что ее преследуют, девушка ускорила шаги. Намереваясь настигнуть ее, Нураш побежал наперерез, и они одновременно достигли знакомой зеленой калитки.
– Бибижан! – произнес запыхавшийся Нураш. – Подожди немного… «Я ведь послезавтра уезжаю в Ленинград», – хотелось прокричать ему.
Но поняв, что в нынешнем положении его слова оказались бы верхом бестактности, прикусил язык.
– Бибижан!.. – повторил он в отчаянии.
Девучка обожгла его взглядом и, перескочив через невысокую ограду, оказалась во дворе…
Ошеломленный Нураш остался один. Какая-то щемящая горечь охватила его. Может быть, только сейчас начинал он осознавать, что сегодня в начинающейся жизни произошла самая первая и непоправимая ошибка. Может, это и не было вовсе ошибкой, а только началом череды утрат, которые предстоит еще испытать ему в жизни. В эти минуты он не способен был думать об этом и лишь смутно ощущал, что прощается не только с Бибижан, но и с беспокойным, хотя и очень дорогим для него чувством, которое, подобно короткому весенному ливню, обрушилось на него и также внезапно оборвалось, оставив зарубку в памяти.
В эти минуты он прощался с робким и невинным детсвом, которое уже больше никогда не повторится в нем и спустя многие годы будет заставлять его, уже зрелого и степенного человека, со сладостной болью и нежностью возвращаться в него памятью, кропотливо перебирая мельчайшие подробности минувшего, такого дорогого и такого недосягаемого…
С востока величаво и торжественно возгоралась заря. Дождь все еще продолжал моросить. А молодые люди, вчера еще бывшие одноклассники, расходились по домам, прощаясь друг с другом, как прежде, словно до завтра.
Рыжик
Майра заметила их издали и помахала рукой. На ней были джинсы и модная темная маечка. Оперевшись на ствол березки, не успевшей еще осыпать на землю свои желтые листья, Майра молча поджидала их в небольшом саду рядом с железнодорожным вокзалом. Дорожный саквояж и две туго набитые сумки громоздились подле девушки. Утреннее солнце поднялось над высоким мостом, и его лучи играли бликами на металлических застежках саквояжа. Вся эта картина красноречиво свидетельствовала о том, что Майра на полном серьезе собралась в дальний путь.
Один из двух парней, пришедших проводить ее, фыркнул:
– Вот дуреха!.. – И произнес он это без лишних колебаний, видно, нисколько не сомневался в верности своих суждений, впрочем, это присуще юным – ведь Токшылыку Бекниязову едва исполнилось двадцать лет. Однако другой проважатый промолчал. Пожалуй, именно так он и должен был поступить – во всяком случае, если судить по кроткому выражению его глаз, по тонкой линии бледных губ, свойственной натурам сентиментальным и мягким. К тому же, если б человечество состояло из одних лидеров, разве была бы наша жизнь так сложна, противоречива, а в конечном счете так итересна и значительна?
Широкий перрон выглядел так же сиротливо, как и этот заброшенный осенний сад. Голые деревянные скамейки уныло тянулись вдоль тротуаров. Безлюдно, только на другой стороне улицы неуклюже гонял ручных голубей пухлый карапуз лет пяти-шести. И трудно было понять, живет ли он где-то поблизости, и если нет, то где его родители – присутсвие здесь этого маленького сорванца было такой же необъеснимой загадкой, как и вызвавшее всеобщее недоумение Майры уехать насовсем.
Вид у стоявшей в одиночестве девушки был довольно невеселый, но, увидев, приближающихся джигитов, она похоже, обрадовалась.
– Эй, цыплятки! Ну же, ну, двигайтесь поживее!.. – прокричала она им издали. – А то плететесь, как беременные бабы с коромыслами.
– Ох и дурная!.. – снова проворчал Токшылык, качая головой. – Ну, привет тебе, невеста!.. Как дела!
Майра в ответ с готовностью – о, она умела подхватить шутливый тон! – изобразила изящный реверанс и, склонившись, так и застыла, вскинув на парней свои лучистые бархатные глаза с нарочитым вызовом.
– А чем, спрашивается, я не гожусь в невесты?! Ну-ка, господин Кожаниязов, приглядитесь получше!
– Ладно, годишься в невесты, – сдаваясь, пробурчал себе под нос Токшылык.
– Вот такие у меня дела, – Майра выпрямилась и развела руками с видом человека, у которого нет никакого выбора: – Внезапные исторические события вынуждают меня шагнуть в неведомую новую жизнь… У самих-то все в порядке, надеюсь? Никак со второй пары смылись, негодники?
– О, ваш прозорливый ум совершенно точно определил сложившуюся на настоящий момент общественно-политическую ситуацию, – с иронией отпарировал Токшылык.
Тут Майра обратила свой чарующий взгляд на того самого джигита с мягким выражением лица и влажными глазами – а природа, надо отметить, щедро одарила ее не только быстрым умом, острым язычком и стройными ногами, но и в полной мере наделила ее женственностью.
– Нурлан, а ты что молчишь?
Нурлан считался в их студенческой среде достопочтенным гражданином, уже успевшим с честью исполнить свой воинский долг перед Отчизной. Однако всякий раз, когда оказывался перед этой веселой шалуньей, Нурлан начинал ощущать себя беззащитным глупым ребенком. В связи с этим немало обид он таил на всевышнего. Нет, он не просил у матушки-природы ни великого ума, ни красоты, ни силы; ему бы только не быть в немилости у хрупкой половины человечества – вот и все, о большем счастье этот робкий мечтательный юноша и не мечтал. Вот и теперь – увы! – он так и онемел перед Майрой, мучительно покраснев и опустив глаза.
– Да не приставай ты к нему, – заступился за приятеля Токшылык. – По моим набдением, в его несчастном организме, как и в твоем, со вчерашнего дня проявились симптомы этой инфекции под названием «любовь».
– Ну и трепач! – обиженно нахмурилась Майра. – Сколько, однако, развелось на свете острословов. Кстати, а почему Намиля не пришла?
Намиля училась в одной группе с ними и приходилась самой близкой подругой Майре. Это была маленькая подвижная девушка с собранными на макушке в пучок волосами. Если кто-либо ей нравился, она только вскидывала снизу вверх глаза и в полном недрумении молча взирала на человека.
– По всей вероятности, эта гражданка уже не явится, – со вздохом сообщил Токшылык. – Во всяком случае, когда мы уходили, она и не шелохнулась.
Майра заметно опечалилась.
– Ой, вот Намиля как раз-то и должна была прийти, – огорченно заметила она. И, став вдруг серьезной, призналась: – Видишь ли, Тока, это ведь у меня не обычные девчоночьи штучки. В моей жизни, на самом деле, скоро произойдут огромные перемены, я не придумываю. Без него мне нет жизни. Понимаете, оказывается, я все еще люблю его!
Джигиты изумленно переглянулись. Удивляться-то, в общем, было нечему: человек приходит на этот свет, влюбляется, страдает, обзаводится семьей и в конце концов со всем этим навечно расстается. Таков закон жизни. Однако наши распрекрасные герои, как и вся нынешняя молодежь, полагали, что зазорно вот так простодушно изливать перед другими свои сердечные муки. И Майра тоже относилась к жизни с легким пренебрежением, она была одной из тех девушек, кто предпочитает платью брюки и не выпускает сигарету из рук. И вот вдруг перед джигитами совершенно другой человек.
Они снова растерянно переглянулись. На лице Токшылыка, который привык критиковать все вокруг, проступила ирония:
– Этому парню, видно, нет равных во всем мире, коли ты так рвешься к нему, – натянуто улыбнулся он.
– Увы, в самом деле так и есть, – вздохнула Майра. – Кое-что я вам уже рассказывала о нем. В ауле он с ранних лет прославился своим дерзким характером. Никому спуску не давал. Потому и частенько получал от мальчишек постарше. После восьмого, когда перешел в девятый, он вдруг заметно похорошел и стал так красив, что глаз было не отвести. Впрочем, он и сам это понимал, ходил гордый и никого не замечал, особенно нас, подросших школьниц. Но все равно все мы тянулись к нему. Из одного нашего класса разом трое девчонок влюбились в него. Мысли о нем преследовали меня и днем и ночью…
Токшылык усмехнулся:
– Все вы, девчонки, такие. Вам бы только чтоб физиономия посмазливее была, чтобы волосы раскудрявые до плеч, да чтоб понахаьнее… Разве, кроме этого, вам что-нибудь еще нужно?
– Это еще как сказать… – задумчиво проинесла Майра. – Возможно, ты и прав. Мы ведь и впрямь только и делали, что ловили каждый его взгляд. Ну а ему приглянулась совсем другая. Прослышали, что он дружит с одной девушкой – Алмаш ее звали, училась классом старше нас. О, это была очень гордая девушка, и она всегда высоко держала свою красивую голову. В душе я жестоко страдала. Учебу забросила. А ведь неплохо успевала. Да и теперь, в институте, сами знаете, в хвосте не плетусь. А тогда… чуть рассудка не лишилась. Наша классная руководительница – женщина же, как-никак – догадалась, что со мной творится. И давай что ни день маму в школу вызывать. Мама-то одна растила нас, братишка мой младший в ту пору совсем еще маленкий был. Я – вон что вытворяла. Терпела она, терпела, и в один прекрасный день не выдержала да отлупила меня хорошенько. А потом вдруг расплакалась, да так горько… До того самого момента я как-то и не задумывалась о том, что мать моя одинока, что она вдова. И тут мне ее, бедную, так жалко стало, что она вдова. И тут мне ее, бедную, так жалко стало, что я решила: «Да пропади она пропадом, эта моя любовь, да не нужно мне во-все все это!». Слезы сдавили мне горло, и я разрыдалась: «Мама, мамочка моя!..» – а ведь минутку назад, хоть и больно было, ни слезинки не проронила, из одного упрямства. Так мы и проплакали с нею. Тогда-то я и поклялась маме выбросить из головы все глупости. Слово свое сдержала. Налегла на учебу. Вот так и повзрослела, в один день. Только изредка стала молча вздыхать. Да тайком покуривать начала…
Словно совсем другая, незнакомая девушка стояла сейчас перед джигитами – не та веселая, беззаботная Майра, с лица которой не сходила улыбка и которую сокурсники ласково прозвали Рыжиком. Никому из них и в голову бы не пришло, что на сердце у нее таится такая печаль. Кто же научил ее так стойко переносить свои дешевные страдания?
Короткую паузу нарушил Токшылык – спросил все тем же ехидным тоном:
– Надо полагать, тот красавчик и не глянул в твою сторону?
– Ты прав. Хотя он, должно быть, догадывался, что я сохну по нему. Потому что здоровался он со мной чуточку приветливее, чем с другими.
– Ну-ну. Тебе это, конечно, очень льстило.
– Да не то, чтобы очень. Но что оставалось… – Майра пожала плечами.
Из еедальнейшего рассказа выяснилось, что джигит тот долгое время находился под следствием, что в конце концов его осудили на три года с выселением на «химию». И вот, отбывая свой срок на открытых угольных шахтах Казахстана, он написал Майре письмо о том, что виноват, перед нею, так как знал о ее чувствах, но не сумел их оценить, что просит простить его и, если согласна, стать навеки его спутницей жизни.
Токшылык, вмиг сменив насмешливый тон, заговорил с озабоченным видом:
– Рыжик, ты ведь не глупая. По сравнению с нами так вообще умница. Вдумайся только: ты, девушка, зачем-то едешь в тьюрму к какому-то преступнику. И из-за этого бросить столицу, да что там столицу, потерять тобой же избранный институт, будущую профессию. Не знаю, лично я не в состоянии понять такой геройский поступок, если его вообще можно назвать геройским.
– Но ведь он не преступник.
– Ну ладно, допустим, не преступник, однако все равно… хулиган. В тюрьму так просто не сажают.
– Об этом ничего не могу сказать… – Она молча отвела глаза в сторону, давая понять своим видом, что не хочет продолжать спор.
Тем временем – они и не заметили – началась посадка на поезд, которым должна была уехать Майра. Перрон, недавно только пустынный, вмиг изменился до неузнаваемости – вокруг засновали люди: отъезжающие, прибывающие встречающие… Чудной это народ, пассажиры. Все чего-то носятся, суетятся, будто им невтерпеж скорее распрощаться с этими краями, и ведь не угомонятся до тех самых пор, пока не заберутся в свои вагоны. Ну а стоит ли так спешить покинуть этот город? Кто знает, а может, оно здесь осталось, твое счастье? И, может быть, лучше бы было уехать не сегодня, а завтра? А вдруг это путешествие не принесет ничего, кроме сожаления? Так нет же, разве станет путник морочить себе голову всем этим? У него только одно на уме: в путь, скорее в путь! Сегодня же, прямо сейчас! У каждого – свой поезд, и не важно, везет ли он тебя к счастью или к беде, важно только одно – успеть на него. Ведь завтрашний поезд – для других…
– Вот и мой вагон… – негромко произнесла Майра, хотя ее спутники не нуждались в этом пояснении.
В ту же минуту Нурлан, молчавший все это время, принялся торопливо расстегивать свой большой желтый портфель, с которым он никогда не расставался. О, что только не носил в себе этот портфель – в него умещались учебник по сопромату и булка, логарифмические линейки и электронные калькуляторы, ну а на этот раз из легендарного портфеля, прозванного в шутку старым мерином – хозяин извлек три чудесные розы. Розы, купленные им рано утром на базаре за последнюю мятуюперемятую трешку, розы, которые он прятал от ребят из своей комнаты, боясь их насмешек… Нурлан бережно вынул цветы и все так же молча протянул их Майре.
– Ого, когда ты успел их купить? – конечно же, Токшылык и тут не смог удержаться от иронии.
– Утром… Пока ты спал, – пробормотал Нурлан, хмуро глянув на приятеля. Ему уже надоела язвитель ность Токшылыка.
Майра, чуточку покраснев, приняла цветы. Ей вдруг вспомнилось, что у Нурлана нет никого, кроме старенькой матери, и что жил он на одну стипендию, с трудом сводя концы с концами. И еще пронеслось в ее голове, как она была немного удивлена, когда увидела, что вместе с Токшылыком проводить ее пришел этот стеснительный, немного неловкий парень, с которым все три года учебы она разве что только здоровалась, и больше ничего.
– Спасибо, Нурлан!.. – поблагодарила она, и голос ее слегка дрогнул. – Зачем ты это…
– Ну что ты!.. – ответил тот, как-то стиснув зубы.
– Ребята, вы уж меня простите… – Майра снова погрутснела. – Тяжело расставаться с вами, с институтом. Честно, я бы даже осталась. Но хоть вы-то поймите меня… Вот и Намиля обиделась, не пришла. А что будет с моей бедной мамой – один Бог знает…
В это время громкий голос вокзального диспетчера объявил отправку поезда. Люди засуетились пуще прежнего. Поезд, заскрипев колесами, плавно тронулся с места.
Майра торопливо обняла своих провожатых.
– Ну, ребята, прощайте!.. – выдохнула она и коснулась горячими губами щек застывших в растерянности парней. – Намиле… девчонком передайте привет.
– До встречи, Рыжик! – коротко бросил Токшылык.
Майра легко вспрыгнула на подножку уже тронувшегося поезда и ловко поднялась наверх. У молчуна Нурлана больно защемило сердце. И никто не знал, что в груди его, словно шторм в море, бушует смятение, что не один рассвет встречал он, ночь напролет думая об этой девушке, и что жестоко проклинал он сейчас себя за свою извечную робость перед женщинами.
Да, не раз еще придется ему встречать рассветы после бессонных ночей, и даже когда обзаведется уже семьей, все еще будет временами болеть эта душевная рана, терзая его сердце той далекой неразделенной любовью, не раз он еще проснется среди ночи от воспоминанияо прикосновении горячих губ Рыжика, ее нежного дыхания…
Свадьба в ноябре
Жаныл долго раздумывала, прежде чем решилась наконец пойти на ту свадьбу. Торопливо, будто кто за ней гнался, собралась, наказала соседке – старой Улжан – приглядеть за сынишкой и вышла из дому.
Окутанный сумерками аул тонул в глубокой тишине. Промозглый ноябрьский ветер, приутихший к вечеру, время от времени порывами налетал со степи и обжигал, пробирая до самых костей. Был тот самый час, когда люди, покончив с дневными заботами, разошлись по домам, когда из казанов уже вынимали исходящее паром сваренное мясо, в самовары вскипели к чаю, – в такую пору на улицах не услышать даже случайного лая собак. Только без умолку гудели стройные тополя да могучие карагачи – гулявший в их кронах ветер с воем уносился куда-то вдаль. То тут, то там сироливо мерцали тусклые лампочки, покачивались из стороны в сторону, подобно пьянице, не держащемуся на ногах. Отжившие свое листья осыпались на землю, шелестели под ногами.
Жаныл зябко запахнулась в плащ. Продолжая думать о своем, горько усмехнулась: «Видать, жаркие объятья у дочери Абди. То-то сверкала глазищами. Ну и пусть…».
Еще летом по аулу пробежал слушок: дескать, отец Курмаша ходил к хромому Абди сватать дочь для своего сына. Говорили, поначалу Абди отказал ему – мол, не доросла еще дочка, придет срок – там посмотрим. Да вроде как девчонка сама передала через женге просьбу родителю: «Пусть благословит меня отец, уговор у нас с Курмашем». Вот и пришлось Абди согласиться. Прознав о том, аульные кумушки принялись судачить на все лады. «Ах, негодница, и как со стыда не сгорела – такое! – отцу заявить!». Ну да нашлись и такие, что рассудили по-другому: «Так что ж в том дуоного-то? Мало ли нынче девиц, что, не спросясь родителей, с первым встречным сбегают. А эта не такая – благословенья отцовского просит, выходит, не вертихвостка пустоголовая». «Как же, как же… – с осуждением качали головами третьи. – С нее и не то еще станется. Ишь, как в джигита вцепилась – волчьей хваткой!».
Все эти кривотолки дошли и до Жаныл. Она не стала ни осуждать, ни возмущаться поведением дочки Абди – напротив, неприятную для себя новость приняла спокойно и ровно, как если б заранее предвидела такой оборот дела. Жизнь рано приучила ее безропотно относиться к горестям и радостям.
Когда на строптивого скакуна, привыкшего вольно носиться по бескрайним просторам, впервые набрасывают седло, тот рвется и мечется, брыкается, взвивается на дыбы; но мало-помалу, уразумев, что ему не вырваться из сдавившей шею петли аркана, не высвободиться из-под стискивающих бока железных шенкелей джигита-табунщика, жеребец смиряется со своей участью. Проходят недели, месяцы, и прежняя вольная жизнь становится далеким воспоминанием, а некогда непокорный конь незаметно превращается в покладистого чабанского мерина. Вот так и Жаныл под жестокими ударами своей горькой судьбы приучалась быть смиренной и покорной.
Три года прошло, как черная весть о страшной беде сразила Жаныл – ее Ермурат погиб, провалившись с трактором под треснувший лед на реке. Убитая горем, она и сама не знала, сколько дней провалялась в беспамятстве, не в силах подняться с постели. Жестоким было ее разочарование в жизни. «Что же путного ждет меня теперь?» – отчаивалась молодая вдова. – Что удерживает меня здесь? Не лучше ли лечь вместе с ним в могилу?».
И сердце ее не сжималось от страха при этих мыслях.
Однако время шло, и оно заставило ее смириться со своей участью. Сменялись дни, и океан горя, поначалу казавшийся неизбывным, мелел и отступал в прошлое. Крохотный сын, лишившийся отца двух месяцев от роду, делал свои первые шаги навстречу жизни… Он-то и вдохнул силы в молодую мать, отогрел ее окаменевшую от страдания душу.
Мало-помалу Жаныл отправилась, начала приходить в себя. Незаметно радости жизни снова стали волновать ее. Теперь в свободную минутку она заглядывала к соседям, невольно ловила дыхание жизни, проходящий мимо нее. И постепенно в ней зарождалось неосознанное желание находиться в гуще этой жизни, вместе с людьми гореть на ее костре и мерзнуть на ее морозе. Оно, это желание, и вернуло ее на великое ристалище, именуемое жизнью, ее, ту, что недавно готова была уйти навечно.
В ту пору и возникла их близость с Курмашем…



