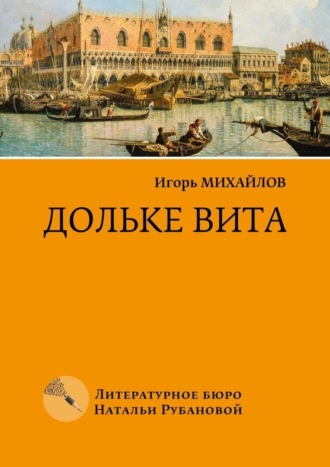
Полная версия
Дольке вита
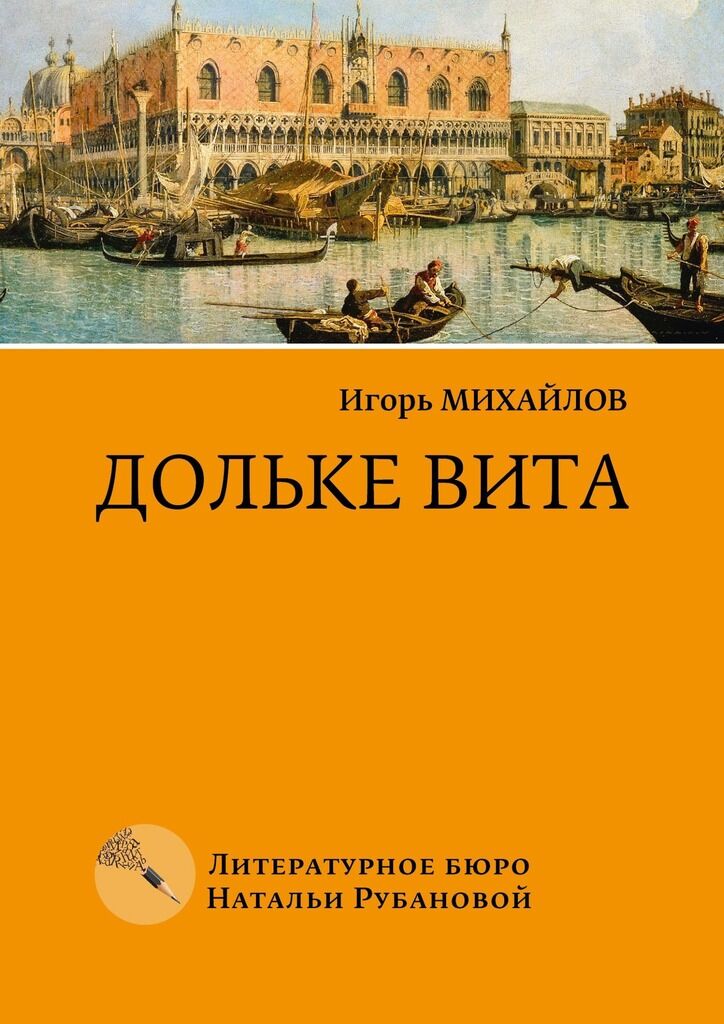
Дольке вита
Игорь Михайлович Михайлов
Дмитрий Горяченков Дизайнер обложки
Наталья Савельева Корректор
© Игорь Михайлович Михайлов, 2020
© Дмитрий Горяченков, дизайн обложки, 2020
ISBN 978-5-4498-8588-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вместо предисловия
Один мой знакомый, оформлявший коробочки для чая, придумал это название – dolche vita. Сладкая жизнь (dolce vita) воскрешает в памяти тех, кто помнит знаменитый фильм Федерико Феллини. Однако мой знакомый не знал итальянского и поленился заглянуть в словарь, но название как-то прижилось, ни у кого, кроме меня, не вызывая никакого недоумения.
А я подумал, что «Дольке вита» – это не совсем что ли «dolce vita» или недоделанное «dolce vita», но то, что нужно. Ведь путешествие – это часть, участь, изрядная доля моей жизни. Иной раз ошибка – не ошибка, а судьба. Пусть будет «Дольке вита», не пропадать же добру? К тому же совсем непонятно или не совсем понятно, как объединять все эти разрозненные очерки в одно целое? А когда непонятно, надо выдумать хорошую историю и рассказывать ее всякий раз, когда автору зададут очередной вопрос из разряда: почему «Дольке вита»? Как говорится: поэтому!
Италия
Рим: dolce far niente
В Риме всегда жара, наверное, от обилия жгучих брюнетов. Настоящий римлянин – роковой брюнет небольшого роста с выточенной фигуркой опереточного героя-любовника, жигало.
Естественно, что местонахождение настоящего римлянина не только в центре внимания, но и города, и мира. Он должен быть в самом центре, выситься над дворцом Виктора-Эммануэля, который венчает собой пьяцца Венеция. Ну, или хотя бы в непосредственной близи от Колизея, на пьяцца Испании, слившись с гламурной тенью рекламной модели от «Gucci» или «Armani». Магазинчиков, в которые можно зайти, рискуя выйти оттуда с инфарктом. Материальные ценности едва поспевают за моральными выгодами.
Вход в Колизей 47 евро. Чашка чая с бриошем в кафе «Greco» (где закусывал Гоголь в перерыве между работой над «Мертвыми душами») – целое состояние. Ну, так ведь и Гоголь в нагрузку. И Мопассан, и Гете, и Флобер. И еще множество деятелей культуры и искусства. Плюс – вид на знаменитую лестницу. И, вообще, центр Рима и мира. В стоимость кофе закладывается весь Рим, весь мир. Даже обшарпанные под старину стены.
Ну, мы непростительно отвлеклись в сторону. Все внимание на римлянина, на жгучего мачо, на это чудо природы. Сейчас его выход. Он должен подъехать ни на каком-нибудь моторино. Ни в коем разе! На моторино ездят все. Даже китайцы, которые постепенно захватывают Рим, как некогда сами римляне потеснили этрусков. Нынче Рим – это целые китайские кварталы и негритянские гетто. Лет десять тому назад в Риме не было ни одного китайца. Скоро не будет ни одного итальянца!
Итак, моторино в сторону, под откос, на свалку! Настоящий римлянин катается на кабриолете. Он парит над этой жизнью, как вольная птица, как орел. Он дарит себя миру и Риму: нате, радуйтесь! И ведь, действительно, паршивец, красив, как Аполлон. Все римлянки страшны, как атомная бомбардировка. У римлянки – орлиный профиль. Лучше сказать – рубильник. И этот отзвук клюва римского орла отдается в сердце содроганием. Боже, как они божественно некрасивы! В противовес всем этим жигало.
Итак, римлянин появляется в кабриолете. В костюмчике в талию и с искрой. Почти наш Чичиков, но только в десять раз потоньше. И, конечно, с подругой жизни, некрасивость которой окутана фатой, словно боги брызгами в знаменитом фонтане Треви. Он появляется как бог из машины, главное достоинство которого – поразить и удивить. И, конечно, его встречают овациями, словно всемирно известного тенора. Но он не поет, он ничего не говорит, он даже как-то сосредоточенно угрюм и разочарован жизнью. Потому что успех ему слегка приелся. Аплодисменты он принимает как должное. Да и могло ли быть иначе? Ведь весь мир и Рим придуман только за тем, чтобы в нем царствовал этот обманщик и фат, эта кукольная гламурная фигурка из древнего балагана. Этот мир придуман для того, чтобы мы могли купиться этим обманом зрения. Чтобы мы и себя почувствовали немного римлянами. Но не надолго, совсем на чуть-чуть. Вот сейчас он взмахнет своими стрекозиными крылышками, блестящими фалдами пиджачка от «Armani». И поминай как звали. Вот в этом и весь шик. Пустить пыль в глаза, ослепить, обескуражить. И исчезнуть, как и не было его.
Договариваться с римлянином о чем-то – это еще один акт спектакля, но заключительный. Он очаровательно размахивает руками, как будто дирижирует концертом, оперой Россини, Верди, Пуччини. Вот сейчас прозвучит заглавная партия, выходная ария, сейчас зал забьется в истерике оваций.
Итак, вас приглашают в его загородную виллу на обед. Вас ждут, как самых дорогих гостей. И все в это в изысканных выражениях, сводящих с ума своей куртуазностью и манерностью.
В этот момент надо любоваться его импозантностью. Этой пластикой римского имперского стиля. Стиля, повелевающего миром обмана. Да-да, именно обмана. Вы не ослышались. Потому что буквально спустя минут пять, в ходе которых он также опереточно и манерно взмахивает руками и бурно с кем-то общается по мобильному, оказывается, что обед отменен.
Все, fenita la comedia! Концерт закончен. Всем спасибо! Римлянин откланивается. У него масса неотложных дел. Не все еще очарованы этим блеском, этой ярмарочной мишурой, этим карнавалом, этой обернутой в фольгу пустотой. Надо лететь дальше и выше. Надо досягать нового солнца, сгорать и осыпаться пеплом на головы изумленных и обманутых зрителей.
Ариведерчи, чао, чао! Чао, вертопрах, выскочка, парвеню, жигало, мачо! Ты великолепен! Впрочем, как обычно, как всегда, когда в Риме жара от обилия жгучих брюнетов!
«Венеция миноре»
Каждый плавающий и путешествующий выдумывает свой город, который порой не совпадает с общепринятым мифом, растиражированным в рекламных буклетах. Я выдумал свой. И забылся в нем…
«Венеция миноре» похожа на брошенного своим хозяином пса, лежащего у кромки воды. Вся туристическая свора от вокзала Санта-Лючия устремляется вперед по Терра Листа ди Спания, хотя до понте Риальто по правой стороне куда быстрее. Но кто об этом задумывается: быстрее, медленнее. В Венеции все растворяется без остатка. В том числе и остатки разума.
Турист в массе своей любого гения места превращает в место общего пользования. Тысячеглазое чудовище в домашних тапочках и клоунских маечках. Да кто они такие? Да по какому праву? Просто канальство какое-то! А мне кажется, что я здесь был задолго до того, как помню себя. Мне кажется, что я здесь жил всегда. Только не знал, что имя этому – Венеция. «Венеция миноре».
На той (в итальянском есть презрительное обозначение codesta) стороне, чуть было не сказал Стикса, ну да, конечно, маслянистые воды Стикса, которые делят Венецию пополам на маджоре и миноре, маленькую и большую, светлую и темную, едва теплится жизнь. Если она там вообще существует. А эта тропа – для завзятого обывателя, привыкшего сполна отбивать потраченные деньги дежурными, включенными во все туристические путеводители, видами. Это все равно, если бы вы, желая зайти в магазин, ввалились бы в витрину.
На левом берегу не разобрать горячее биение о стенки сердца тока крови. Или даже упругого тока воды в канале, если этот город-вамп вынул вам сердце. Здесь обязательно подтолкнут, вынут душу вместе с руками. Или хамоватые официанты ввергнут тебя в омут товарно-денежных отношений.
Нет, на этой тропе войны покоя не найти. Даже ночью. Днем взгляд рассредоточен из-за пестрой толпы, словно глаз у мухи. Туристический карнавал. Свет какой-то пресыщенный, словно лихорадочный румянец на щеках гулящей девки. Тысячи ног стирают брусчатку до безликости половика. Эхо твоего голоса гулкое и чужое. Но с приходом темноты световую рассеянность поглощают разноцветные огни ресторанов. В кафе и на улице за столиками – все та же толпа, жадно пившая твою кровь днем. А теперь они медленно из соломки цедят одиночество и тоску вперемешку с тишиной улиц.
Туристическая тропа ведет с толпой из города. А та – обратно. В потемки, кромешную тьму венецианской изнанки. В «Венеции маджоре» принадлежишь толпе. В «Венеции миноре» принадлежишь себе. И весь этот затхлый, лишенный воздуха и неба мирок, этот морок, этот призрак города, который витает бог знает где, твой. И больше ничей! Словом, стоит столкнуть лбами Венецию земную и небесную, чтобы послышался хрустальный звон осколков муранского стекла. И «Венеция маджоре» прекратила свое существование!
Джудекка. Рыбацкие сети, словно выброшенные волнами на просушку, напоминают распятие, которым хотят образумить стихию. Но лагуна все же берет свое. Она непокорно выворачивает суставы шестам и выскальзывает из мелких чешуйчатых ячеек, словно рыба, оставляя после себя лишь пустоту и тину.
Последствия этой борьбы заметны разве на канале Джудекка, который, как и кале Лунга от туристической тропы, заполошно бежал от Канале-гранде. Вдоль набережных Джудекки изможденные баркасы, угрюмые буксиры с облупившейся краской, рыбацкие лодки, какие-то безрадостно уткнувшиеся носом в пристань ялики, уставшие плавучие краны, словно боксеры, повесившие перчатки на канаты. Этакой речной пролетариат, прихожая, которая спрятана подальше с глаз долой, словно внутренности океанского лайнера из рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Бог его знает, от чего произведено это название «Giudecca». Утверждают, будто бы на острове Джудекка селились евреи. От чего позднее произошло гетто. Темная история, как и вода в канале. И дома здесь довольно мрачноватые. Какие-то сутулые, не то усталые. Наверное, бурая тина, которой опутаны пристани, пакгаузы, подточенные волнами, будто кариесом, сваи придает Джудекке оттенок болотистой ряски. И тянет своей свинцовой тяжестью его на дно.
Труженик вапоретто, надсадно отфыркиваясь, словно пес, выброшенный своими хозяевами освежиться, прилежно гребет лапами к берегу. Тучка выхлопов сизым облаком взвивается к небу, обволакивая его голубизну, словно в фольгу.
Арка пакгауза – немое рыдание сатира, деревянные ступени, спускающиеся к воде так буднично, словно к асфальтовой мостовой, деревянные столбы отдают холодом карцера – темное чрево города, подземелье. А рядом сиятельная церковь Иль-Реденторе (Христа Спасителя). Парадный фасад с беломраморными колоннами и скульптурами скрывает за своим портиком довольно примитивный кирпичный барабан с колокольней, как две капли воды напоминающей Сан-Анджело. Только поменьше. Миниатюрный слепок с оригинала, брошенного на другом берегу.
Отраженное в серой лужице канала небо – тусклое, словно театральная бутафория, которую побросали в угол и забыли.
Пожалуй, именно здесь и ощущается острее всего, что Венеция – это бутафория, кулисы театра комедии, который призван тешить праздную толпу, решившую весело потратить свои деньги. Вдоль канала и острова разбросаны обломки прежнего величия. Сюда ссылают за ненадобностью, списывают по старости: дома, целые архитектурные детали, кварталы, эркеры, балконы, арки, потускневшие цвета, фрагменты набережных, невзрачные лица. Да и того же Палладио, который на противоположном берегу ни на кого так и не произвел впечатления. Там и своего добра хватает с избытком. А здесь хоть что-то, хоть как-то. Все эти набившие уже оскомину домики с балконами и стрельчатыми окнами, пестрый, арлекиний наряд.
«Венеция миноре» – задний двор ресторанов, куда выходят на перекур измотанные жизнью и службой кухарки и гувернеры, посматривая на пассажиров вапоретто весьма недружелюбно. Но здесь как-то легче дышится и проще. Нет парадной чопорности и натянутости. Джудекка – затрапезье Венеции. Задворки.
Джудекка, словно нож, разрезает эту сухую корку Венеции миноре пополам. Противоположный берег безымянный, словно неокликнутый никем прохожий. Нищий сгорбленный старик. Породниться с ним – все равно, что признать свое худое родство. Но мне кажется, что я этой дорогой ходил и хожу всегда. Только не знаю, что имя этому – Венеция. «Венеция миноре».
Мой маршрут прост. Через мостик надо махнуть направо и, скользя тенью вдоль обшарпанных стен лабиринта узеньких улочек, устремившихся к Понте Риальто или по своему разумению. Куда глаза глядят. Улочки все сплошь весьма забавные: degli scalzi. То есть разутые, босые. Ну, так и есть: здесь живут или во всяком случае некогда обитали босяки, ремесленники, швеи, посудомойки, проститутки, бандиты и прочий сброд: двор Горшечников (Corte cazza), улица Гусятников (Calle delle oche), улица Красильщика (Calle del tintor), Набережная сисек (Fondamente de Tette) и прочая. А нынче, видимо, ютятся их потомки.
Хождение по туристической тропе обязывает. Усредненная пошлость путеводителя рекомендует заглянуть на Сан-Марко, взобраться на Сан-Анджело, зевая, пялиться на портреты дожей.
А потом все это забыть.
Куда как милее бесцельное блуждание почти впотьмах, интуитивно открывая, словно тайну мироздания, тайну этого места, тайну моего с нею родства. Что может быть лучше, чем бороздить просторы подсознания! Потаенных комплексов и пороков? Ведь тебя никто не видит. И ты никого.
Маленький, постыдный, заветный городишко. Только мой и больше ничей! Какое блаженство плавать по его улочкам, когда твоя тень переплетается, словно виноград с прозрачными нитями, которыми опутан весь город, весь этот огород и всякий, кто попался в его сети. Это плавное тихое почти вживание в маленькое, сжатое в кулачок пространство. Погружение на дно. Когда журчание воды в узком проулке, просвете, рукаве гулким эхом отдается в тебе и почти совпадает со стуком твоего или какого-то общего с Венецией сердца. Когда небольшие, извилистые улочки легко перепутать с изгибами судьбы на ладони. И даже почувствовать сладостную горечь одиночества. Или даже, может быть, отчаяния, когда вдруг исчезнут указатели «per Rialto» или «per Santa Lucia», и твоя жалкая тень, тревожно бьющаяся в узком колодце, как пульс, в поисках выхода утеряет всяческий курс.
Где я? Куда дальше? Разве не эти вопросы я задаю себе повседневно? А вот здесь, в «Венеции миноре» – и ответ. И ответ этот в отсутствии ответа. Выхода нет, и не ищи. Но в какой сладостной тревоге пойманной птицей бьется сердце! Связь с реальностью и со всем, что было с тобой минуту назад и будет минуту спустя, потеряна. Она затерялась, словно копейка в прорехе карманной. Нет никакой Венеции и смысла нет, возможно, его и не было. Весь большой город с дворцами и музеями, площадями и каналами ужался до маленькой коммунальной квартиры, по которой жильцы шастают в стоптанных тапочках и трусах к соседям за спичками или заваркой. Где сушится белье, греются на солнышке старики, и высоко в простенке голубеет потрепанный парус неба. И мостики с воробьиный скок и улочки не дальше выдоха. Да и названия совсем уже не парадные, миноре: Ponte de Tette, fuondamento de Tette. Мост Сисек, набережная Сисек. Вроде как ты – шел в комнату, попал в другую, как в «Горе от ума». Тут какие-то неодетые барышни. Визг, пьяный хохот. Там, на витрине, на рыночной площади, негры с дамскими сумками. А здесь их никто не отличит от подъездной тьмы, синих теней, сырых углов, утлого вымысла твоего больного воображения. Здесь они все сарацины, мавры, ну, или на худой конец – Отелло. Ведь бывшая владычица морей заарканила его где-нибудь неподалеку от своих берегов, Сенегале или еще где. Но даже у Шекспира не хватило фантазии дать ему прописку в Светлейшей. Ревнивец, задушивший свою жену, обречен. То есть, так или иначе, а в городе ему нет места. Его соотечественники ныне на левой стороне торгуют сумками, подолгу расстилая белую простынь на асфальте, словно любуясь тем, как она трепещет во влажной и голубой купели венецианского простора, растворяясь в ней.
И кажется, если вынести негров за скобки, то это город влажной простыней стелется к твоим ногам, он колеблется у тебя под башмаками, как булькающие водой в чайнике волны под бортом у вапоретто. Или это все зыбкий предутренний сон, солнечный луч, струящийся сквозь ресницы, как если бы мы проявляли в ванночке негатив черно-белой фотографии.
Неправдоподобный, обманчивый, лживый, дождливый, вымороченный! И что это за белая простыня, что это за оказия: сменное белье публичного дома на fuondamente de Tette или белый саван?
Сон, смерть, зыбь, рябь, волны, призраки… Все повторы, как круги на воде. Все это уже было, было. И будет.
В Венеции трудно не быть банальным. Но все слова не в счет. Или по-венецианским понятиям: все остальное включено в счет.
Prego, signiore! Va via, vattene, via di qua!
Пошел вон!
Пробил час. Или вернее – негры, потомки Отелло, на башне. Ты-то думал, что все остановилось и замерло, когда ты уехал отсюда. Ан нет. Ты, каждый раз уезжая отсюда, умираешь. И, только возвращаясь, видимо, все же воскресаешь вновь. В городе, выдуманном тобой, имя которому – «Венеция миноре»…
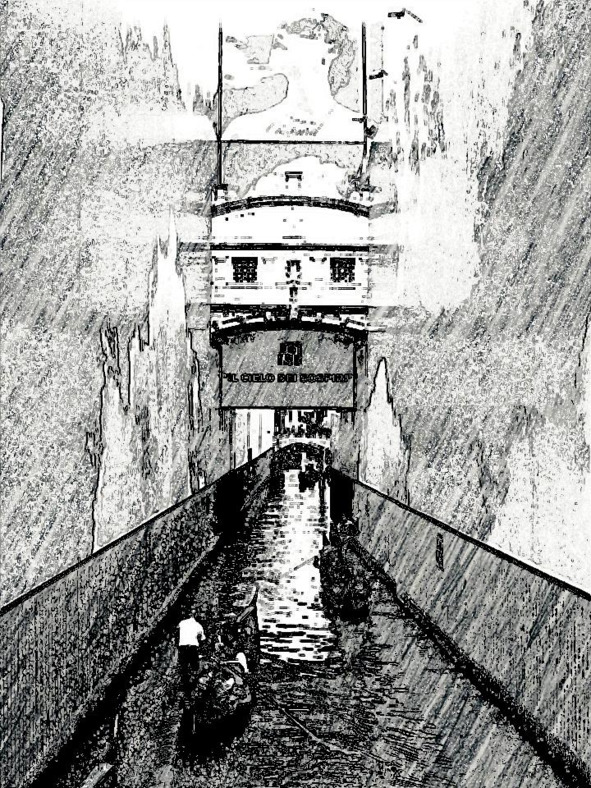
Флоренция – цветок в петличке
От Болоньи до Флоренции поезд мчится шибче воли по туннелю, как иголка, мелкими стежками выскакивая на поверхность. После получасового вышивания крестиком уже на вокзале, напоминающим большой современный муравейник, кажется, что попал не сюда.
Зачем все это кружево из металла и пластика, когда я ехал за средневековьем? Но, в принципе, вокзал необходим, словно карантин. Покуда ты по инерции все еще мчишься вперед. А тут надобно остановиться, отдышаться. Или просто обратиться со временем вспять. Поставить на этой жизни крест и уйти с головой в иное, чем евростар и сникерс, культурное пространство. Распроститься с ширпотребом, видеожвачкой и попытаться прорваться к культуре сугубо индивидуальной, штучной, сделанной вручную, сотворенной. Ведь этот город сотворен в отличие от многих других. И в этом сложность его усвоения. Во Флоренции неуютно, словно на фреске Страшного суда…
Вообще с Флоренцией вечные проблемы: то гвельфы с гибеллинами, то Савонаролла с Макиавелли. Пророки из своего отечества бегут без оглядки, куда глаза глядят, попутно призывая на головы своих сограждан огонь и меч. Данте похоронен в Равенне, и с тех самых пор Флоренция борется с нею за прах своего мятежного сына.
Дух мятежа и своенравности бродит по Флоренции. Погода трудноуловима. То накрапывает мелкий дождичек, то солнце, а то ветер заносит белый свет свинцовыми облаками, и город погружается во тьму Египетскую. Но и вся эта непогода не в состоянии укротить туриста, стадный инстинкт которого неукротим. На улочках, где вряд ли разойдутся, не прижав друг друга к стенам, две пышнотелые флорентийки, толпу ежедневно потрошит не менее грандиозная ватага торговцев кожаными изделиями, сувенирами, панамами, зонтиками и прочей мелкооптовой дрянью.
Процесс купли-продажи напоминает борьбу кланов за власть в эпоху Возрождения. Торговцы – испанцы, мексиканцы, арабы, негры – воздымают цены в заоблачную высь, туда, где расцвел купол Санта-Марии-дель-Фьоре. Специально даже ценники приклеивают к товару, чтобы убедить покупателя в том, что скидка в 5 евро весьма и весьма значительна и нужная вам вещичка достается почти задарма. Покупатели столь же стремительно пытаются эту цену опустить вниз, к мостовой, на брусчатку, по которой ходил Данте и укорял горожанок в непристойности, поскольку те демонстрировали ему свои прелести. А ныне потомки Ганнибала стелят свои стихийные простыни со всяческим неликвидом.
Словом, битва за умы и кошельки, как и прежде, с утра до вечера идет нешуточная. И тут размер улицы играет весьма значительную роль. Ведь вы не просто покупаете ненужные вам ремень, бумажник и башмаки, вы – избранник, которому улыбнулось счастье. Будучи зажатый со всех сторон обстоятельствами времени и места, между Донателло и Микеланджело, Бенвенуто Челлини и Леонардо, Давидом и домишкой, в котором жил Макиавелли, у вас нет никаких шансов к сопротивлению. Торговаться в таких нечеловеческих условиях невозможно. Это все равно, что просить скидку у Палладио за его распускающийся над городом по утрам, будто диковинный бутон, купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Или у зодчих стрельчатой башни галереи Уффици. Отцы города не скупились, а вы тут торгуетесь за какие-то пару десятков евро!
Флоренция – единственный город, который, в буквальном смысле слова, заставляет тебя окунаться с головой в культурное пространство. Из ниш на тебя с укоризной смотрят святые, художники, статуи в буквальном смысле хватают тебя за руки и возят лицом за незнание того или иного исторического факта.
Раз ты приехал сюда, то не просто обязан, ты должен, ты призван. Кроме того, Флоренция не прощает скупости. В этих узких лабиринтах, придуманных словно для того, чтобы поток жизни был еще более бурный, чем в обыденной жизни, привыкли жить на широкую ногу. Если ворота, то обязательно золотые. Понте-Веккьо прогибается под тяжестью лавок торговцев золотом. Галерея Уффици хранит в своих стенах такое количество культурной роскоши, что все вместе взятые лавчонки Понте-Веккьо не стоят подрамника картины Рафаэля. Кстати, искусство искусством, а ведь этот музей, построенный Козимо Медичи, ведет свое наименование от офиса. Ну или, если быть совсем уже точным – от галереи канцелярий. За каждый шедевр князья платили художникам золотом. Каждый из олигархов поверял свое богатство не дукатами, дворцами и пароходами, а прежде всего, количеством университетов, ученых и культурными сокровищами. У вас – Тициан, а у нас – Микеланджело. Кто кого? Порой для того, чтобы решить спор в пользу того или иного стиля отделки дворца или количества изведенной мастером киновари, приходилось прибегать к помощи ландскнехтов, императоров и пап. Вопрос о первенстве того или иного скульптура и художника решался не на небесах, а на земле с помощью интердиктов. Оппонентов изводили огнем и мечом. Гибеллины громили гвельфов, гвельфы – столь же рьяно гибеллинов. Кто есть кто, уже все позабыли, но зато в результате вся эта причудливая и кровавая чехарда превратилась в цветок. Лава застыла, сердце успокоилось, Всевышний выдернул последний лепесток из ромашки: не любит – любит…
Ты обязан восхититься. Для того, чтобы этот процесс был более естественен, есть Санта-Мария-дель-Фьоре. Собор, который невозможно охватить взглядом с какой-нибудь одной точки. Его замысел и воплощение столь грандиозны, что рядом с ним каждый вынужден ощутить свою малость, ничтожность. Красота Флоренции подавляет своим величием, как тяжелая бархатная, отороченная горностаями, мантия. Тебе все это явно не по плечу.
Солнечный луч выискивает время на часах дворца Палаццо Веккьо, но стрелки неподвижны. Время не властно над Флорой. С каждым годом эти дома с античными барельефами, портики с ликом Христа и непреходящей скорбью Девы Марии только прекрасней и печальнее. Старина властно подавляет, словно мраморный Давид некогда Голиафа, своей красотой и мощью.
О Давиде Микеланджело столько легенд, видимо, от того, что каждый рассказывающий стремится добавить что-то свое. Одна из них гласит, что на готовую скульптуру, которую художник высекал из цельной глыбы, не глядя на модель, пожелал взглянуть гонфалоньер Пьер Содерини. Давид ему понравился, вот только нос показался великоват. Тогда Микеланждело схватил резец, мраморную пыль и принялся изображать бурную деятельность, не притронувшись к носу. И после этого спросил гонфалоньера:
– А теперь?
– Теперь мне больше нравится, – ответил гонфалоньер, – вы придали больше жизни.
Вот вы только что стали свидетелями чуда. Чудо-город, а чудес на свете не бывает. Потому что надо убираться восвояси, а он будет сниться и преследовать вас по пятам. И чем дальше вы уедете от него, тем более защемит сердце.
Флоренция – цветок в петлице самоубийцы, город сумасшедшей красоты, от недостатка которой очень скоро наступает ломка. А по ночам, словно в насмешку, снится Москва, Москва, Москва…
Вероне где-то бог послал…
…Черепичные крыши, похожие на плитки шоколада, башни, напоминающие шахматную ладью с зубчатой окантовкой, мост Сан-Пьетро, такой старый, что века, словно сошедшая с ума секундная стрелка, обращаются вспять, и бегущая по камням мелководная Адидже. Город сверху в голубоватой дымке, пока еще размыт. Пока он еще неотчетлив, как белый прямоугольник фотографии, только что опущенный в проявитель. Все это, как панорама из папье-маше в музее древностей, какое-то невзаправдашнее.
Наверное, надо спуститься вниз с холма и перейти Рубикон. То есть, конечно, Адидже. Но нельзя при этом не почувствовать себя немного Цезарем, которому покоренную область, некогда она называлась Предальпийская Галлия и даже не была в составе Италии, преподносят, как кубок вина.


