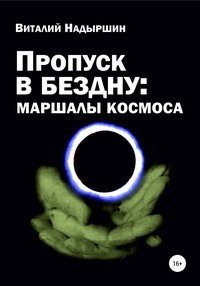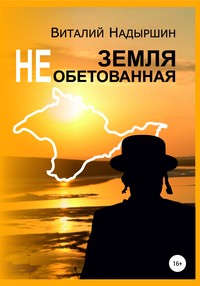полная версия
полная версияОшибка императора. Война
После грохота взрыва в помещении опять наступило секундное безмолвие, и в этой зловещей тишине раздался характерный звук: затрещали потолочные балки перекрытия, с потолка посыпались куски глины, камни… Казалось, мгновение – и он рухнет… Страх охватил людей… Однако свод остался на месте.
Оцепенение прошло… Помещение наполнилось стонами раненых, а из дальнего угла, откуда только что раздавался смех, послышался перемешанный с проклятьями и матом истошный крик одного из защитников, требующего помощи.
Чуть не сбив в полутьме мичмана, мимо пробежал командир башни Теше. В это время под тяжестью второго яруса опять угрожающе затрещали балки перекрытия: потолок вновь стал медленно оседать. По трапу, ведущему наверх, гурьбой, толкая друг друга, стали сбегать солдаты верхнего яруса.
– Аниканов, выводи всех наружу. Потолок… свод рухнет… – успел бросить капитан, прежде чем скрыться во мраке помещения.
– Все наружу! – заорал Михаил и бросился на помощь старому баталеру. Обхватив одной рукой Загородникова за туловище, второй – задыхающегося старика, он выволок их во двор. За ним устремились остальные защитники. В нижнем ярусе осталось человек тридцать канониров.
И опять взрывы… Сразу несколько ядер угодили в оба яруса. Башня вздрогнула, качнулась. Часть внутренних перегородок нижнего яруса обвалилась. Взрывная волна загасила фитили, зажжённые канонирами для очередного залпа. Из последних сил задыхающиеся от нехватки кислорода пушкари за несколько секунд до следующих взрывов успели поджечь фитили – грохнул последний залп. Едкий пороховой дым заволок помещение.
– Пушки заклепать, – раздался среди хаоса отчаянный голос капитана. – Помирать, братцы, так с музыкой… Захватив с собой несколько солдат, капитан бросился вниз, к пороховому погребу, чтобы взорвать башню. Но не успел… Очередные взрывы накрыли башню. Канониры бросились к выходу.
На прилегающей к башне территории покинувшие её защитники после пропитанного внутри гарью и пылью воздуха теперь здесь, на улице, пытались отдышаться и жадно хватали ртом свежий воздух.
И тут с левого фланга башни через редут неожиданно полезли французы. Это был, по всей видимости, отряд разведки, так как их было совсем немного, человек пятнадцать-двадцать. Они столпились в саженях двадцати от защитников башни, которые с удивлением, больше похожим на любопытство, разглядывали своих врагов. Судя по лицам французов, они мучительно размышляли, бежать вниз или ввязаться в бой. И они уже было повернулись, чтобы отступить, приготовившись спрыгивать с бруствера, как раздался сухой щелчок выстрела винтовки. Лежавший на земле Загородников выстрелил в толпу французов. Один из французских пехотинцев упал. Тут же раздалась команда на французском языке: пехотинцы резко вскинули ружья и дали залп. Несколько русских солдат вскрикнули. Аниканов выхватил пистолет и, не целясь, нажал на курок.
– К бою! – закричал капитан Теше.
Выставив вперёд ружья с грозно торчащими штыками, защитники крепости бросились на французов. Завязался бой, страшный своим молчаливым безмолвием, в котором раздавались глухой металлический скрежет железа, стоны и предсмертные крики раненых.
Выхватив у Загородникова ружьё, Аниканов бросился в бой. Разделившись по парам, солдаты обеих сторон делали выпады, стараясь проткнуть штыком противника. Среди них, размахивая своим палашом, капитан Теше сражался сразу с двумя французами.
Заметив рядом с собой щуплую фигуру баталера, отбивавшегося от рослого пехотинца, Михаил поспешил сделать выпад, целясь в грудь француза. Но вёрткий французик заметил опасность и увернулся. Скользнув по его груди, штык Михаила вспорол французу плечо, на его рукаве сразу появилась кровь. От боли француз вскрикнул, и в это время штык старого солдата вонзился ему в грудь. Француз стал медленно валиться на землю.
Неожиданно сзади мичман услышал тяжёлое дыхание, а затем чей-то возглас. Краем глаза Михаил успел увидеть француза и сталь его штыка… И в этот момент пехотинец дёрнулся, словно что-то толкнуло его в спину. Рука француза дрогнула… Разодрав сбоку мундир, штык прошёлся по телу Михаила, слегка зацепив кожу.
Михаил обернулся. Позади француза он увидел мальчишку, который вторично замахивался большой палкой на французского пехотинца. Не раздумывая, Аниканов развернулся и с разворота, вложив всю силу, концом приклада ударил пехотинца по голове.
Брызнула кровь, француз отлетел в сторону. Глаза мальчишки радостно заблестели, он издал победный крик и палкой стал добивать упавшего врага. В мальчишке Аниканов признал сына купца. К упавшему французу бросился его товарищ.
– Назад, пацан! – заорал Михаил.
Схватив мальчишку, он отбросил его в сторону. Подбежавший в это время француз с ходу выкинул вперёд руку с ружьём, целясь штыком в мичмана.
И опять Михаилу повезло. На этот раз находившийся рядом с ним старый баталер успел подставить своё ружьё и отвести штык француза в сторону. Испуганный мальчишка бросился наутёк.
Вскоре с французами было покончено.
Потный, весь в крови, с разорванным воротником и портупеей, устало опираясь на рукоять палаша[76], воткнутого в землю, капитан Теше стоял рядом с единственной нетронутой снарядами стеной башни. Он хмуро разглядывал недавнее поле боя. Капитан тяжело дышал. Наконец уставшим голосом, но так, чтобы его слышали все, командир башни приказал солдатам собрать убитых и двигаться в сторону северной башни.
Заметив Аниканова, Теше вложил палаш в ножны и, слегка прихрамывая, подошёл к нему.
Посмотрев на порванный мундир мичмана с подтёками крови в районе плеча, он слегка похлопал Михаила по плечу:
– С боевым крещением тебя, мичман. Страшно впервой-то было?.. Видел я… Этот чертёнок вовремя встрял. Ладно, это ещё цветочки… Пошли глянем на берег.
Обогнув башню, они подошли к брустверу редута с правой стороны башни, совсем недавно отремонтированного солдатами Аниканова. Большая часть с таким трудом вбитых свай теперь была разбросана ядрами. Повсюду дымились воронки.
С высоты редута было видно, как берег пестрил синим и алым цветом сюртуков и брюк тысяч французских пехотинцев, среди которых то тут, то там мелькали красные мундиры англичан. Все они, словно саранча на голом поле в поисках добычи, двигались туда-сюда по берегу, выполняя какие-то команды своих офицеров.
– Ты гляди, мичман, сейчас попрут на нас. Господи… сколько же их… Боятся, видать… Хватило бы и десятой части при такой-то корабельной поддержке. Эх… расслабилась Россия, как расслабилась… Оно, как Наполеона-то разбили, так, почитай, с 1812 года и до сего времени больших-то войн и не было. Боялись, Аниканов, Россию! Ох как боялись…
Обратив внимание, что взгляд мичмана устремлён в сторону французов и что он его не слушает, капитан со вздохом произнёс:
– Да что уж теперь-то…
– Видимо, с нашего фланга хотят в тыл главного форта зайти, как думаете, господин капитан?
– Да всё к тому идёт. Эх, мать честная, не выстоим, вон их сколько… Пока не поздно, надо отступать к северной башне. Свою мы не спасём, – качая головой, с горечью произнёс капитан.
– Кабы достроили крепость, как того план требовал, да пушки поставили дальнобойные…
– Если бы да кабы, – раздражённо перебил мичмана капитан. – Воровать чиновникам нужно меньше. Тогда бы и пушки нужные стояли, и крепость успели бы достроить.
– Построили же! Вон, громадная какая стоит… Ну, малость не успели, что ж теперь делать-то? – вставил Михаил.
– Не успели… Всё у нас великое да громадное. И Царь-пушка не стрелявшая, и Царь-колокол не звонивший… Там чего-то недосыпали, тут где-то недолили… Уж как только царь-батюшка Пётр Алексеевич казнокрадов не наказывал… А толку…
– Поди, и невозможно одному человеку за всем догляд иметь.
– Кто знает… Ладно, чего теперь-то языками чесать. Давай, Аниканов, топаем отсюда. «Лягушатники» вот-вот долезут до нас.
Он выглянул из-за бруствера: перепрыгивая через валуны, рассыпанные по берегу перед крепостью, французы лавиной шли на укрепления.
Тишину вспорол гром залпов. Береговые и корабельные орудия открыли массированный огонь по крепости…
Несколько суток без сна и отдыха дрался небольшой гарнизон форта Бомарзунд против десятка тысяч пехоты неприятеля. И все эти дни корабельная артиллерия союзников вела изматывающий огонь, разрушая укрепления.
И наступил момент, когда стало ясно, что заблокированный в портах Балтийский флот не сможет прийти на помощь, боезапас крепости подходит к концу, оставшиеся в живых защитники не могут уже отстоять свою крепость. Комендант крепости Яков Бодиско «за невозможностью сделать России что-либо полезное, окромя как умереть» решил вступить в переговоры с неприятелем. В одной из амбразур главного форта он выставил белый флаг. Однако, не желая сдаваться врагу, солдаты крепости вырвали флаг у офицера и разорвали его в клочья. Но кусок белой материи появился снова, и теперь его охраняли уже несколько десятков верных коменданту людей. Тогда группа солдат, не желая опозорить себя и русский флаг, решили сами взорвать пороховой погреб форта.
Однако комендант не позволил этого сделать, он выставил у порохового погреба усиленную охрану.
Вскоре крепость Бомарзунд пала. Генерал Барагэ де Илье, войдя на территорию крепости, сказал коменданту форта, что он хорошо сделал, что не довёл дело до штурма, потому что при взятии крепости «французы не пощадили бы никого»…
Многие взятые в плен защитники крепости были недовольны, что им не дали погибнуть со славой, хоть и в безнадежной борьбе.
Позже, глядя на развалины крепости, французские офицеры рассуждали между собой: «Наступит зима, море замерзнет, и с материка по льду придут казаки. Они, как медведя в берлоге, обложат крепость и наш флот, скованный льдом. К чему эти жертвы, господа?..»
Взятые в плен русские и финны были переправлены в Англию, в тюрьму Льюис. Позже им позволили вернуться в Финляндию и Россию.
Европа ликовала. Союзники объявили взятие Бомарзунда как великую победу.
Не зная, что делать с крепостью, союзники решили… подарить её шведам. Шведское правительство, пристально следившее за ходом войны, подумало-подумало и, поблагодарив за столь ценный подарок в самых изысканных выражениях, благоразумно (и от греха подальше) отказалось от подарка: они ещё не забыли сражения с Россией полувековой давности.
Произведя ещё несколько обстрелов небольших крепостей, в сентябре 1854 года основной флот союзников покинул Аланды, взорвав перед этим уцелевшие после штурма оборонительные сооружения Бомарзунда, а вскоре и последние корабли эскадры адмирала Нейпира покинули Балтийское море.
В конце сентября 1854 года над руинами Бомарзунда снова был поднят русский флаг!
Очередной поход англо-французского флота к берегам России в Балтийском море состоялся на следующий год. Но и он не принёс союзникам успеха.
Русские крепости, расположенные в Балтийском море, оказались неприступными для интервентов.
Забегая вперёд, надо отметить, что в 1856 году Парижский мирный договор присвоил Аландским островам статус демилитаризованной зоны, который сохраняется и в настоящее время
Могилы русских, английских, французских, финских и прочих солдат на Аландских островах ещё долго будут напоминать миру о наглом и бессмысленном нападении Великобритании и Франции на Россию.
Блокирование балтийских портов и ожидание нападения союзников на столицу всё же наложили отпечаток осторожности на решение Николая I перебросить дополнительные войска на юг России. И это обстоятельство в скором времени несколько отрицательно скажется на исходе сражения в Крыму. Но об этом позже…
И всё же нападение союзнического флота на Россию в Балтийском море в 1854 году не принесло желаемого успеха ни Великобритании, ни Франции. Падение крепости Бомарзунд – слишком ничтожный результат, который абсолютно не компенсировал огромных затрат на организацию кампании. У себя на родине адмирал Нейпир подвергся жестокой критики со стороны парламента и правительства. Чтобы спасти свою честь, разъярённый незаслуженными обвинениями в свой адрес адмирал издал сборник документов, где указал все недостатки правительства, способствующие неудачному походу. Один экземпляр своих сочинений Чарльз Нейпир позже пошлёт в Россию великому князю Константину Николаевичу.
Неудачный поход союзников на Балтике затронул, как писали английские газеты, честь великой морской державы. Забегая вперёд, надо отметить: дабы загладить воспоминания английского общества о неудачной кампании Чарльза Нейпира, на следующий год правительство её величества королевы Англии организовало следующий поход своих и французских кораблей на Балтику. Но и эта кампания не имела успеха, хотя сил у союзных войск на этот раз было больше, чем у адмирала Нейпира. И если побед не случилось и в этой кампании, то виноваты здесь были: британское правительство, нечётко сформулировавшее цели; император Наполеон III, не пожелавший на этот раз дать сухопутные войска, а сами англичане не хотели высаживать своих людей под губительный огонь русских береговых укреплений. К тому же за это время русское командование серьезно подготовилось к встрече союзников, Кронштадт стал неприступен. В конечном итоге союзные эскадры опять покинули русские воды. На этот раз пресса не особенно критиковала своё морское ведомство за неудачи, другие события отвлекли её внимание.
Восточная война была в самом разгаре. Осада непокорённого Севастополя, героизм солдат с обеих сторон, воровство союзнических интендантских служб, неумелые действия командования занимали целые полосы газет и журналов.
И пресса, как в Англии, так и в Европе, вскоре всё реже и реже будет вспоминать бездарные морские походы своих эскадр в Россию, а обоюдные претензии морского ведомства и английского истеблишмента постепенно забудутся. Не до этого…
А мы, читатель, перенесёмся с вами в Тихий океан, к фрегату «Аврора». Экипаж корабля с честью выдержал тяжелейший проход мыса Горн, избежал плена в порту Кальяо и теперь был на подходе к заливу Де-Кастри – конечному пункту своего нелёгкого плавания.
Часть третья
И снова «Аврора»
Моря и океаны… Кто бы что ни говорил о них, прежде всего надо сказать о Тихом океане. Если у вас, дорогой читатель, под боком, скажем, случайно окажется глобус или карта, убедитесь: Тихий океан занимает треть всей земной поверхности, и на его долю приходится половина водной массы, существующей на Земле. На огромном пространстве этого океана могла бы разместиться вся суша Земли: материки, острова, и ещё бы осталось свободное место.
Нет точных сведений о том, сколько в этом водном безбрежье из-за страшных ураганов потонуло кораблей и погребено в солёной океанской воде людских жизней; известно лишь, что очень и очень много…
Тогда почему Тихий?..
Тихим его в начале XVI века назвал португальский мореплаватель Фернан Магеллан. Когда он на каравелле «Тринидад» в сопровождение ещё двух парусных судов вошёл в неизвестное ранее безбрежное водное пространство, то был приятно удивлён: при попутном ветре стояли тихие спокойные дни и великолепные звёздные ночи. Вот тогда Магеллан и выбрал для этих вод (с записью в вахтенном журнале) название El Mare Pacifico, Тихое море. Правда, вскоре экспедиция попала в полосу штормов, но запись в журнале своё дело сделала: океан (как потом выяснилось) так и остался в дальнейшем Тихим…
Вот такой «тихий» океан и пересекал наш корабль «Аврора»…
Два не самых лёгких месяца перехода фрегата «Аврора» из порта Кальяо остались позади. И вот ближе к цели, словно в благодарность за мужество экипажа, установилась тихая погода, морская гладь заблестела солнечными искорками, вызывая в душе уставших моряков чувство благодушия и спокойствия.
Однако к морской глади моряки всегда относились как к чему-то тайному и неизведанному, понимая, что человек никогда не сможет до конца познать сию любезность морского царя. А потому моряки и даже убелённые сединами капитаны старались отблагодарить могущественного повелителя волн, бросая в воду монеты. Правда, это не всегда помогало: неожиданно налетал ураган, появлялись громадные волны, и они, словно щепку, подбрасывали корабль до небес и с шумом бросали его вниз… И тогда матросы гневно бурчали в адрес капитана: «Мало дал, пожадничал…»
На этот раз командир «Авроры», видимо, по-царски отблагодарил царя морского: какой уж день стояла прекрасная погода. До самого горизонта, насколько хватало взора, простиралась зеркальная океанская поверхность, и где-то там, далеко-далеко, у самого горизонта, смыкалась с небом.
Диск солнца медленно уходил на запад. Попутный ветер гнал фрегат «Аврора» на восток.
Необозримое пространство вокруг, полное отсутствие каких-либо целей в пределах видимости, негромкое завывание ветра в верхних реях мачт, отсутствие ряби и пены на гребнях волн – всё это создавало иллюзию отсутствия движения корабля. И только брызги да шипящий шум воды, разрезаемой форштевнем, указывали на то, что корабль не стоит, движется.
На шканцах у самого борта находились двое: помощник вахтенного офицера гардемарин Григорий Аниканов и судовой иеромонах Иона. Поодаль от них, рядом с тумбой судового магнитного компаса, стоял вахтенный офицер лейтенант князь Александр Максутов. У штурвала, безбожно зевая и переминаясь с ноги на ногу, – двое матросов-рулевых. Вахта подходила к концу.
Аниканов священнодействовал с секстантом[77], определяя высоту солнечного диска над горизонтом. Иеромонах, облокотившись на планширь, с уважением следил за действиями гардемарина.
Священник был без скуфии[78]. Его длинные спутанные волосы с проседью при слабом ветре, словно щупальца осьминога, игриво развевались на голове. Полы просторного чёрного сатинового подрясника, не совсем свежего, с обтрёпанными краями на ветру надувались пузырём, а густая борода, стоило Ионе повернуться, своим концом била его по плечу. Грубоватое лицо иеромонаха с глубокими морщинами в лучах уходящего светила выражало полное удовлетворение. Иона был ещё трезв.
Несмотря на это состояние, прямо скажем, редкое до непривычности, батюшка в сей вечерний час находился в благостном настроении. Хотя вчера, недобрав до кондиции, требовал от баталера лишнюю порцию вина, грозя отлучить отрока от церкви.
Определив высоту, Григорий подошёл к небольшому шкафчику, открыл дверцу, достал оттуда астрономические таблицы и углубился в вычисления. Через некоторое время, закончив расчёты, он пробормотал:
– Неплохо старушка наша идёт, совсем неплохо. Почти восемь узлов в час…
Священник пригладил бороду и густым, немного охрипшим голосом, поинтересовался:
– И что, отрок Григорий, скоро ль на месте будем?
– Скоро, батюшка, скоро. Коль ветер не изменится, глядишь, через пару дней увидим берега.
– Чай, пора ужо. С апреля на твердь земную ноженьки не ступали.
Священник перекрестился.
На главной палубе в это время с шумом распахнулись тяжёлые двери, и из чрева корабля повалили матросы, выстраиваясь в длинную очередь. Смех, крики:
– Иди, паря, отсюдова. Тебя здеся не стояло…
Наблюдавший за порядком лейтенант Константин Пилкин, вечно сонный и, как все крупные люди, медлительный, но весьма ответственный за порученное дело, показал нахальному матросу свой немаленький кулак.
В окружении нескольких довольно дюжих матросов, тащивших большие бачки с вином, появился баталер.
Судовой колокол на баке отбил очередные склянки. И тут же Максутов шутливо объявил в рупор:
– Команде петь и веселиться.
Галдёж на палубе усилился: началась привычная процедура раздачи вина. Баталер садился перед бачком на приготовленную для него банку[79], кружкой черпал вино из бачка, на секунду замирал, проверяя уровень, и только после этого протягивал следующему. Матрос вначале крестился, затем степенно опустошал кружку, после чего на миг закрывал глаза, крякал от удовольствия и рукавом робы[80] вытирал усы.
При виде баталера священник тут же встрепенулся, схватил полы подрясника в руки и, мелко-мелко семеня, заспешил вниз.
С высоты юта было видно, как батюшка, минуя очередь, подошёл к баталеру и протянул ему кружку, неожиданно появившуюся у него в руках. Тот взглянул на священника и, обречённо вздохнув, зачерпнул из матросского бачка полную кружку.
– Наш пострел везде поспел. Ещё и в кают-компании добавит, – зевая, незлобно произнёс Максутов, занося измерения помощника в вахтенный журнал. Неожиданно он поднял голову, прислушиваясь к гулу ветра.
– Боцман! – взяв рупор, заорал лейтенант. – Лиселя[81] и паруса на штагах[82] подтяни. Не слышишь, что ли? – и затем пробурчал: – Скучно! Каждый день одно и то же. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. Господи, как это уже всё надоело!
И тихо, чтобы не слышали рулевые, обращаясь к Аниканову, добавил:
– Старпом говорит, вода в танках почти закончилась. Дай бог, чтобы на пару суток хватило. А команда?.. С ног валится от усталости… А больных вона сколько… Ежель что, и паруса ставить некому будет. Нет, недотянем до этого Кастри-залива. К тому же командир болен. Старпом командует. Иван Николаевич уже приказал изменить курс на Петропавловск.
– Скорей бы уже хоть куда-то дойти, – мечтательно произнёс гардемарин. И добавил: – Отъедимся… Отдохнём… По земле походим…
Ближе к вечеру второго дня в дымке горизонта появились слабые очертания берегов. Словно чувствуя окончание утомительного плавания, фрегат увеличил скорость, по крайней мере, так показалось всем стоящим на палубах членам экипажа. Матросы стали шумно обсуждать перипетии тяжёлого перехода и смаковать прелести встречи с берегом.
Под присмотром судового эскулапа Вильчковского по бортам корабля на палубе расположились больные члены экипажа. Их было много. Бледные, измученные невидимым врагом, цингой, кто без зубов, у кого гноились дёсны и нёбо, почти у всех сильно отекли ноги, они жадно вглядывались в спасительный горизонт, мечтая не повторить участь умерших во время плавания товарищей, упокоенных по морской традиции на дне в разных широтах океана.
С каждой склянкой берег становился всё ближе и ближе.
Это был июнь 1854 года. С закатом солнца по курсу «Авроры» появился начинающий быстро темнеть скалистый покрытый густой растительностью берег юго-восточной части полуострова Камчатка. И чем ниже садилось солнце на западе, тем ярче блестел отсвет от зарева уходящего светила, оставляя на поверхности водной глади краснеющую дорожку. И эта дорожка, словно нить Ариадны, указывала уставшим мореплавателям путь к отдыху, путь в порт Петропавловск.
Вскоре совсем стемнело. Фрегат встал на якорь перед входом в Авачинскую бухту.
Город святых апостолов. Генерал Завойко
Ночь прошла спокойно. На следующий день природа продолжала баловать: стояла тихая и, по меркам этих краёв, тёплая, градусов пятнадцать, погода. И хотя небо с утра было затянуто тучами, слабые порывы морского ветра постепенно нарушали плотную облачную завесу, давая солнечным лучам пробиваться наружу.
Рано утром из порта к борту фрегата подошёл лоцманский бот. Ориентируясь по створным знакам и указаниям людей с бота, «Аврора» на малых парусах медленно стала продвигаться к причалу, на котором, несмотря на раннее утро, собралась большая группа людей. Радуясь приходу корабля с «большой земли», они размахивали руками и что-то кричали. Ватага мальчишек, разделившись на две группы, металась между двумя причальными тумбами, не зная, на какую из них первым будет привязываться швартовый канат фрегата.
– Боцман, подать кормовой швартов на берег. Право на борт, – раздался, усиленный рупором голос старшего помощника лейтенанта Тироля.
Корабль медленно стал разворачиваться бортом к причалу.
Шум береговых приветствий заглушил голос старпома, но боцман и без его команды уже привязал к швартовному тросу один конец линя[83], другой, с грузом на конце, сильно раскрутил над головой и забросил на причал. К линю тут же бросились все мальчишки. Схватив его, они стали подтаскивать тяжёлый мокрый швартовый трос. Однако вытащить его на причал у них не получалось. Подбежавшие мужики, не отгоняя детвору, впряглись вместе с ними и двумя-тремя рывками затащили трос. Подтянув швартов, они ловко уложили его шлагами на тумбу.
Трос тут же напрягся, как струна, и корабль, гася инерцию, слегка затрясся, протяжно заскрипел деревянным корпусом и медленно стал приваливать правым бортом к причальному брусу. Та же команда на берегу завела носовой швартов. Фрегат пришвартовался. Матросы опустили трап.
Основанное казаками на берегах незамерзающей Авачинской бухты ещё в конце XVII века небольшое поселение-острог, через несколько десятков лет получило название Петропавловский. Название сие дали русские мореплаватели Витус Беренг и Алексей Чириков, прибывшие сюда на пакетботах «Святой апостол Пётр и «Святой апостол Павел».