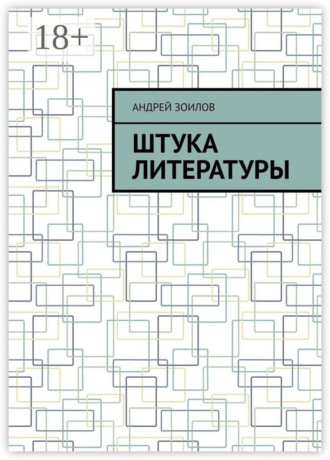
Полная версия
Штука литературы
Изучение векторной алгебры также может помочь пониманию литературы, – если этого пожелать, конечно. Итоговый текст доходит до аудитории как неподвижный и неизменяемый (скалярный) объект, фиксированный в словесных формулах, определённый в жанре и теме, изготовленный способом, удобным для ознакомления, и на том носителе, который адекватен технологическому уровню общества: будь то покрытые воском таблички, пергамент, бумага или экран электронного устройства. Но при его изготовлении и в процессе «доведения» до аудитории на текст действовало множество направленных (векторных) влияний. Некоторые из них непосредственно связаны с автором, другие совершенно от него не зависят. Следует учитывать и особенности контекста, в котором данный текст существует. Векторные влияния контекстуальных обстоятельств способны изменить любые параметры текста. В первом приближении можно утверждать, что итоговый, дошедший до стороннего непредвзятого читателя текст есть результат многочисленных направленных воздействий, остающихся для него неизвестными (поскольку он сторонний и непредвзятый). Точные словесные формулы, описывающие общий или частные случаи связи контекста с текстом, ещё ждут своих составителей. Как образец подобной частной формулы напомню афористичное описание метода социалистического реализма: «Соцреализм есть воспевание деятельности руководителей коммунистической партии понятным им способом». К счастью, актуальность метода соцреализма уже лет двадцать как утрачена; но литература-то осталась.
Автор, создавая и фиксируя произведение, находится под влиянием двух несовпадающих поведенческих импульсов. Первый из них стимулирует его собственное желание создавать словесные формулы и записывать текст, вне зависимости от того, каким образом эта запись скажется на его личной судьбе. Второй же импульс есть формализованный либо обоснованный внутренне социальный заказ на создание именно такого текста. Обнуление первого импульса можно видеть на примере значительного количества «заказных» литературных произведений. Обнуление второго импульса можно видеть на примерах уничтоженных добровольно или принудительно текстов, которые оказались недоступны даже для самой любознательной аудитории. О существовании таких текстов исследователи иногда узнают, но обнаружить сами материалы удаётся только после кропотливого поиска, если удаётся вообще. Максимальное значение первого импульса проявляется, когда угроза обнаружения фиксированного текста грозит стоить жизни автору. Максимальное значение второго импульса проявляется в успешной работе неискренних публицистов или «литературных негров». Эти импульсы, как правило, разнятся по силе и направлению, а при сложении их векторов образуют некий суммарный текстовый итог, вышедший из-под пера автора в литературное поле прочих влияний.
Один из частных примеров: ни в школе, ни в вузе (а я учился в Московском Литературном институте) никто из преподавателей ни слова не говорил нам о «методе собаки» (подробнее о нём смотри далее). Между тем такой приём, предусматривающий предварительное внесение удаляемого элемента, иногда применяется. Если выполненный по этой методике трюк пройдёт успешно, аудитория получит именно то, что задумано автором первоначально. А если нет? В этом случае аудитория рискует получить либо текст с «собакой», которая станет интегральной частью произведения, либо вовсе остаться без текста, если «собака» окажется слишком «жирной». И риска этого совершенно не осознаёт.
Но это – начала алгебры. А сколь упоительна арифметика предмета, особенно арифметика экономики литературы! Если бы за эту работу был предусмотрен хоть какой-либо гонорар, я постарался бы гораздо подробнее развить данный раздел. Увы, за всё время литературной деятельности в эмиграции (более двадцати лет) я не сумел отыскать такой печатный орган или интернет-ресурс, который платил бы незнакомому автору за присланный «самотёком» текст. Говорят, такое случается в англоязычной среде. Возможно. Но в русскоязычной – увы, не встречал.
Арифметические задачи в неявном виде присутствуют не только в экономике литературного рынка, но и в других его сферах. Именно арифметика поможет лучше понять литературный афоризм «Если в книге 80% правды, то она на 100% лжива». К счастью, не изобретён ещё правдометр, подобный спиртометру для содержащих алкоголь жидкостей. Опустил прибор в книгу – и получил коэффициент правды. В роли такого прибора обычно выступает художественный вкус. И он градуирован не универсально, а по личности оценивающего.
Но применение хотя бы арифметики очень полезно литературе. К примеру, видел я недавно знакомого израильтянина, говорящего по-русски, который позиционирует себя как писателя. Несколько книг он напечатал в местных типографиях за свой счёт, а позже благодаря определённым политическим связям сумел обеспечить публикацию своих опусов в России, правда, не в Москве, а в провинциальных издательствах. «У меня уже одиннадцать книг вышло!» – похвастался он. Число я запомнил и вскоре после того встретил другого говорящего по-русски израильтянина, тоже позиционирующего себя как писателя. Остановились переброситься двумя-тремя словами о литературе. «Знаешь, у этого одиннадцать книг уже вышло, – сказал я, – а как-то отражения на литературном процессе совсем незаметно». «Это чепуха! – ответил мой собеседник. – У меня уже шестнадцать книг вышло!» Я поздравил его и ушёл, радуясь, что никакая сила не заставит меня их читать. Но подумал, уходя: каким чудесным аргументом в пользу эмиграции такая арифметика служить может. В России, откуда родом один, и в Украине, откуда приехал другой, вряд ли они за двадцать лет выпустили бы больше трёх книг. Ну, в крайнем случае – пяти. Не по средствам было бы. Но одиннадцать! Но шестнадцать! Вот какова польза эмиграции, которую в данном случае для этих авторов я не смею назвать репатриацией, потому что все свои книги они выпустили на языке той страны, из которой уехали. Их тщеславие потешено, а отражение этих книг на литературном процессе я по слабости зрения заметить не в состоянии. Как сказал бы уже упомянутый учитель математики: в этом случае функция стремится к нулю.
В иерархической системе 16 выпущенных в свет книг, безусловно, лучше 11, а 11 лучше 3 уже только потому, что больше. В системе «ровного поля» 16 по-прежнему остаётся больше 11, но качественной или сравнительной оценки нельзя вынести, не видя самого предмета обсуждения: все эти кажущиеся на первый взгляд однородными предметы (книги) при рассмотрении оказываются разнородными и несопоставимыми. И несчастье некоторых авторов в том, что они пытаются совместить во времени и месте обе системы. Это понуждает их к высоким расходам, а ситуацию приводит к забавным казусам. Мне довелось лично присутствовать при беседе одного «плохого» писателя с сотрудником эмигрантской газеты на русском языке, освещавшим вопросы местной культурной жизни. Писатель впрямую пообещал журналисту деньги за то, что тот разместит с интересантом интервью в местной прессе, поставит хвалебные отзывы на нескольких интернет-ресурсах, а также даст наилучший отзыв о книгах этого писателя в радио или телепрограммах, в которых журналисту приходится иногда участвовать. Журналист согласился, и впоследствии я даже случайно услышал по радио его отзыв о «хорошей» книге писателя, которого точно знал как плохого, потому что имел неосторожность ознакомиться с одним из его текстов. Примечательно, что я до сих пор не знаю, заплатил ли писатель обещанную сумму, а зная его лично, могу заподозрить, что и не собирается платить. Таким образом, этому журналисту в качестве компенсации останется возможность либо избить писателя, если сил хватит, либо объявить в тех же средствах массовой информации его книги «плохими». Можно, конечно, сделать и то, и другое; а можно и ничего не предпринимать.
Некоторые поясняющие цитаты к предыдущей главе
Михаил Жванецкий написал о своём преподавателе литературы в школе рассказ «Учителю»:
«Борис Ефимович Друккер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас с седьмого класса по последний день, ненавидимый нами самодур и деспот, лысый, в очках, которые в лоб летели любому из нас. Ходил размашисто, кланяясь в такт шагам. Бешено презирал все предметы, кроме своего…
Мы собрались сегодня, когда нам – по сорок. «Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую и вечную память о нем», – сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями, поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. «Встанем в память о нем, – сказали фотографы и инженеры, подполковники и моряки, которые до сих пор пишут без единой ошибки. – Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык – его язык, ставший нашим. И во веки веков. Аминь!»»
Удивительный в своей простоте и доступности пример словесной формулы из книги Юрия Сухих «Русская литература для всех»:
«Отбор произведений, которые считаются классикой, производится не отдельными людьми по чьей-то директиве. Это результат совокупных усилий, которые называются историей».
Всё утверждение было бы с трудом мною терпимо, если бы не возвратный глагол. Некие прошедшие «отбор» произведения «считаются» классикой! Если происходит отбор, то есть и отбирающий. Природа производит естественный отбор (если верить современному учению дарвинизма), стало быть, вымерший вид отбора не прошёл. Значит ли, что сознательно уничтожая некий существующий биологический вид, человек делает благое дело, уподобляясь самой природе? Нет, конечно. Но при преподавании литературы именно так и делается. Декларируется, что сначала следует тщательно изучить «классику», а уж затем «не классику»; после чего декларируется, что «отбор произведений классики производится не отдельными людьми», а историей. Благодаря этим двум формулам время изучения «неклассики» не наступает никогда, потому что и десяти или одиннадцати школьных лет не хватит, чтобы изучить хотя бы малую часть «классики». Благодаря им же остаются неизвестными имена людей, производящих отбор «классики». Но здравый смысл позволяет установить их категорию, так сказать – производственную принадлежность. Это серединного уровня помощники и сподвижники правителей, уполномоченные власть предержащими на деятельность в данной сфере производства.
По поводу доступности книг для читателей и многих частных вопросов насильственного усечения литературы рекомендую книги Арлена Блюма, например «От неолита до Главлита». Эти книги можно найти в Интернете, в частности на сайте http://romanbook.ru/author/314402/. Почитайте. К огромному прискорбию, Арлен Викторович Блюм умер в 2011 году.
Приведу несколько цитат о «плохих» книгах, «плохих» писателях, арифметике и математическом подходе.
Из книги Григория Свирского «На лобном месте. Литература нравственного сопротивления 1946—1986»: «…Обсуждался, скажем, чудовищно плохой роман Федора Панферова „Волга-матушка река“. „Литературная газета“ опубликовала обзор писем читателей. Было процитировано 13 положительных отзывов и чуть поменьше – отрицательных. Словом, книга как книга. Никакого скандала! Каков же был конфуз, когда выяснилось, что редакция получила более тысячи негодующих писем и только… 13, одобряющих роман. Негодование читателей скрыли, а 13 положительных увидели свет как „мнение народа“. Но всё скрыть было уже невозможно».
В книге Льва Копелева и Раисы Орловой «Мы жили в Москве» Орлова пишет:
«Алиханян предложил мне прочитать лекцию о Хемингуэе в клубе физиков. Он сидел в первом ряду, задавал много вопросов, щеголяя своей осведомленностью. Он сам много знал об Америке. А меня дразнил: «Почему вы принимаете за данное, что Хемингуэй – хороший писатель? А я считаю, что он писатель плохой, докажите обратное».
Я злилась и не умела скрыть этого.
Потом он позвонил в гостиницу: «Давайте мириться, приходите на вино».»
Не правда ли, какое занятное столкновение подходов профессионального физика и профессионального литератора.
Ещё фрагмент – из книги Сергея Довлатова «Филиал»:
«Потом я услышал:
– Вот, например, Хемингуэй…
– Средний писатель, – вставил Гольц.
– Какое свинство, – вдруг рассердился поэт. – Хемингуэй умер. Всем нравились его романы, а затем мы их якобы переросли. Однако романы Хемингуэя не меняются. Меняешься ты сам. Это гнусно – взваливать на Хемингуэя ответственность за собственные перемены.
– Может, и Ремарк хороший писатель?
– Конечно.
– И какой-нибудь Жюль Верн?
– Ещё бы.
– И этот? Как его? Майн-Рид?
– Разумеется.
– А кто же тогда плохой?
– Да ты».
О «методе собаки» и влиянии руководящего мнения на текст:
«Активными борцами с политической цензурой были советские диссиденты. Основным методом распространения информации был самиздат… Известен также ряд случаев литературных мистификаций, когда авторы выдумывали якобы переводной источник. В частности, поэт Владимир Лифшиц придумал некоего английского поэта Джеймса Клиффорда, якобы погибшего в 1944 году на Западном фронте, переводы из которого он печатал, хотя это были его собственные стихи. Так же поступил поэт Александр Гитович, сочинивший имя «французского» поэта и печатавший свои произведения под этой маской. Булат Окуджава назвал одно из лучших своих стихотворений «Молитва Франсуа Вийона», поскольку был уверен, что по-другому цензуру ему не пройти.
Ещё одним методом обхода цензуры был так называемый «метод собаки». Он заключался в том, чтобы включить в произведение очевидно нелепый и привлекающий внимание цензуры яркий эпизод, в результате чего мелкие нюансы цензура не замечала. В частности, таким способом был почти полностью спасён от цензурных правок фильм «Бриллиантовая рука», в который режиссёр Леонид Гайдай специально включил в конце ядерный взрыв. Комиссия Госкино пришла в ужас и потребовала убрать взрыв. Посопротивлявшись для вида, Гайдай взрыв убрал, а фильм остался «неиспорченным» цензурой, на что Гайдай и рассчитывал. Впрочем, фильму всё равно не удалось избежать внимания цензоров к остальным деталям, но некоторые претензии были сняты.
Ещё об одном варианте преодоления цензурных запретов в кино рассказал режиссёр детского музыкального фильма «Приключения Петрова и Васечкина» Владимир Алеников. В 1983 году после отказа со стороны всех инстанций он сумел пригласить на просмотр фильма дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова Ирину, работавшую заместителем главного редактора журнала «Музыкальная жизнь». Одного лишь известия о предстоящем просмотре хватило, чтобы фильм был немедленно поставлен руководством Гостелерадио в программу Центрального телевидения».
(С сайта https://readtiger.com/wkp/ru)
Дмитрий Бобышев «Я здесь (человекотекст)». Книга вторая, «Автопортрет в лицах»:
«…для защиты своих находок и задумок наши либералы обводили его с помощью так называемого „голубого зайца“. В чём этот приём состоит? Он очень прост: в сценарий закладывается какая-нибудь заведомая нелепость. Она тот самый „голубой заяц“ и есть. Проверяльщик, натурально, сразу на него глаз и кладёт: а при чем тут заяц? Ах, извините, мы его вычёркиваем. Начальство успокаивается, и остальной материал проходит. Добавлю сейчас, что этот заяц существует и в английском, только он называется в обратном переводе „красной селёдкой“! Это может вызвать философский вздох: не всё ли в мире устроено одинаково? Нет, не всё. Краски. Краски – разные».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



