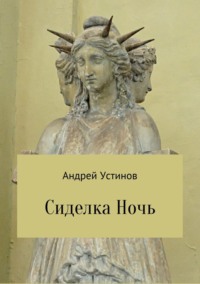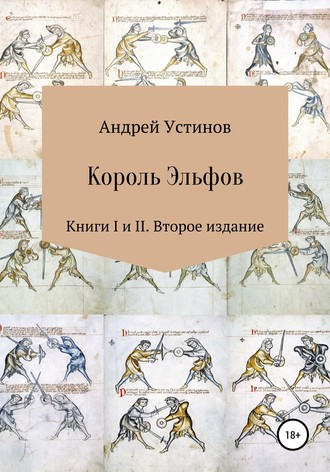 полная версия
полная версияКороль эльфов. Книги I и II. Второе издание
Вот так я и дремал в слезах, а то и улыбаясь, весь в иной жизни и торжестве ином. И проснулся бы – не пересказал бы, не перевел бы сон, кроме имени ее. Сполохи цвета и выплески слов, все мною перевиженное-переслыхнутое и перемолотое дремой, все плотно стежилось в цветастое одеяло, укутавшее мое внешнее я, и только нечто внутри, еще мне неизвестное, резвилось и росло.
Так вполне можно в сержи и жить! – вот и все, что сей глупец (тамотогдашний я!) сказал бы утром, потянувшись-залыбившись и неверно плюнув трижды через плечо.
Но три пряхи, прилежно сортирующие нитки моей души, ах – они-то знали свои труды!
3
Я не жалею о прошлом. Но все же, каким бы рычливым щенком (всерьез мнящимся волкодавом!) я ни был, но светилась в сердце Катинка и были щенячьи какие-то планы. На деле же, конечно, я понимал волчьи законы людского мира не больше, чем мотылек, только что выцарапавшийся из куколки.
И все сломалось, едва начало налаживаться. Хотя Елизер, всеведущий маг, и объяснил мне позже, что случайностей не существует, но до сих пор я сомневаюсь… а если бы боги так не заботились обо мне? Если бы наши с Катинкой дорожки не перекрестились в тот день и час у гарнизонных ворот? Если бы остался с ней и любил ее вечно, как и хотел? Так и порхал бы над мирским тленом? Смог бы? Елизер уверял, что нет… и не один повод, так другой, но обязательно отправился бы дальше по дороге славы. Что тут сказать? Я нынешний – не жалею о прошлом. Но я жалею того Гаэля-мотылька, которым я был и которого больше не будет никогда.
Плюх!.. Шшшуу… Был пасмурный осенний день, хотя и без мороси, и шугливым волчонком я скребся по кювете вдоль лагерного палисада, сердито жужжа под нос:
– Канава! Чтоб их! Кювета же! Хотя кто тут терминарии разумеет! Воеводы ж!
Относилось это к утреннему спору на плацу… Сержа никак нельзя было обвинить в чистоплотности, но кинули словцо – кто-то от армии будет спозаранку, может и отправят на подвиг, и надо было хоть как-то причесать поляну. Вот и мел драный плац драной ивовой метлой, задираясь с прочими бездельниками, пытавшимися смеяться над моими знаниями сражений и позиций, набранными из ликейонских уроков истории. Ах, натуральный бисер перед свиньями! Да и клятая листва то и знай падала вновь или насмешно разлеталась из наших куч, лишая день всяческого смысла. И потому был я немного сгоряча и мысли жглись и бились соответственно. И пусть неподходящий день был для шалостей, но из принципа и злости пустился все же в антрепризу.
Полз я к водоводу под въездным накатом – ах, самому ж стремному месту! Плюх!.. И замер, пузом в тяглом холодце, сгиная забродившую осоку, закиряя шею от укусов… Й-й! Засвербел позвонок, зливо ломясь… ух, выклонился как-то, замакнув пожатые губы, лишь нос над самою жижей потружно выдыхал склизкую рябь. Ах же вонильня! Чу! Еще и зубецы от холода заломились! Чу! Дневальные на привратье, два матерых злыдня, вышедшие вдруг из караульни сплюнуть смоляную жвачку, бормошились почти над душой, въедливо честя честны́х девиц, сочно отрыживая тяжкие ароматы… да и задами не держались (ну прямо трубачи!)… приходилось ждать.
Но что же делать: незаметный подлаз по кювете и был ключом к моей антрепризе – подворовке подков, первый год введенных нашим новатором-герцогом для обозных лошаков. Ну, заместо допотопейных сандаль-накопытников на подвязках – то-то в осенней грязище хороши! И потому весьма востребных держателями дворов! Ясенно, я не мог выйти на ярмарку и торговать с кармана; потому загрошно сбагривал подковки некой кривой роже на базаре, знамо лишь за медный звон в нужный карман не наколотой ще на оградцу на том же рынке. А то, нам на страх, пяток конокрадских жоп (пардон за жаргон!) там уж месяц сохло на зазеленевших кольях, ух как! Подковы! В Коголане-то они водились давно, для гужа и верха, и я от души смеялся местным кривым поделкам, совершенно без отворотов или чинного тщания о балансировке! Ах, а прямые безукосные нагели? Варвары же! Воеводы ж!
Да-да, и ключом, даже нагелем к прибытку (я аж икнул, отверкнувшись от тыркнувшего в щеку сохлого стебля) была наглая удаль торнуть кузню отвне. Ах, как я смеялся целый день, когда меня поразила сия идея! И даром серж-подлец выставлял на плацу кратный караул, – тем пуще потеха! С нашего со Щербой поста (отговариваясь, будто пошел по-большому) я бездельно шлепал в лес и сквозил через дубраву к отводной канаве, а там-то и приходилось полозовать. На это дело я, воображая себя сказочным ловкачом-буканом (бишь, эльфом-контрабандщиком), бережил старое тряпье под приметным камнем – влезать было мокро и грязно, но не сушить же на солнышке? Но кто же нагадал выставить кузню глухой стеной наружу? Пускай сплоченной в лапу, да задник крыши прибили мимо лаги (эх, криволапы!) и доски подъемлились неособным усилием – ан бы не оцарапиться! А чтобы не попасть на поверку, озорничать приходилось по обеду, пока серж в конторе вкушевал свежие провианты с рынка. То было вроде подати, наложенной добрым герцогом, что каждый торгаш поочередно возрадован был кормить защитный отряд. Типа рабьей дани, положенной по распорядку, согласно доходцу… а мне-то – шумная суета, чтобы проскользнуть под накатом…
Уфф. То ли от неудобства меркнуть мордой в луже, то ль от монотонного гужения дневальных, чуть видных мне сквозь траву, – вдруг мне до холодной смерти надоел весь циркус. Еще вялый бурый пискун прижалился аж на кончик носа, нацелил хоботищем, двоящимся перед слезящим взором… Я зажал дыхание и макнулся ниже, пискун обиженно порхнул куда-то за ухо. Сволотец!!! Если бы не Катинка, коей прошлый раз погорячился наобещать изящную вошеловку, деревянное резное яицко, прямо как у благородных дам дома в Коголане! Так увидел в оконце богатной лавки, так и обещал: а разве недостойна моя Катинка благородных устройств? Если бы-бы… Ах, сколько ждать еще подводы с налогом, вечно подвозимой к заклону солнца?
Но и болтовня про себя (разве что пузыри разбегались по гнилой луже) обрыдла до рвоты. Подумал, что причитаниями похож на того хлыща, что привечал меня в Метаре, и разозлился еще больше. И почти уже выскочил из штанов на злыдней и что-то злое учинил бы, но…
Чу! Я дрожу до сих пор, вспоминая… я не поверил юнецки запылавшим ушам – как бы само светило тяжко пало на череп и расползлось горячей лепешкой! – за хохотком сторожей, за тяжким притопом лошака по мосткам и скрипотелью тележки (ах! и сам я шелохнулся было облегченно, плюхнув лужу пузом абы жаба!), за брехотливым сверчком в кусте, позабывшем про осень, – расплеснулся знамый боевитый голосок. Как же?! Как же?! Как же?! Не их же очередь??? И такмо кровь загорячила мне по вискам, что Катинкину смешливость едину и внемлил, абы колокольную святицу:
– Доброго дня, судари! Припасы вашему сержантелю!.. Ай-ай! Ей-глаху, судари, не лапчитесь! Ужо топорницы вянут без вашенных рос!.. Куда ли! Сей окорок гербовный! Порвете мне вощеванку… Ах, сударь, полно, ах!
А дале – пали на очи морок и сон, я крался-терся, драпался где-то, дрался-царапал, и чуял лишь святицный ее голосок, перезвившийся финально в мышиный визг, достойный серосветного плесеннодушного амбара, куда я вломился сквозь запор-в-щепы за голоском ее, а развидел ее нагую покорную суть! Как же… и закличился, и кинулся на темного борова, монотонно ее кроющего…
И выяснилась в глазах – лишь выгребная яма, в коей приочнулся:
Смрад… парной живой смрад, в ком ты по горло, почти глотая, смрад, дна которого не знамишь, еле обдираясь пальцами за склизные корневища из стены, смрад в глотке пополам со рвотой, пропитавшей зубы, феторный дых в носу из собственного нутра, дриста и калые горошки в ушах, залепленных глазьях и волосах (это когда срывался с корневищ). Егда, грязно хмылясь, на тебя во имя Голоха опошевили нонный жбанец нечистот… Когда само течение дня ты меряешь сими корчагами-братинами (у разных бараков разномерны и уже знаешь все!), опошевенными на те со хмелого размаху, и жалишься к стене, нычешь дыхание, и по темени, по власам, за шиворот живыми червями течет по тебе смрад. И одежка на те ожилась второй, смрадною кожей, под кою ты и сам гадишь в себя, абы в суму. И даже вонные мухи с отяжеленным брюхом, лениво бражжащие, мнится, тужко присаживаются на голову, чтобы еще испражниться лишку. Скоро руци ослабнут, и…
Шаги зашлепались поверху, брызнули грязевными кляками, и я ужался… задрязгся в бессловном плаче, заслышав тонкий предажий глас:
– А, Гэлька? Ну човты, Гэлька? Не скворчи, не вживай… Човты? Ще недолга, ще у Глаха бужем стольничить, ще… Анто Сержеца мово не трожи, лады? – лепет Щербы перетек внезапно в ерное скуление, душевой визг, и от пришедшего откровения я враз ослабил пальцы и плеско залужил в смрадную тугую глубь, нырнул по самы гланды, еще внемля сбивчивые перечеты Щербовой запутавшейся души: – Онеж стражец Глаховый, нежит мне, щитит, прегрешет ме…
А было так, вспомнил полыхом: занесся на едином дыхании, сквозь лагерь (где на площади разбили бивуак новобранцы, которым не хватило барака) – сквозь лагерь злостной кометою прохвостил, убивая поленья, проставленные сушиться, подрав растяжку со рваными чьими-то рейтузами, подбив чей-то не к месту выстуженный котелок, расплеснувшийся под ногу постной жижей… сквозь глаховый мат, примчал на наш со Щербой пост, истово шепча-плача: “Убью! убью, убью”, – и каждое новое ю, синевою вырывавшееся с сиплым выдохом, будто придавало сил. В этот миг – кажила кормилица, предсмертие тако меречится ярко и ясно, – в этот миг внемлил все. Сквозь кровь в глазах и пот и оглушное биение в ушах – я людей не видел и не слышничал, но внемлил-то все: как нехотя падал гландис с дуба, чуть косо кружа в стылом эфире на единственном в оперении листке, как расплеснулась от паданца мелкая лужа, окаймленная пеной, облив по зобу серую лягушку, чье горло тут же пошло радужницей; чуял, как сойка с оголенной липы расправила голубые плечи, готовясь чижикнуть сварливо через набитое горло; как тут же ревниво напружили лапы белки, ковыряющие поляну; осязал, как влага копится на желтеющих липовых сердцах, сливаясь в знатные тяжкие капли, таща на себе наметенную пыль с озимного поля и каких-то мелких фузорий, знающих только о капле и ничего – о Голохе и трех его тетках-пророчицах; внимал кукушке, что на дальнем крае облесья затеяла кому-то отсчет оставшихся дыханий, запнулась, перечела еще раз раскинутую рядком паутину, запела заново; и запал Щербы чуял по дрожанию пола под его неустойчивым бегом из каморцы, по выметнувшемуся из двери заспанному сенцовому духу, а вот лепет слов его – не разумел.
И все сие счастье я готов был кинуть Глаху в глаза – в размен за червную юшку вонючего гада сержа, за клочья его черного тела, расчехвощенные по корытцам на гладость псарни, ибо только псарне, только волкоедам можно сие мясцо, а даже вольным вороньям – ни. И чтобы кажный чернорвивый кусок, ще сочась юшкой и отвратно дымясь, каждый из сотенной мелкой порубки, – ще голосил и взвизживал, пока волкодавы ожесченно грызжут его на жилы и мозжевые костья. И чтобы…
А что с ней? Да не мог я больше считать ее за деву, ажже подает себя за наценочку, даже если заради отцова дела. Пускай так у них в Метаре принято у девок-то, ибо так шнырь-то тавошний (помните ли про жену купеческую?) и сказывал! Ах, но виновна в плотском обмане, и сожжена была бы позорно по милостливым Коголанским порядкам. А по местным-то порядкам – вольной воля! И я дрожал-дрожал-дрожал, вцепившись в коряги ободранными ногтями, и выбивал зубами боевую дробь. Ибо делала так много, знамо, и до меня, то лады, но не прервала и не сказала, – что же, вольной воля, вольной воля, вольной воля! А покалечил бы, поленом подручным залущил бы сержа-гада на посту ночном, сучком то в глаз ему бородавчатый, и колуном по черепцу, как по гландису гнилому, и войским воем созвал бы всех зверей и птиц и жучей лесных, чтобы сожрали к утру даже малые пятна юшки, даже запах поганый выпили, а кости – кинул бы в дозорный костер, что горит вечно, рассыпаясь по ветру пустой злой… и… бы…
…
Было холодно, и я ведал, что умираю. Я ныкался теперь, хотя и шатко, на некой коряге, нащупанной на противной стороне ямы, на коей мог сидеть, свесив ноги в говны, закинувшись спиной к шершавой склизкой стенке, скукожившись в сохлой сизой шкуре, как вяхирь больной, обреченно ждущий неясыти. Но высидка не требовала хоть напряга сил – странное царье кресло приняло мою обмякшую фигуру как родную, и я дрожал бесконечно и мечтою ждал появления Глаха. И жаба рядом, что плюхнулась ко мне в выемку час ли назад и недвижно о мне бдящая, не была ли Глаховой посланницей по моей судьбе?
И когда заслышались громкие шаги, такмо попирающие землю, что даже жижа моя дрожала вокруг, я ждал тепла и солнца, что эвонна щас Глах вытянет меня крепкой десницей к блестким позвездьям, которые есть горницы Глахова высокого замка, но тень потяжелела и нависла горше и рогатый великан в железосверклом доспехе, хохоча гнусаво, пнул в меня грязные каменья, хохоча-хохоча рыкливо и жадно теребя под мошной:
– Зарыкался, петушок? Ща еще нассу тебе в рыло, где ты тама, а? Посижи, посижи… завтрема ще посластить запросишь, сосунок… коли жити захотишь… Жити-то хошь, говнешок? Аааа, сладко-мя! Ще оближешься…
И когда по векам, дрожливым стыдным страхом, да еще вдарила пахучая струя ссани, солонцою закаплилась вниз по губам – тогда очнулся я и вспомнил…
Воспомнил очень просто все: как вылеживался-терпел, но обезумел, выскочив из канавы, воскочил запальчиво прямо в амбарку, где серж уже громогласно впарывал Катинке – за гнильцу в сладких початках, и она давалась покойно, без тени сласти или стыда, а так пусто стояла, будто и не тут. Потому что сама-разумница закупила с гнильцой (сказывала же истории!), чтобы оберечь стотинку на жертву Метаре. Потому что издавна так завелось в Метаре, даже почиталось обычаем, и только иноземный дурошлеп, как тот папаша швейных близнецов (ну, Эл и Пирси, что ли?) или салага аки Гэль (и это я, что ли?), могли ерепениться. И что, правда, побежал я защищать? И Щерба – ах, дурик! – завопил истошно о Серже-защитнике и взогрел меня чем-то тяжким… Ах, пустомеля, чтоб его! Кто же знал-то, что он в довольстве и счастии алчется от сего непотребства?..
Сейчас, воспоминая, опять я как бы видел наши со Щербой дружные разговоры, но именно видел, а рты-то как будто разевались попусту, и никаких слов не выходило, только ветер пустой. И опять утопал в Катинкиных глазах, но не в голубизне их, а в пустоте, и почувствовал вдруг, будто лишился тела. И откуда-то из-за тумана доносились ще хохочущие слова демона:
– Жити-то хошь? От-же кинулся, горячешный! То охолонись-ка! Скули же, гов…
Но были то пустые слова, лишенные силы, только буквы, куражно выдохнутые в пустой воздух, как сухие листья. Как будто сдутые с той давешней вывески? И ничто не было уже выше – пустота одна. Но внутри меня – внутри-то меня Катинкины глаза, как были они голубыми до вчера, подожгли будто мою желчь. Или наглый хохоток демона ожег меня так? Но через сон услышал я чей-то еще глас – али другого, дружного демона (говорила кормилица, говорила!), али свой? – натужный, но ровный, как вещий гул в страхоморном ущелье:
– Азм. Азм бу вживу. Азм бу вживу. Азм бу вживу…
И увидал я себя самоё, как бы сверху, как существо в яме дернулось, абы Голохом обуянное, извернулось, цапнуло жадно бурый ком жабы, соловевшей рядом, и заживо зажевало ее, дергатную… чмокая, отожрав лапы сперва, а затем и всю до брызнувших мозжей, и все-то – не отрывая горящих глаз от пленившего меня демона. И слюнясь нещадно, грубо тоже хохоча, выплюнуло какой-то хрящ в сторону неба. И демон перекосился, атоль жирный хрящ ему в поганый рот встрял (ха!), и поперхнулся и закашлял гнилой слюной и завыл, ибо почуял мою неистребную желчь.
И мои девять душ (али сколь там Голох ведает? хотя бы и девять на квадриге!) – почуяли ли что? Да неже, пустой токомо вкус какой-то на зубьях, да гадко затеплело внутри, и я… вернулся в себя. И сидел, порыживая, на царском своем корневищном кресле в говняшной яме, но боле никакие поверху не маячили рогачи, будто начисто сожранные открывшейся мне пустотой.
И тогда, абы жаба сам, абы ее поднабравшись опыта, я скользнул глубже в теплую жижицу, щупая ногой коренья, – выживать рассвет.
Хмурое утро и тучи свиты в некий темный глаз – судачат, так герцог Равах на вражьев ворожит, и в свинцовом жбане колдовство свое разводит! И то верно – тучи тодысь и сложатся в зенные бельма, то-то выкружаются пузырями! Брр! А что он зырит-то во жбане своем – потеха! – вожжевые еле правят обоз, а пешкодралы как я или Щерба чапают вяло, месят черную обочину в глухую грязь и толчевают закосившиеся в колее телеги. Только слышатся рваные оклики вожатых да хлысты по драным хребтам, и солдатья божба и храп лошаков в ответку…
Да – как и не было ничё: утром дневельщик (сквернавец, что давеча ще с дружками метал в меня нечистотами) кинул мне чуть не в голову лестницу, бормоча что-то про сраное комендантово отродье и тесак-бы-в-спину, и едва я выбрал чистые манатки (опосля хладного ручьевания! ну а манатки как чистые – тоже чьи-то гнились на складу, даже и вошные, но благостнее новых!) – вот уже зудел рожок на зорьку, трижды-вяло крикнули Раваху благодать, и всю кодлу нашную устроили и погнали укрощать неких болотников, возмущенных добрым герцогом. И вот – чапали… кудать, когдать, все безвестно было, кроме прерывистой мороси, да водицы в рваных сапожцах, да рыжей соломы, востоптанной по обочине в черную грязь.
Я, по правде сказать, не думал много, пусто было и гадковато. Но как-то плыл мыслями поверх черной дороги, сам что ли как темное облако – а потешно! – все примечая: и неприбранное с луга худое сенцо, зазря запорченное, и скверные глаза крестьян в деревухе, через какую проперлись, растерев еще зеленевший щавелью выпас в черную негожицу, и помятых бесспросу девок, и расколотые двери погребцов, где передовые сыскивали явства. И гниль и холод, растекающиеся из тех погребцов, говорили мне яснее ясного, что отряд наший приворожен к царству мертвых, приговорен статься сладким мясцом для болотников, за все наши над Голохом насмешки, и никто этим черным путем не пройдет назад.
Ай ли, гой-еси!
– Эх, навались! – гаркал я Щербе, толкая очередное ушатанное колесо. И вытягивался во фрунт со всеми, когда Серж протопывал мимо, разбрызживая грязь увесистыми сапожищами, и смотрел косо в моросливое небо… и опять громко вчитывал Щербе: – Эх, навались же, сучец! Давай подтяживай! Задцом шевели! – бичевался весело и едва не укашливался смехотцой, когда отребье воскруж скалилось дружно-зло, а Щерба сильнее дрожал узкой задницей. Ах, то не была мстивость, просто не было больше друга, а ще один потешный смерд копошился круже, просто я так переможивал мертвое время, просто надоть было развлечие для сего отборного смрада с их подлыми тесаками, абы никто не проведал настоящих моих раскладов. А так – ежели и чуял, то жалость только к позавчерашнему себе, который был экий сосунок, что стыдно, но счастный сосунок! И знамо было, что – через простужный холод в грудине, когда на вздохе, – щас можно было только щупать грязь замерзшим носком, вылезшим из сапога, и гоношить Щербу, и ожидать Глахова подарка в жизни, которую нельзя изменить…
Но ближе к вечерцу… Отряд наш оголодалый почти уже встал неряшливым лагерем, но подоспела герцогская ратница и выгнала нас с насиженного пригорка. Что же, почапали дальше, и то ли по раскладу, то ли по потехе напоролись за буковой рощей на неразодранную ще деревню – и гнилой нашный строй с гиканьем разломился на ватагу сволочей: кто погнался за квохотной наседкой в кривой дровяник, давя кладку в желтки и попутно голошась, кто за вживким бабьем по хатам, отбивая мозги мужичью. Сам-то я, было заставленный мстивым воззжевым сторожить телегу, плюнул только гаду вслед и тут же натырился по околице, уходившей кривою тропкой за косой плетень, будто бы в сосновик, не особливо глухотный. Но попал на затейную девчонку. Верней-то, услыхал впервах ее (али ея, так ли грамоточнее?)… услыхал смертные визги за хилой избушкой, и потом сбежала как-то и подрала прям в меня, и застоилась в трех шагах, дрожа безнадежно.
Не особливая, но как молвить? Худая и смердная, как все в этой стране, и с липкими космами вместо связных косиц, и с грязными коленцами, и со свежим, розовым ще бланшем на щеке, сильно бросавшимся в очи, аки пимпернель. Но то – земное. Но глаза… так ли живописала мне кормилица глаза Глаховых страждиц? Тех, что живны живмя среди люда простого, а он ихними глазицами глядит, ежели хочет, на наше бедственное бытие. Глаза большие, и обыкно голубые, но темно-фиалковые, коли Глах вникает через них в наши грехи. И каждый гадский неглах, каждый нетопырь щекастый норовит красоту их отнять и выесть, а она и не их, и страждутся те девы всю короткую жизнь…
Сзади ней уже несся по воздуху сыто-пьяный гогот и кабаневый, гонный пот будто предшествовал появлению ейных угнетателей. И девчонка, так зацепившись за корневые витки, бухнулась в бурую мокрую траву на колени передо мной, не царапаясь и не просясь, а толь поклонила голову и откомнула вбок темные космы, обнажив худую шею над острыми позвонками, уходящими в грязную робу, и пискнула что-то на свойной мове. Просила рубить? Еще пискнула – что-то там заради Метары. Може, она Метарова страждица и была?
Но я уже шагнул ширче мимо нее, вытягивая со свистом ноженец, ибо увидел с превеликой хвалою сердца, что два вепря, охочие до ней, выказались Сержем и младшим покрыльником, вечным прохвостом тойной сволости. И описал я клинком яркое полукружие, будто оторачивая смертную делянку, заворожив их отяжеленные толь-толь испитым бражием взоры, полные недоверия моему мятежу… и ложно махнул на покрыльника, и тот отскочил запинчиво, а я легко упал-перекатился, да под опешившего, грузного от сидра Сержа, и соднизу ткнул ему бодцом под доспех и выпрыжнул… а-а! – покрыльник уже напал-таки и тоже проколол вроде бы бок (чудно, и не больцевато!), но было некодь отшагивать – где-то огромная толпа взревела за хатами, – и я прямо пошел боком на меч покрыльника, не давая вытащить и чуя его ржавый желчный хлад, и думая: может се и езмь последний вздох? Но что же ты должен делать, если уходишь – только быть как воин! Как отец погиб – с молитвой и воем! И так я навалился боком на покрыльника, зарябившегося вдруг густым потом и вцепившегося бесцельно в меч, и ноженцом просто как петуху, за которым тот курахтался от обоза, как горластому петуху перерезал ему глотку, и отшагнул от падали, чуя, как рвется бок… в фонтане и егожной гажей крови и, от пояса родничащей, своей родной, тойже гневно-бурой… шаганул к чуй-стающему на колена Сержу, и выдал-та по харе, спеша, пока была сила в кривом каблуке, и споро-споро, ведомый кровопенным туманом в голове – ахах-ха! ааа! – срезал с черта защиту, воскрыл мерзкие волосатые ляхи во гнойных-то прыщах! – и отполоснул – а, ору-то сладкого, ору!!! – в три рваных удара отполосил чертов палец и а-а-а! так суванул кровулину гаду в прямо в его ротозейную щель, сквозь пробитые-то зубья, чтобы не орал-то, и вбил еще последним ударом пяты ему в глотье и что-то кричал, причитая насмешно:
– А!!! Кахто тут петушок! Кахто сосунок! А!!!
И подошвой, тертой уж до ступни, вбивал/втирал ему в гнилое разгубье всю собью вытекавшую из бока желчь, покаль не увидел толпу мужланов-болотников, мчащую за тремя расхрыстанными содатиками, покась не увидал, как первого токнули глупчика Щербу, аки вот каплуна, тонкой вилой, пока не прошлась толпа топотом по двумцам обозникам и не распластала их под лапотцами, и пока не киданулась и до меня черным роем (а я что? да ждал просто! от мужичья ли драпать?), пока не закричнула сзади девчонка на дичьей высокой мове, отгоняя глахоборов, и пока не проголохотала толпа мне за спину – на щемные крики, визжевые крики ещё резаного отродья за бугром, где самый обоз, пока не глянул прощальниво в темные глаза девчонки-Метары… покаль не сплюнул ненависть в сырую лебеду, и не поковылял, страждно зажимая бок, в сторону потерявшего солнце леса…
…
…так я и брел, и не помнил толком пути: где-то перетаскивался через водотечу и гробанулся – ах, да тело заплелось ногами! а очумился уже когда рваным боком да на обломанный стволец, и взвыл аки волк на красную Луну…
…где-то шагал на кочку, поросшую рыжим мхом, и с лишайной бородой на холодную сторону, и так походила на гнома-кузнеца из войскового стана, что загляделся изумленно – да тут-то он откуда? – и промахнулся сапогом, и снес кузнецу пол-хари разбитым каблуком и угодил еще в яму по колено, так что и лицом приложился с разгону в вялую лужицу с водомерками, то-то и воскрес!..
…и шумели вдруг в голове подробия схватки: опять я подкатывался под сс-сержа и щипал его, кк-квохчущего, аки кочета, и опять девчонка-Метара смотрела на меня молчаливыми фиалковыми глазищами, расцветшими на лугу…