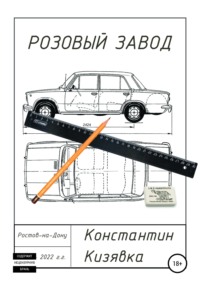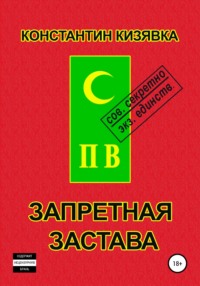Полная версия
1982
– Гера, тебе сколько лет?
– Двенадцать… А чо?
– Интересно просто. Значит, Максу девять.
– Мне восемь. Скоро девять. Двадцать третьего февраля.
– Ну да, – Гера улыбается, – он у нас праздничный.
Улица упирается в детский сад “Матрешка”. Конец Советской. Нам налево. Сумки тяжелеют с каждой секундой.
– Притормозите, братаны! – звякнув стеклянными банками, приземляю утомивший сумарь в рыхлый снег.
Гера с готовностью пристраивает поклажи рядышком. Макс паркует санки.
– Устали?
– Слегка! – Гера морщит щеки.
– Ни капельки! – бодрится Максим.
Солнце прячется за тонкой пеленой облаков. Сверху падают редкие снежинки. Улица пуста. Почти. Вдалеке, у желтого продмага, девочка тащит саночки с неразличимым с такого расстояния пассажиром.
– Пацаны, – говорю, – вы такие классные!
Смотрят с сочувствием.
– Чо, – интересуется Герман, – настроение хорошее?
Улыбаюсь:
– Скажите, братаны, вот мы обойдем эту пятиэтажку и что за ней?
– За Буйным домом? – уточняет Максим.
Вспоминаю, дом мы зовем Буйным. Не люди в нем нервные, а живут брат с сестрой по фамилии Буйные.
– Да, за ним.
Задумываются.
– Ну, там наш дом, – говорит Максим, – и мусорка. Точнее, сначала мусорка, а потом наш дом.
– А между Буйным домом и мусоркой что?
– Гаражи! – на этот раз говорят одновременно.
– Гаражи?! И никакой стройки?
– Какая стройка? Общагу сто лет назад построили.
– В смысле, Гастелло 4 “А”?
– А ты адрес помнишь? – в глазах Геры смешинка. – Я уж думал, память потерял.
Подхватываю сумки.
– Пошли быстрее, а то на кино опоздаем!
Проклятие четвертого подъезда
Ржавые, местами неуклюже подкрашенные гаражи, сделанные по большей части из железнодорожных контейнеров, стоят на месте. О скандальном сносе этих чудовищ, о котловане под фундамент будущего десятиэтажного дома, о долгострое с обманутыми дольщиками, а уж тем более о возобновлении строительства через десятки лет новым подрядчиком никто не подозревает. Гордо торжествует смелый советский гаражный самозастрой. И лишь похмельное сонное первоянварское утро защищает незыблемую, как сам СССР, территорию железных монстров от звонких, пронзительно честных тостов и аппетитного дыма праздничных шашлыков.
Мусорка. Родная. Неухоженная. С переполненными баками. Без всяких там бетонных помостов и металлических ограждений. Настоящая! Давно так не радовали отходы и всякая грязь. Хорошо, земля присыпана чистым снегом. Вспоминаю маршрут от дедушки до родного дома. Ведь ни сантиметра асфальта на пути, исключая, конечно, тротуар у Буйного дома. Был бы привычный на Новый год батайский дождь, с ног до головы перемазались бы стопроцентно.
Ох! Гайдара, пять! Двор, милый двор! Видел его вчера, но картинки из сна (сна ли) закрыли память перспективами следующего века. Идеально ровная широкая проезжая полоса перед подъездами, ровные бордюры, большие кобры-лампы, новенькие ступеньки и кованые перила, домофоны на металлических дверях…
Ничего этого нет. Вот где точно определяешь разницу между сном и реальностью. Убого смотрится именно реальность. Спасает снег. Красив, зараза, пушист и нежен. Все огрехи бытия на его фоне пусты и простительны.
Погружаюсь в приятную пучину благодушия, а из дверей родного, крайнего четвертого подъезда выскакивает парень в черной ушанке, теплом черном пальто и меховых черных сапогах. В руках санки без спинки. Уши шапки развеваются как флажки на морском крейсере.
Дима?! Ерылкин?!
– Здорова, пацаны! Гулять будете?
– Кино будем смотреть, – отвечает Герман. – Примухинские музыканты.
– Немухинские, – поправляю на автомате, – хочешь, пошли к нам, посмотрим вместе.
В глазах Макса испуг и восторг храбростью старшего брата, приглашающего домой кого угодно, без всякой консультации с родителями.
Димка растерян. Душа мечется между перспективами скатиться с горки за домом и посидеть с дружбанами перед телевизором, наслаждаясь интересным фильмом.
– Ну чо, – уточняет Гера, – идешь? А то скоро руки оторвутся.
– Нет, – решает Димка, – надо будет опять у матери отпрашиваться, а я и так её час уламывал на улицу отпустить. Не буду рисковать.
– Ну, смотри… – Гера входит в подъезд. – Если чо, приходи.
Полумрак. Приятно пахнет мандаринами, хвоей, жареной картошкой, мясом и солеными огурцами. После слепящего снега с трудом различаю ступеньки. На первом этаже посветлее. До чего обшарпанные двери! Если это деталь сна, то честная. В восьмидесятые нет у людей таких бытовых, шмоточных запросов как через тридцать лет. Запачканности, замызганности, потертости – норма. Другое радует. Другое огорчает. Вон, справа угловая дверь. Вовка Чупахин живет. Одноклассник Макса. Трое их. Вовка и две сестры, Лида и Таня. Квартиру получили за рождение тройни. Живут прямо под нами. Планировка комнат такая же. Те же четыре комнаты. И какие проблемы у Чупахиных? Дверь замусоленная? Я вас умоляю! Родителям тройню поднимать на ноги. Чтоб умными росли, веселыми, полноценными строителями коммунизма или чего тут еще. А вы – двери. Кстати, Вовка еще не знает, какие штрафные удары готовит семейная жизнь. А ведь готовит по полной программе. Вернется Вова из армии, женится. Родит жена двух девочек и скажет: “До свидания!” Отберет детей и к маме. Злые языки потом разъяснят, что замуж она для того только выходила, чтоб детей завести. Мол, с детства жила так. С мамой. Вдвоем. Привыкла, и по-другому не мыслила. Вовка так, промежуточное звено. Использовала и выбросила. Может, и врут злые люди, но Вовку сильно пришатает. И физически, и нервно. От молодого веселого пацана, что орет сейчас за дверью, останется бледная тень. О, женщины – вам имя… Что-то нехорошее сказал классик. В будущем обязательно бы загуглил, что и какой именно классик, но тут до ближайшей библиотеки десять минут ходу. Не факт, что открыта первого января.
Женщины… Димка, что на горку побежал, тоже в нашем стояке проживает, только на четвертом этаже, и его тоже кинет жена. Причем с такой особенной жесткостью, что уйдет Димон в многолетний зеленый штопор, а на окружающих дам будет смотреть не иначе как с презрительной злобой и недоверием. А пока улыбается прохожим. Наивен и светел.
Опять же я, представитель пятого этажа четырехкомнатного братства, если верить сну, двадцать два года пребуду в типа счастливом браке, а потом ветвистые оленьи рога и скрипочное соло стальным смычком по нервам длиною в полгода. Сначала год будут тайные измены. Потом уйдет. А через два месяца, которые покажутся годами, пригласит на берег озера под шумящие на ветру ивы, к шелестящему камышу, и станет плакать. Она, видите ли, осознала, что сделала мне больно. Она, понимаете ли, рыдает ночами, скучая и мечтая вернуться от злодея, барыжащего героином и коксом, ко мне, такому хорошему, благородному и родному. Забери! Эти месяцы без тебя, в дурмане гашиша и похоти – худшее время жизни! И слезы. Крупные. Искренние. Профессиональные.
Я ж рыцарь. Воин. Читай – дурак. Верю. Люблю без памяти. Ни на что не обижаюсь. Возвращайся, любовь моя! Все будет хорошо, только не плачь, сердечко мое!
А ровно через три месяца воскресшей семьи не вернется с работы. Просто нет. Причем, днем ласково так по телефону: “Любимый, вечером гости придут, купи, пожалуйста, бутылочку моего любимого вина”. Любимый, конечно, купит немецкое вино Liebfraumilch в голубой бутылке, сядет с друзьями и будет ждать свое сокровище. Но в восемь вечера нет и в девять вечера нет. Мало ли что случилось на работе, может, задержали. В десять вечера взволнуется не только муж, но и гости. На звонки не отвечает. Телефон отключен. Батарея села?
Явно случилось нехорошее. Может, в аварию попала на пути к любимому? Она же на машине. Столько дураков на дорогах.
– Миха, поехали!
И через ночь на север города к её работе. Закрыто. Никого. А у входа её фордик фиеста. Ну точно не авария. А тогда что? Пошла в гости к подруге?
Обзваниваю подруг, благо телефоны забиты в памяти. Тем временем подтягиваются еще две машины. Собралось человек десять. Поисковая группа. Хорошие у меня друзья.
Подруги на той стороне телефонной связи в недоумении. Не в курсе. Закрылась контора в восемь вечера. Друзья начинают обшаривать кусты вокруг здания. Мало ли. Маньяк напал, утащил. Но нет. Никаких следов.
Едем в ЦГБ. Врачи встречают с удивительным пониманием. Не было. Не поступала.
Объезжаем все батайские кафе. Нет. А времени уже час ночи. И тут звонок. Отчаянный женский голос:
– Я не должна была говорить, но вы же в панике! – это Оля, подруга жены по работе. – Вчера билеты распечатывала на самолет. Похоже, улетела.
Чуть легче. Жива. Хорошо. Поехали ко мне. Посидели, чаек-кофеек. Захожу в ВК. Послание:
«Дорогой, не переживай, все хорошо, я улетела на Филиппины с Сашкой. Спасибо за все».
Потом узнаю, что слезы и рассказы о любви – красивая театральная постановка, отрепетированная с барыгой Александром, чтоб подешевле перекантоваться пару месяцев, пока там обустроится. А теперь – обустроился и прислал билеты. Всё, завяли помидоры.
Друзья перечитывают послание, ругаются. Злые. Расходимся, хлопают по плечу, мол, держись, выпей водки, выбрось из головы.
И вот – одна тысяча девятьсот восемьдесят второй год от рождества Христова. Мы на третьем этаже. Кто живет в нашем углу? Андрюха Морозов? Ну, у него, по ходу, не будет потрясений семейных. Хотя, стоп! В будущем тут будет не он, а его племянник, Славик. Андрюха на север уедет. И… так-так… Ага! Славика ждет та еще история. Мать у него пьющая. Живет далеко и отдельно. Славик женится. И вроде бы всё будет складываться хорошо. Молодая, заботливая такая девочка. За ручки будут водить друг друга нежно и заботливо. А лет через пять идеальной семейной жизни у матери возникнут проблемы с жильем. Славику нужно будет приютить её на время. И тут любовь превратится в морковь, и девочка сбежит к другому, без проблемной матери.
Да… Вот такое светлое будущее, о котором не мечтали большевики. Проклятие четвертого подъезда. Мистическое и необратимое.
Аж мурашки по телу прошелестели. Холодные пальцы беспощадной судьбы. Бедные мои, хрупкие мои, дорогие мои мальчишки!
А Гера уже возится с ключами. Сильно тяжелеют сумки к пятому этажу. Дверь раскрывается со скрипом.
Заяц
Не спешу переступать порог родного жилища. На серой, посеченной временем металлической дверце электросчетчика четырьмя кусками синего пластилина по углам прилеплена картина. Фломастерами на чертежном листе бумаги нарисован веселый мультяшный заяц. Улыбается в тусклое пространство подъезда. Источник радости серого грызуна – оранжевая морковка перед ушастой головой на елочной ветке. Внизу красивым почерком – “С новым годом!”
Вчера днем. Перед походом на Советскую. Марина, соседка, симпатичная зеленоглазая блондинка, попросила кнопки. Мама сказала, что кнопок нет, но есть скрепки. “Скрепки не подойдут, – возразила Марина, – я ведь картину буду вешать. А пластилина у вас нет?” Пластилина?! Да у нас его! Притащил ей темно-синий кусочище. Вместе повесили жизнеутверждающий плакат на счетчик. Марина протянула оставшийся ком расплывчатой синевы. Не взял, попросил сделать зайчика, как на картине. Разошлись. А через пять минут в дверь тихо постучали. Открыл. “Справа“, – шепнула Марина и скользнула в свою квартиру. Я почувствовал запах шоколада. Всегда казалось, изо рта должно пахнуть не слишком приятно. А тут – шоколад. Невероятное открытие. И чудо – с дверного откоса улыбается симпатичная мордочка зайца.
Мы любили друг друга. По-детски, наивно, не догадываясь об очевидной остальным взаимности, не требуя друг от друга внимания. Еще вчера. И несколько лет до вчера. Сколько? С того момента, наверное, когда шестилетним прыгал с ней, пятилетней, по синему дивану в зале. Восемь лет. Ого! Умею быть преданным одной девочке! Умел. Одна ночь изменила то, с чем не справились восемь лет жизни. Правда, ночь продолжалась тридцать лет. Уже не люблю. Нежность, радость, удивление – да, но любовь… Есть те, кого любил сильнее, отчаяннее. Если они и выдуманы мозгом в новогоднюю ночь, то так ярко, так трудно и тяжело, что болят сильнее реального, невоображаемого. Что еще вчера казалось счастьем, сегодня тянет на грустную усмешку. Прислушиваюсь к отголоскам сна и смутное, тоскливое предчувствие сдавливает грудь. В новогодние праздники произошло… хотя правильнее сказать, произойдет неприятный случай, убивший нашу хрупкую, детскую тайну.
Немухинские музыканты
Милый дом. Кислый воздух. Тут живут школьники. Носки не снимаются неделями, ванну принимают с такой же регулярностью. Идеал иезуита. Несвежесть не тошнотворная, как бывает в особо неаккуратных квартирах. Опять же «свое», по гипотезе учителей начальных классов, плохо не пахнет. Но проветрить не помешает.
– Опять лыбишься? – Гера смотрит на застывшего посреди коридора в странной медитации старшего брата. – А кино уже началось!
Из зала вкрадчивый старческий голос:
– Вы пробовали заглядывать в будущее?
Замираю. Вопрос в точку. В десятку!
Слышится женское хмыкание, старичок продолжает:
– Пробовали? А я пытаюсь, – говорит как в старом кино, в слове “пытаюсь” нет мягкого знака.
– Всего доброго! – смущенно отзывается женщина, цокают удаляющиеся каблучки.
– Вы любите неожиданности? – старичок переключился на меня? – Я очень люблю. Они нас ждут.
Нереальность простого до этой секунды мира захлестывает. Врываюсь в зал, чтоб увидеть странного, знающего причину моего безумия мудреца. Но вижу включенный телевизор. На экране уходит вдаль по дороге, занесенной палыми листьями, женщина в бежевом пальто и белом берете. Пролетают мальчишки на велосипедах. Из-за поворота слева на экран выруливает желтый жигуль и, показав слегка примятый бок, скрывается справа за старинным, в стиле пятидесятых годов, домом.
– Фу, напугал! – Максим вскочил с дивана, смотрит большими глазами. – Хорош так делать!
Телевизор на коричневой тумбочке, между двумя дверными проёмами, напротив коридора, откуда я влетел. Слева – вход в комнату Геры. Справа в комнату родителей.
Вообще, отец не любит двери, ему кажется, что за ними мы с братьями будем творить что-то ужасное, вызывать Ктулху или рисовать на обоях… Поэтому у нас проемы с занавесками. Единственная в квартире дверь – в спальню родителей или, как мы называем, балконную комнату. Со стороны, где я замер, вдоль стены, два обтянутых зеленой холстиной мягких кресла. Между креслами – шахматный столик с большими деревянными фигурами. Дальше к окну синий диван, слегка раненый беспокойными детскими ногами восемь лет назад. Еще дальше – сосна. Позавчера наряжали. С удовольствием истинных ценителей старины вешали игрушки пятидесятых годов. В половину удовольствия – шарики и сосульки семидесятых. Самое хлопотное, гирлянду с огоньками, свалили на Макса. Макс, конечно, не справился, и через час бесполезных попыток ему помогали все, даже вернувшийся с работы отец. Младший уже сидит на диване. Гера усаживается в кресло.
Справа, если опять же стоять лицом к телевизору, а я так и стою, стена, облагороженная (как кажется родителям) большим персидским ковром. Диван поменьше. Зеленого цвета с большой коричневой лакированной тумбой для хранения спальных прибамбасов. Слева от дивана, впритык к стенке, за которой родительская спальня, книжный шкаф, набитый советскими (а какими же еще) книгами.
Сажусь в кресло. Фильм цепляет. Не сюжетом даже, не режиссерскими странностями: синий асфальт, красные ветви деревьев, радуга в ведре с водой, экзистенциальный дирижер в лодке, медленная тревожная музыка. Другое. Предсказуемость. Будущее здесь видят. Знают. Живут, не волнуясь, не мучаясь, спокойно и уверенно. Может, у Каверина тоже был большой Сон и фильм – контакт с такими, как я? Кстати, жив еще Каверин? Ах, Гугла нет. Ладно. Смотрим кино.
По мере раскручивания сюжета начинаю паниковать. Как этот сюрреалистичный винегрет нравился, доводил до восторженного умиления и казался прекрасным? За тридцать лет сна совершенно разучился погружаться в экзистенциальные бездны простого советского детского кино. Вся страна разучилась. В двадцать первом веке детские фильмы и мультики будут просты и прямолинейны как карандаш «Кохинор». А тут…
Она – учительница в немухинской музыкальной школе. Слышит музыку, несуществующую для других персонажей (за редким исключением). Дирижирует оркестром из игрушечного пуделя, черного фрака, попугайчиков, огнетушителя и облачка дыма. Директор школы, бюрократ, сухарь и совершенно неромантичная личность, возмущается, что на уроках главной героини дети не играют на инструментах, а, страшно сказать, рисуют музыку.
Вспомнились пациенты неврологии с поврежденными слуховыми и зрительными зонами коры мозга, видящие музыку в красках.
Негодующий директор решает подставить молодую учительницу и поручает ей подготовить новогодний концерт, где девушка покажет музыкальные таланты, а точнее, вывалит на публику полную профнепригодность: отличный повод для увольнения.
Учительница в панике, но два преданных ученика, мальчик и девочка, слышащие недоступную музыку, находят способ спасти любимого педагога. Влюбленный в фею музыки (а учительница, оказывается, фея) кузнец, когда-то выковавший голос волку из сказки про семерых козлят, соглашается выковать голоса всем членам странного оркестра. В итоге приехавшая из столицы серьезная делегация музыкального начальства не только не ругает бедную учительницу, но наоборот, бурно аплодирует и восторгается.
В конце фильма фея с кузнецом уезжают на санях в свадебную метель, а таинственный старичок и его друг трубочник провожают их удивительными словами:
– А ведь она могла увидеть другой сон, – выдает старичок.
– Грустный, – подхватывает трубочник, – а может быть, и страшный.
Такие добродушные милые дедушки, а у меня мороз по коже от услышанного.
Отвык от подобных зрелищ. После простых, как отверстие бублика, боевиков с Арнольдом Шварценеггером, после до тошноты однообразных кинокомиксов с супергероями. Такое!
Даже на поверхности смыслового океана – удивительный слой невидимой никому бесконечной ценности человека, раскрывающейся в поддержке и любви близких людей. Ого-го мысль для привычного мне кино двадцать первого века! И это только поверхность. Глубже нырять не хочется. Отвык. Смотрю на братьев.
– Хороший фильм, – итожит Гера.
– Классный, – соглашается Максим.
На экране продолжает музыкальную тему солидный духовой оркестр. И неожиданно приходит запоздавшее недоумение. Не было рекламы!
– Кость, тебе чего, такая музыка нравится? – в голосе Германа только забота.
Отрицательно машу головой. Еще чего. Не полный придурок в четырнадцать лет слушать такое.
– Так, – говорю, – задумался просто.
– Может, в карты? – предлагает Максим. – В “Армяна” или хоть в “Дурака”?
– А компа у нас нет? – спрашиваю.
– Чего?
– Компьютера.
– Офигеть, – смеется Гера, – ты еще роботов поищи!
На часах 13.10. Играть в карты не хочется. Хочется осмотреться, пройтись по комнатам, пощупать вещи. Хорошо, родители в гостях, а то уже почувствовали бы, что старший потек крышей.
Братья режутся в дурака. Выхожу в коридор и, не доходя до кухни, поворачиваю направо в нашу с Максом спальню.
Дневник
Две кровати. Слева – моя, справа – Максима. Посредине раскатанный через всю комнату узкий серый ковер с орнаментом из красных линий и квадратов. Прямо, у окна, письменный стол. Обычный, с тремя выдвижными ящиками справа и нишей под крышкой. Здесь делаю уроки. Подхожу ближе, замечаю за оконным стеклом на подоконнике ворона. Крупный, черный, загадочный, внимательно смотрит правым глазом. Замираю. Ворон громко вскрикивает и срывается в воздух.
Не верю в мистику и чудеса, но два ворона за день это какой-то магический перебор.
А если принять самую нелепую мысль? Не сплю я в 2020-м, наблюдая восемьдесят второй, и не увидел будущее в восемьдесят втором. Просто переместился из 2020-го в 1982-й. Прожил все, что помню, прошел через войны, развал Союза, капитализм и интернетизацию всей страны, почувствовал дыхание вселенской пандемии и вот, каким-то Богом или чертом заброшен в прошлое, чтобы изменить историю. Как в книжках о попаданцах, популярных в двадцать первом веке. Может, надо остановить китайский коронавирус или не дать развалиться Советскому Союзу? Вот неведомые силы и поместили мое взрослое сознание в детское тело. А следить послали дрон в форме ворона. Или вороны – и есть дроны Всевышнего? Красиво, хотя больше похоже на дремучую чушь.
Понял, что сижу на стуле, облокотившись на стол, и тереблю красную тетрадку. Раскрываю. Исписана вся. Нарисованы и вклеены картинки: древние артефакты, раскопы, ножи, лопаты. Детская трепетная страсть к археологии. Помню тетрадь уже с порезанной обложкой. Здесь целенькая. А вот еще трактат. Черная девяностошестилистовая тетрадь. Неужели? Раскрываю. Точно! Дневник. Нам отец в детстве покупал такие, чтобы во всех подробностях записывали, что происходит. А потом, когда бегали по улице, перечитывал, чтобы быть в курсе, что у детей на уме. Гера догадывался о подвохе и не сильно доверял бумаге. А я, наивная душа, даже не предполагал такой стороны дела и писал все подряд. Вот на первой странице трогательная надпись: “надеюсь, никто читать не будет”. До слез. Надо же быть таким инфантильным в четырнадцать лет. Помню тетрадь в будущем. Затасканная, истертая, наполовину растерявшая страницы, в каких-то насмерть приклеившихся кусках бумаги. А тут новенькая. Меньше года ведется дневничок, судя по первым записям. И записи веселые. Вот, 15-е марта 1981 года:
“Подошел папа.
– Ты чо не гуляешь? – спросил он.
– А, надоело.
– Ты дневник пишешь? А страницы пронумеровал?
– Нет.
– Ну, пронумеруй, каждый лист цифрой, должно быть 96.
Я пронумеровал, ровно 96”.
Рывками толкается из груди воздух. Припадок смеха. Ай да батя, ай да молодец! Тотальный контроль, это по-нашему. Девяносто шесть! Конечно! Чтоб не вырвал ничего. Ну какой я был ребенок! Почему был? И есть ребенок. Телом. Если верить в идею о переносе сознания… Только чтоб в такие идеи верить, мозг ребенка нужен, а у меня другой. И рад за что-то уцепиться, в терапевтическом смысле, чтоб психику защитить от перегруза, но верить в чушь – оскорбительно для сколь угодно мало развитого интеллекта.
Перенос сознания, придуманный недоразвитыми фантастами, означает перенос нейронных сетей или перестройку нейронных связей во всех частях головного и спинного мозга. С учетом возрастных изменений в структуре и массе мозга, такая байда приведет к страшным психическим расстройствам. Разорвет голову к псам. И это только часть проблемы. Вторая часть – необратимость времени. Что такое время? Шестьдесят секунд – минута. Шестьдесят минут – час. Двадцать четыре часа – сутки или оборот Земли вокруг оси. Просто привязали движение к более-менее цикличному вращению планеты и назвали временем. Создали понятие, абстрагировали от реальности и теперь решили, что время можно повернуть вспять. Начнут вращать Землю в обратную сторону и окажутся среди легионов Гая Юлия Цезаря, весело марширующих в сторону франков. Да уж, человеческий идиотизм не знает границ.
Третий момент. Если я из будущего, то такой факт сам по себе опровергает существование будущего. Могу что-то изменить, и будущего, откуда сюда попал, не будет. И меня не будет – того, который мог провалиться в прошлое. Грубейшее нарушение логики, а против логики не попрешь.
Такова теория. На практике единственное толковое объяснение происходящего – вещий сон. Пророческий. Включилась на невозможную мощь интуиция, и нейросистема впервые в жизни выдала что-то действительно интересное. Не будущее, а один из бесконечного числа вариантов развития цивилизации. Четко, достоверно, близко к действительности. И все. Реальная гипотеза. Связи в мозгу, под действием сильного нервного взрыва, перестроились, появился обладатель уникальной ложной памяти. У многих такая есть, но моя прям детальная и ясная. И где-то подобные мне «путешественники» имеются. Вспомнил, как Гера совершенно взросло рассуждал о младшем брате и медитировал на снег. Кто знает…
Катафоты
Звонок в коридоре. Я очнулся. Родители? Кто-то бросился открывать, похоже, Макс.
– Кто тут у нас? – голос мамы. – Максим! А где остальные?
– Гера в зале, Костя в спальне.
– Зови всех в зал, – голос отца недобрый. – Сейчас будем разбираться.
Интересно, что произошло? Выхожу в зал. Гера с Максом стоят посреди комнаты перепуганные. Отец из балконной комнаты с пылесосом. Будет возмущаться, что нет порядка, и заставит пылесосить во всех комнатах? Мама на кухне разбирает принесенные продукты.
– Куда дели катафоты? – голос отца отстраненно сумрачный.