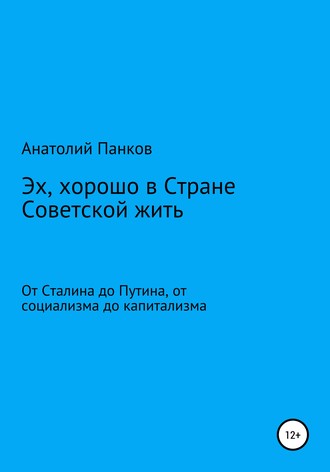 полная версия
полная версияЭх, хорошо в Стране Советской жить. От Сталина до Путина, от социализма до капитализма
Бабушка не заставляла меня носить крестик. И вообще никак не принуждала к религиозности. И, когда после первых же дней моей учёбы в школе я твёрдо заявил, что бога нет, она не стала спорить со мной, переубеждать. Время было такое – большевистско-безбожное. А идти против большевистской власти было опасно.
Не будучи сильно обременённой религиозными догмами, бабушка была по-деревенски суеверна. Религия и суеверие – это две стороны одной медали. Они проистекают из страха людей перед всесильной природой и перед слепым случаем. В самом деле, почему на всём огромном пространстве молния ударит именно в твой дом, в твою корову, в тебя самого, наконец? Почему именно твой урожай погиб, пала корова, потерялись овцы?.. Почему именно тебя ограбили разбойники, именно у тебя увели корову? Грешен перед богом? Боишься его суда – помолись. Веришь в суеверия – соблюдай устоявшиеся правила.
А правил было много. В общем-то, они общеизвестны, потому что практически все мы, россияне, вышли из деревни. При этом какие-то суеверия строже соблюдаются, какие-то – не очень. Зависит то семейных традиций.
Крошки со стола нельзя смахивать в ладонь – будешь побираться, милостыню просить, учила бабушка.
Отправляясь в путь, нельзя возвращаться. А если всё же вынужден вернуться – посмотрись в зеркало и скажи про себя плохие слова. Или плюнь три раза через левое плечо.
Не ешь перед зеркалом – красоту проглотишь.
На вопрос «Куда пошёл?» резко отрежут: «На кудыкину гору!» Это чтобы не сглазили.
Встретилась баба с пустым ведром или кошка пересекла тебе дорогу – удачи не будет. Того же ожидай, если надел рубаху, носки или портки наизнанку.
При этом, как и в религиозных делах, бабушка не была уж очень категоричной в суеверии. Это было вроде как дань традиции. Я так и воспринимал – как данность сельской жизни, как солнце днём и дождь летом.
Но один бабушкин суеверный поступок меня озадачил. В начале лета на песчаном берегу реки нашёл жёлудь, уже пустивший корень. Он непременно там засох бы, так как уровень воды в межень неизменно падал. Я пересадил его в наш сад. Но бабушка вдруг резко возразила: если посадим дуб – кто-то из близких умрёт. При всём моём уважении к мнению старших, тем более к бабушкиному, я не мог поверить в эту взаимосвязь: молодой дубок и смерть. Но пришлось от давшего росток жёлудя избавиться. Даже не посмел предложить его кому-либо из соседей. Хотя в Сергиевке, после уничтожения Чичеринской рощи, дуб был редкостью.
В моём нынешнем представлении дуб – это, напротив, олицетворение прочности жизни, дома, семьи. Занимаясь историей садово-парковых комплексов Подмосковья, я видел, что дуб, как и кедр, – непременный элемент усадьбы. Он живёт сотни лет. В Москве и Подмосковье есть экземпляры, которые росли ещё в эпоху Петра Первого. Их мог видеть Александр Пушкин, а они – его. Так почему же возле своего жилья не сажать этот символ прочности?
За что любят бабушек
Я любил бабушку. А за что – сам не знаю. Ни за что конкретно. За многое. За то, что она была такой: заботливой, но ненавязчивой; строгой, но доброй, неграмотной, но культурной в быту – никогда не употребляла крепких выражений, никогда не кричала; была чистоплотной – насколько это возможно в деревенской избе безо всяких удобств, с земляным полом, без бани, порой и без мыла, да при таком обширном хозяйстве; никогда не видел с растрёпанными волосами – всегда причёсана и всегда в платке… Я никогда не слышал от неё упрёка, как это бывает в семьях, за то, что сижу на её шее, что ей приходится слишком много внимания уделять малолетке.
Она, в отличие от многих нынешних бабушек, не пыталась меня подкупить какими-то подарками. Да и что она могла тогда подарить? Очень редко, в соответствии с сельскими традициями, готовила что-то праздничное. Не знаю, к какому, – пекла фигурки птиц и зверушек. И в одну из них вкладывала монетку. На счастье. Разумеется, «счастье» всегда доставалась мне. К тому же бабушке было опасно нечаянно куснуть монетку – лишилась бы одного из немногих оставшихся зубов.
О её трудолюбии и говорить излишне: без этого она не выходила бы свору малых ребят, не держала бы такое разностороннее хозяйство. Просто не выжила бы.
И что особенно было ценным у неё – это отсутствие каких-либо встречных требований и жалоб при потрясающей, захватившей всю её жизнь заботе о внуках и правнуках. Я ни разу не слышал от неё жалобы, даже намёка на усталость, на чрезмерную занятость. До последнего вздоха она возилась с детишками, не щадя себя и не ожидая благодарности.
Возможно, в этом и сказалось её воспитание, точнее влияние на меня, что не «воспитывала» криком и кнутом, что не унижала будущего мужчину мелочной ежеминутной опекой и понуканием, что, несмотря на свою занятость, заботилась обо мне, что трудилась с утра до ночи не жалуясь, и своим примером меня к этому приучала…
Так сложилось в её и моей жизни: я несколько лет и зим прожил с ней в Сергиевке. Сначала – втроём, а после отъезда её младшего сына Миши в Москву, и вовсе вдвоём.
Стар и млад поддерживали друг друга в военное и послевоенное лихолетье. Трудностей было много. То не хватало топлива, то – корма для скотины, то – пропитания для нас. Иногда, чтобы продержаться до урожая, переходили на «подножный корм» – лебеду, крапиву. Ели жмых… Хотя, конечно, наше деревенское житьё не сравнить было с городским: всё-таки огород и животные спасали от голодухи.
Были и сезонные сложности. Мы вместе выживали в зимнюю стужу, когда неистовые степные ветры пронзали стены и окна своими холодными струями, пытались сорвать нашу избу с насиженного места, засыпали нас снегом так, что порой еле открывали наружную дверь. Село становилось безлюдным, собаки, налаявшись ночью, замирали, на дороге – ни следа, ни санного, ни человечьего, ни звериного, и, казалось, наша изба на окраине – одна в этом белом безмолвии.
Мы настолько привыкли к пустоте сельского пространства, что однажды я чуть не попал… под колёса грузовика.
Зимой, когда лёд на Вяжле крепчал, я часто ходил в школу прямо по реке. Так короче. И в тот изумительный зимний день – с крепким морозом и очень ярким солнцем – я отправился на занятия по этому более короткому пути. Правда, накануне выпал густой снег, и валенки вязли в пушистом ковре. Но настроение было приподнятое: вокруг всё искрилось, сверкало.
Увлечённый борьбой со снежным месивом и слепящим солнцем, я не услышал накатившего на меня сзади грузовика. Да откуда он мог взяться в нашей глуши в такую пору?
В те годы даже летом автомобиль – редкость. Скорее самолёт можно было увидеть: до Кирсанова недалеко, там была лётная часть. И, кстати, первый в жизни реактивный самолёт я увидел именно в Сергиевке. А однажды небольшой самолёт сел прямо возле деревни, на лугу. Он прилетал за больным парнем. Тогда до нас было легче добраться по воздуху, чем по земле. Так что, когда в Сергиевку впервые заехал сверкающий «Москвич», мальчишки со всего села бегали за ним, стараясь рассмотреть, а то и пощупать. Трактора видели, а легковушку – нет. Но то явление произошло сухим летом, а тут – зимой! Грузовик!
Бабушка сказала потом, что, выйдя из избы, смотрела, как я плетусь по заснеженной реке. Видела, как неожиданно мне вдогонку из-за крутого поворота выскочила тёмная громадина. По пушистой гладкой дороге автомобиль двигался почти бесшумно, к тому же мои уши были плотно закрыты шапкой, завязанной под подбородком. Я действительно не слышал грузовика, я «услышал» бабушкин сигнал об опасности. Она не кричала. Да я бы и не услышал с такого расстояния. Это был её неслышимый зов отчаяния, была мольба к небу. Я до сих пор уверен, что этот беззвучный позыв дошёл до моего сознания и заставил меня оглянуться. Вот и не верь во флюиды…
Я тут же нырнул в сторону, в снег. Машина промчалась, даже не притормозив. То ли шофёр, ослеплённый встречным солнцем, не заметил единственное тёмное пятнышко в белом речном коридоре, то ли было уже поздно, а резкое торможение могло развернуть грузовик, и он бы точно меня задел. Что пережил водитель, конечно, не знаю, он так и не остановился. Машину-призрак я больше не видел, промчалась мимо нашего села куда-то дальше. У бабушки, полагаю, прибавилось седых волос. Я же отряхнулся, вытер лицо от растаявшего на нём снега и поплёлся в школу…
К зиме бабушка готовилась тщательно. Наглухо закрывала дверь в горницу. В оставшейся жилой части дома – на три четверти закладывала два и без того маленьких окошка досками, а между досок и стёклами насыпала мякину. Не менее трети площади занимала русская печь с лежанкой. Рядом – кочерга, ухваты… Пола в этой части не было. То есть он, конечно, был, но земляной. На этой утрамбованной за десятилетия жизни земле (возможно, это был специально подобранный грунт: чёрного цвета, как тамбовский чернозём, но плотный – возможно, добавили глину, песок, что-то ещё) стояли дощатый стол на восемь едоков, две лавки возле него, ещё одна лавка возле печки. На стене напротив печки висела примитивная полка для посуды. Керосиновая лампа на столе. В углу над столом – икона богоматери, бабушкиной тёзки. Лампадки. По углам под потолком – ладанки, вырезанные из бумаги крестики; так бабушка защищала дом от нечистой силы. Вот и весь интерьер.
Пространство небольшое, но для двоих-троих достаточно. К тому же чем меньше кубатура, тем легче поддерживать тепло. А это была очень серьёзная проблема для безлесного степного села – дефицит топлива. Угля у нас не было, дров – тоже. Использовали кизяки – коровий помёт, а в основном – солому. Надо было очень расчётливо её тратить, чтобы на весь сезон хватило – и дом отапливать, и еду готовить, и даже в корм скоту добавлять, на одном сене до лета не проживёшь.
Экономно надо было тратить и керосин. Об электричестве тогда и не мечтали. Правда, в начале 1950-х годов:
Вдоль деревни от избы и до избыЗашагали торопливые столбы,Загудели, заиграли провода, —Мы такого не видали никогда.Эти слова Михаила Исаковского, ставшие песней, вспомнились мне как нельзя кстати. Действительно, «мы такого не видали никогда».
Помню, восстановили разрушенную половодьем плотину. Народу собрали много. Наверно, и из соседних деревень привлекли мужиков. Кормили всех здесь же: варили, насколько я помню, кулеш. В огромном котле. И кипятили воду – на чай. Вбивали сваи с помощью бабы. Это – старинное копровое сооружение. Один конец каната привязывается к бабе (металлической болванке), а другой перехлёстывается через колесо и за него тянут мужички, поднимая бабу над сваей. «Эй, ухнем! Сама пойдёт…» Баба в свободном падении ударяла по свае, и та послушно поддавалась, помаленьку углубляясь в дно. Мы останавливались, наблюдали. Сваю заколотят – перекур. Нас кулешом угощали…
Для монтажа и наладки энергооборудования прибыл инженер. Его поселили в какой-то временно пустующей избе. Мы были рады, что появились городские дети, почти наши ровесники, – сын Рудик и дочь Светка. Культурные, чистенькие, по-городскому одетые (я этим никогда не отличался, я был свой, такой же «деревенский»). Наступили каникулы, делать было нечего, и мы крутились возле их избы. Однако инженеровы отпрыски нас не баловали своим вниманием. То ли отец дал такой наказ, боясь, что мы их вовлечём во что-то нехорошее, то ли сами детки видели, что мы им не ровня и относились к нам свысока…
Поставили столбы, в каждый дом протянули провода, и в избах загорелись «лампочки Ильича». Это так большевики, в пропагандистских целях, поименовали лампочку накаливания, изобретённую, как известно всем школьникам, русским инженером Александром Лодыгиным ещё тогда, когда Ильич только на дневном свете появился.
Возле мини-ГЭС повесили репродуктор, который было слышен даже в бабушкином дворе, на противоположном конце села. Особенно хорошо звук распространялся по руслу реки.
Радость была недолгой. Воды не хватало. Её забирали для орошения колхозных полей во время засухи. Жара на Тамбовщине была постоянной спутницей лета. Зимой тем более попуски не делали. Так что вся надежда оставалась на керосин.
Но и его не хватало. Да и дорог он был для безденежных сельских обитателей. Керогазом или керосинкой практически не пользовались. Но я уже начал учиться, домашние уроки делал, книжки читал – требовался свет. А зимой темнеет рано. К такой трате керосина бабушка относилась терпимо. Не корила, не говорила, что зря его сжигаю. Иногда зажигали лучины, но их приходилось часто менять, а сухих дров для хороших лучин не хватало.
Была проблема и со спичками. Фабричных спичек обычного, ныне традиционного размера, не хватало. В деревне это было дефицитом. Бабушка делала спички из лучин, обволакивая головки серой. Зажигались они с трудом. И коробок городских спичек всегда был желанным подарком. Когда мои родители присылали из столицы посылку, в ящичке вместе с сахаром, сушками, нитками и прочим дефицитом всегда лежал коробок спичек.
Зимой, хотя печь и протоплена, но на земляном полу холодновато. Забираюсь на печь, к бабушке под бочок. Прошу: «Бабушка, расскажи сказку». Начинает, сбивается: «Нет, я не умею, вот жаль, дедушка твой не дожил, он много сказок знал». Беру на печь книжку и лампу. Читаю вслух. Замечаю, бабушка закрыла глаза. «Бабушка, – толкаю её в бок, – да ты не спи, слушай…» «Да, я не сплю, я слушаю». Но через минуту раздаётся осторожный храп: она же, бедная, за день так намается с хозяйством – накорми и напои скотину, убери за ними, растопи печь, что-то свари в чугуне… А уже с первыми петухами, этот часа в четыре ночи, надо вставать, доить корову…
Ещё заботы о внуке: связать носки и варежки, или заштопать их – опять сорванец продырявил…
Овец держали не только для мяса, но и для шерсти. Хотя мороки с ней было много. Надо было избавить от репейника, череды и прочих вредных растений, в изобилии цепляющихся за овечек. Из очищенной шерсти бабушка выделяла небольшой комок – кудель. Привязывала её к вертикальной доске прялки, садилась на горизонтальную – донце, защипывала начало нити, наматывала её на веретено, и пошла работа. Одной рукой скручивает нить, другой – вращает веретено. Случится обрыв, бабушка соединяет концы и снова прядёт. А обрывалось часто…
Пыталась учить прясть меня. Но руки не слушались. Веретено «убегало», нить постоянно рвалась. Бабушка в принципе терпеливая, но было жалко терять время. И занимала меня более лёгким – распутывать нить. С веретена, по мере его заполнения, надо было пряжу снимать. Я растопыривал руки, бабушка сматывала на них нить, а уже с рук снимала на клубок.
Крупные вещи бабушка не вязала. Некогда было этим заниматься. Тратила время только на то, без чего не прожить: вязала носки, варежки… И для меня, и для своих детей, что разъехались по стране в поисках счастья.
А как помыть ребёнка в зимнее время? Это летом раздолье – купайся в речке хоть по десять раз в день. Зимой сельских детей практически не купали. Ну, может, один-два раза. Не знаю почему, но в нашем селе никто не имел отдельно стоящей бани, как это обычно водится в русских селениях. Из-за нехватки строительного леса? Дров?
На тихой Вяжле
После долгой зимы весне радовались, как большому подарку. Разве не подарок? Теплеет в доме, в школе, на улице, меньше тратится топлива и керосина, ближе огородный урожай. Бывало, сидишь на подсохшей завалинке, подставляешь лицо ласковым лучам весеннего солнца, и ни о чём не хочется думать, не хочется даже шевелиться – так истосковался за зиму в замкнутом пространстве тесной избы по естественному теплу и свету.
Однако весна приносила не только тепло, но и опасность.
Наша изба, крайняя в селе, стояла на крутой излучине реки, и когда тихая, ленивая летом Вяжля вдруг быстро вспучивалась от весенних вод, то заливала не только наш огород, но и всю долину. А лавина льдин прямёхонько устремлялась на нашу ветхую постройку, неистово била по её бревенчатым бокам. Какой-то весной напор был столь велик, что изба задрожала, готовая развалиться по брёвнышку. Мы проснулись среди ночи, и я увидел, что бабушка не на шутку испугалась, крестилась, призывая Бога и Пресвятую Деву Марию пережить эту напасть. Но, проверив наш дом на прочность, Вяжля успокоилась и устроила нам своими льдинами круговую осаду.
Ночью было страшно, а солнечным днём я шаловливо прыгал с одной икры (так на Тамбовщине называют льдины) на другую, путешествуя как по Северному Ледовитому океану. Ещё было интересно рассматривать льдины – они не такие уж однообразные, как кажутся издалека. Некоторые – как бы слеплены из вертикальных полупрозрачных прутьев, другие – из крупных кусков с замысловатым внутренним рисунком. Или в разных условиях они рождались, на разной глубине, или по соседству с разными подлёдными струями воды?
А ещё был соблазн пососать кусочек этого природного мороженого. Но бабушка запрещала: и опасность застудить горло, и во льду могла быть грязь, зараза, утверждала она.
Подобный весенний бунт смирной Вяжли бывал и раньше. Вот как описывает восьмого апреля 1889 года в своём дневнике схожую ситуацию Михаил Андреевич Заверячев, управляющий имением Боратынских Ильиновкой. Цитирую по той же книге Марины Климковой «История усадьбы Боратынских» (стр. 75):
«…В 4 ч. вечера я заметил, что вода стала значительно прибывать, поспешил на мельницу и глазам моим представилась следующая небывалая картина: сажен 100 выше места, что из Ильиновки, остановились 2 громадные льдины, загородили всю реку, и к ним стал собираться лед, он стоял сплошной массой вплоть до середины Сергиевки и так туго и плотно наставлен, что вода рекой не шла, а пошла улицей в Сергиевке… шедшим по мельничному двору льдом сбило… мост, сшибло со столбов маленький амбарчик, в котор[ом] было 10 чет[вертей] пшена и 100 п[удов] муки; лед громил и мукомольный амбар, но он хотя и ветх, но устоял. Плотину размыло не шибко…
…Сергиевские крестьяне приготовлялись к воде и убирали хлеб и пожитки на подмостья по примеру прошлых лет, но вода обманула их, она поднялась выше прежних и встала 1/2 аршина и затопила».
Своим разливом Вяжля приносила не только опасность, но и незапланированную радость. Однажды она в осеннее половодье затопила всю долину, все луга и огороды в низинке. И сразу ударил мороз. Образовался гигантский каток. Я ездил по нему на снегурках «под парусом»: распахивал пальто и сотни метров катил по ветру!
При всей моей дисциплинированности, я был ребёнком подвижным, шаловливым. И трудно сказать, кто за кем присматривал: то ли я за больной бабушкой, как поручала мне мама, то ли она за внуком-непоседой. А вариантов, когда я мог пострадать и тем принести боль бабушке, было немало.
Даже малая речка Вяжля таила опасность во все времена года.
Я дважды проваливался в речную ледяную воду. Оба эти неприятные события, косвенно связаны со школой.
Зимой, как и летом, нас в перемену выпускали на улицу. В беготне по заснеженному льду реки я не заметил прорубь и провалился одной ногой. Хорошо, что одной. Прорубь была широкой, воду из неё черпали бадьёй. Я, «тощий скелет», мог запросто проскользнуть полностью. А так повезло – только один валенок наполнился водой. Мальчишки помогли её вылить, но с мокрой ногой просидел ещё два урока…
Второй случай был опаснее, и чуть не закончился трагедией.
Поздней осенью (или, может, в начале зимы), когда речка Вяжля уже покрылась довольно толстым льдом, пошли такие дожди, что плотина не выдержала напора, её размыло, и вода упала до уровня летней межени. Русло превратилось в ледяное корыто. И так сохранялось всю зиму. По льду, что лежал на берегу, мы скатывались в сторону обмелевшей реки. Пока идёшь домой – накатаешься вволю. Однажды, в очередной раз скользя по склону, я провалился в ледяную щель – там, где лёд переломился над руслом. Щель замело снегом, и я не заметил её. Чудом успел зацепиться руками за край льда. И до пояса оказался в воде. С большим трудом выкарабкался.
Пока плёлся домой, пальто превратилось в ледяной панцирь. Когда вошёл в избу, бабушка обомлела, с трудом сняла пальто и этим ещё не оттаявшим панцирем жестоко огрела меня. Так она выпустила пар своего гнева и испуга.
И хорошо, что она не видела, как я чуть не утонул летом.
Поскольку на Вяжле смыло плотину, летом речка превратилась в переплюйку. На перекатах – по щиколотку. Но там, на быстрине хорошо ловилась плотва. Крючок у меня был своеобразный – просто загнутая струна гитары (или балалайки). Фабричные крючки в сельской местности тогда были редкостью. А с такого рыба срывается мгновенно, если не успеешь подсечь. К тому же из-за быстрого течения и постоянной ряби трудно по поплавку уследить, когда плотва заглатывает наживку. Тем не менее, рыба ловилась отменно, я увлёкся и неосмотрительно приблизился к краю переката. За ним – омут. Вроде бы до тёмной воды ещё немалое расстояние, но здесь песок оказался не таким плотным, осел и потянул меня за собой. Я оказался на большой глубине. Плавать ещё не умел, испугался, стал судорожно барахтаться, вразнобой двигая всеми конечностями. Погружался с головой, выныривал, чтобы глотнуть воздух, снова опускался в темень омута и… И научился плавать.
И хорошо, что научился. Иначе не знаю, чем бы закончилось следующее приключение, которое случилось через два-три месяца, уже осенью. Пошёл на речку с бидоном. Положил его на воду, отвлёкся, а пустой бидон, подгоняемый ветерком, уплыл. Потеря десятилитрового бидона – это большая потеря. Такой вместительный купить можно было только в далёком от нас городе. Что делать? Размышлял не долго. Хоть и было не выше десяти градусов тепла, но снял всю одежду и бросился в ледяную воду за удалявшейся посудиной… Ведь я уже за лето научился плавать…
Конечно, об этих случаях я бабушке не рассказывал. Опять-таки, не из-за боязни наказания – ну как она меня накажет, ведь не каждый раз ты возвращаешься в мёрзлом пальто? – а чтобы лишний раз не причинить ей боль.
Малолетний труженик
Отрабатывать колхозную повинность бабушке было уже не под силу, да и некогда. Когда вместе с нами ещё жил Миша, он с одиннадцати лет ходил за плугом. С его отъездом кроме меня некому было бабушке подсобить. Я хоть как-то выручал её. Колхоз требовал участия, грозился отрезать часть огорода. Я вместо неё ходил на бескрайные колхозные поля полоть. Трудодни не начисляли, но зато к бабушке особо не приставали.
Вроде, это и не трудная работа – выдёргивать сорняки, но поползай хотя бы полдня под палящим солнцем, в полусогнутом состоянии. А повитель, самый главный сорняк, выдёргивается плохо. Это он в палисаднике может доставить радость своими бело-розовыми цветочками, а в поле – злой враг. Норма была такой: набрал мешок повители – иди с ним домой. А надо было с ним тащиться до дома несколько километров. При суховее это было тяжело. Воздушное марево над степью с миражами – это красиво на картинке. А мне, при моём малом росте, дышать было нечем. Зато получал некое моральное удовлетворение: и трудовую повинность исполнил, и корм для коровки принёс.
Как-то привлекли меня к работе на колхозном току, управлять лошадью.
Конечно, в деревне меня с малолетства сажали на какую-нибудь смирную лошадёнку, но повода в руки не давали. И вот впервые доверили работу на лошади (работу!), когда был уже школьником.
На колхозный ток с полей свозили снопы, молотили. Или с помощью механической молотилки, которую в движение приводили длинными ремнями от дизельного двигателя. А если механизация выходила из строя, бабы брались за цепы, чтобы не терять драгоценное сухое время. Зерно веяли на ветерке, вверх подбрасывая деревянными лопатами. А солому скирдовали.
Пока стог был невысоким, солому подавали наверх вилами, но когда уже было не достать, впрягали лошадку. К ней цепляли длинный канат, перебрасывали его через стог, привязывали к свободному концу кучу соломы, и – нннооо, милая! – я стучал босыми ногами по потным бокам лошадёнки, и она лениво тянула канат с привязанной соломой. Когда пучок оказывался на макушке стога, я останавливал влажное скорее от духоты, чем от физических усилий животное, солому отвязывали, и – в очередной круг.
К полудню моя смиренная четвероногая работница вдруг (устала, что ли, или надоело без хорошего корма работать на колхоз?) заартачилась, взбрыкнула и… понеслась. И понесла меня. На мои крики «тпрру!» она не реагировала, сил как следует натянуть повод у меня не хватило, я сдался, предоставив хулиганке порезвиться. Ни седла, ни стремян не было, мои короткие ноженьки не могли крепко обхватить крутые бока лошадёнки, да и опыта езды не было – я не удержался и плюхнулся прямо под копыта. На току ахнули. Но проказница тут же остановилась надо мной, как вкопанная, и с высоты насмешливо посмотрела на меня: мол, и кто кем управляет?
От травмоопасной работы меня отстранили. Колхоз отказался от такого моего впечатляющего труда на благо общего благополучия.
Да, на общественное благо работал я эпизодически. Был слишком мал. Зато хватало работы дома. Несмотря на возраст.

