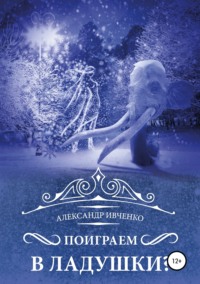полная версия
полная версияСнимать штаны и бегать
Дом улыбался и манил. Дом настораживал. Кирилл обогнул деревянного Лешего, который тянул ему из палисадника свою сучковатую лапу, и постучал в розово-желтые ворота.
Глава 3. Ночные видения Раздайбедина
Василия разбудил ночной крик серой птицы. Он разлепил глаза и в полутьме различил незнакомый цветок на обоях. Это обстоятельство кому-то может показаться малозначительным. Но попробуйте поставить себя на место участника событий, и вы поймете, что это довольно тревожная примета. Особенно если вы не понаслышке знаете, что такое семейный очаг, слово «режим» для вас – не пустой звук, и свой день вы привыкли начинать по знакомому до ярости звонку будильника. В этом случае видеть при пробуждении незнакомые цветы на обоях – к головной боли, опозданию на работу и серьезным осложнениям на семейном фронте.
Василий не был обременен узами брака. Кочевой образ жизни, к которому обязывала профессия разъездного политконсультанта, так же дал ему определенную закалку перед приметами подобного рода. Но к незнакомым цветам на обоях Василий интуитивно относился с опаской. Он осторожно пошевелился и понял, что лежит в одежде на каком-то скрипучем ложе. Василий напряг память, но она оказалась плохой помощницей. Она подсовывала яркие виды прогулки по округу Харитона Ильича, чуть более смазанную картину знакомства с дядей Пёдыром и совместного распития чего-то относительно-спиртного в подсобке клуба, пахнущей масляными красками, старым кумачом и плесенью. Потом – густой рябинник, лестница, вымощенная могильными плитами. И растрепанная галка (совсем уж расплывчато, будто в сумерках). Ее со своего пути он прогонял, размахивая рябиновой веткой и топая по могильным плитам ногами. И все. Дальше память предательски молчала, категорически отказываясь объяснять незнакомые цветы на обоях.
Василий осторожно повернулся на другой бок. Старые пружины злорадно заскрипели, демаскируя любое его передвижение. Испуганно замерев, Василий попытался провести рекогносцировку на местности.
Комната, где он находился, была очень маленькой, но могла показаться огромной – стены и потолок терялись в неярком свете свечей. Черный гигантский комод и еще какая-то резная мебель, наполовину задернутая темными чехлами, бросали размытые тени куда-то в бесконечность. Свечей, как успел сосчитать Василий, было шесть. Они размещались в зеленом от времени канделябре и горели бесшумно, не мигая и не подрагивая пламенем, будто не горели вовсе, а застыли на картине, нарисованной очень мрачным художником. Так же молчали гигантские маятниковые часы у стены. Витые стрелки замерли, показывая без четверти полночь.
Вместе с тем, мрачная комната с ее полумраком и безмолвием, внушила Василию не ужас, а необъяснимое чувство умиротворения и даже некоторого уюта. Причиной этого неожиданного ощущения была девушка. Она неподвижно сидела в кресле-качалке, закутавшись в вязанную кружевную шаль с кистями. Ее тонкие пальцы держали какую-то переплетенную кожей книжицу. Глаза на бледном лице казались испуганными, но в то же самое время смотрели на Василия доверчиво, как будто знали – в мире не бывает зла. Девушка застенчиво улыбалась. Василий мучительно думал, с чего начать разговор.
– Здравствуйте! – наконец, произнес он, отказавшись от всяческих потуг на оригинальность.
– Здравствуйте Василий Алексеевич… – ответила девушка тихо. Как будто кто-то осторожно тронул пальцами струны гуслей. Звук ее голоса показался Василию знакомым. Но где и когда он слышал эти интонации, Василий припомнить не мог.
– Простите, я…
– Не извиняйтесь. Я понимаю.
– Да. Я тут немного эм-м-м… Словом, как я здесь очутился?
– Вы стучали, и я вас впустила.
– Я стучал? – смутился Василий.
– Да. Неоднократно. И, кажется, ногами.
– Простите! – искренне воскликнул Василий.
– Полноте! Чего уж? Я привыкшая. Наверху постоянно шумят, стучат и топают. – вздохнула девушка и с сожалением посмотрела на серый потолок. Василий проследил за ее взглядом, и вдруг почувствовал, будто по хребту кто-то повел холодными пальцами. Над собою в темноте он разглядел что-то мрачное, замшелое, до странного напоминающее могильные плиты, виденные им сегодня на пути к Беспуте. Ему вдруг начало казаться, что все происходящее он видит во сне. В голове появилась догадка, которая показалась Василию чудовищно нелепой. Но то же время, задавая свой вопрос, он уже знал, каким будет ответ:
– Елизавета Петровна? Шейнина?
– Вы запомнили? – девушка потупила глаза, и бледная улыбка тронула ее неяркие губы.
Мысли в голове Василия завертелись огненным колесом. Быстро сменяющейся чередой ярких вспышек промелькнуло: «Я?!», «В могиле?!», «С незнакомой девицей Шейниной?!», «А это прилично?», и взорвалось мощным фейерверком: «ДОПИЛСЯ, БЛИН ГОРЕЛЫЙ!!!» Пытаясь задавить зарождающуюся панику, Василий накинул на лицо развязную улыбочку и саркастически приподнял брови:
– Тесновато у вас тут!
Елизавета виновато опустила голову:
– Да уж… Хоромы нам не положены.
Василий хотел спросить, почему, но тут же осекся, решив, что вопрос прозвучит бестактно.
– И как вы тут? Ну, в смысле, не скучно?
– Скучно. Но я привычная. Со временем ко всему привыкаешь.
Елизавета снова грустно вздохнула. Василий попытался найти какое-нибудь логичное объяснение происходящему, но голова отказывалась работать. Он тихонько ущипнул себя за ухо. Ухо отозвалось вполне реалистичной болью.
– Но как же я? Ах, да, я уже спрашивал: я стучался, и вы меня впустили. Я не специально – ногами. Я не думал, что потревожу… А… Обратно? Я могу – обратно?
Елизавета вскинула на него взгляд и с затаенной надеждой проговорила:
– Обратно? Уже? Но… Может быть, сначала вы хотите получить то, зачем пришли?
Никаких предположений, зачем он пришел, Василий не имел. Возможные варианты вызвали все тот же неприятный холодок между лопаток. Тем не менее, Василий, как человек, к чьему воспитанию в свое время прикладывалось немало усилий, пробормотал:
– Да, я бы хотел…
Елизавета обрадовано посмотрела на Василия
– Итак, вы сказали: «Что-нибудь про Славин и 1812 год?» Что-нибудь, как вы изволили выразиться, «погероичнее»?
– Д-да…
– Это был страшный год для России. – Елизавета раскрыла книжицу, лежавшую на коленях. Ее голос зазвучал тихо и немного торжественно:
– 25 августа, император Наполеон, в большой массе штаба и генералов, сделал рекогносцировку, осмотрел положение российского стана. Неприятельских войск атакующих, как показывали потом пленные, было 170 тысяч, да в резерве в 30 верстах 20 тысяч. Российских же войск, как известно, было накануне сражения и грудью стало 100 тысяч.
Россияне начали приготовляться к падению за Отечество молитвою. Утро было проведено в церковной палатке, поставленной в центре армии, в слушании литургии и в знаменовании в чудовный образ Божией Матери Смоленской, привезенной армиею с собою из Смоленска. И почти до вечера входило к ней на поклонение все воинство.
Неприятель же с вечера почти и всю ночь провел в шумном веселии и кликах, увеличил огни и на левом их фланге выставил даже ярко пылающий маяк. Русской же стан ночь покрыла мертвою тишиною, даже огней подле их бивак видно не было.
– Простите, Елизавета! Откуда вы это знаете? – спросил Василий и тут же осекся. – А, ну в смысле, я понимаю…
– Вы ведь хотели свидетельства очевидцев? – почему-то смутилась в ответ Елизавета. – Я продолжу?
– Конечно…
– Пробуждение же в день 26 августа 1812 года пребудет надолго в памяти каждого российского воина, участвовавшего в сей кровопролитнейшей битве. С показанием на горизонте солнца, предвещавшего прекраснейший день, показались из лесу ужаснейшие колонны неприятельской кавалерии, чернеющиеся, подобно тучам, подходящим к нашему левому флангу. И неприятельских батарей, как молния за молниею, одна за другою с громом посыпались ядра градом на стан русской. Палатки, еще в некоторых местах стоявшие, как вихрем, ядрами оными были сняты, и кто в них покоился еще, тот заснул вечным сном. Вставай, Русс! – смерть подошедшая будит и враг бодрствует!
Василия гипнотизировал мелодичный голос, который скрадывал недостатки и витиеватости слога. Вслушиваясь в его мелодию, Василий увидел, как запестрили мундиры, услышал бряцание оружия. На ветру развернулись знамена и плюмажи кавалеристов. Пехотные полки ощетинились пиками и штыками. Артиллерия навела на неприятеля жерла пушек… Пороховой дым закрыл Бородинское поле.
– Пушечная канонада обоюдно начала усиливаться; батареи, выпустивши все заряды, сменялись свежими. – продолжала читать Елизавета – Наконец, и корпуса наши с правого фланга и центра в густых колоннах тихими шагами в безмолвии подвинулись к левому флангу, неприятельская пехота во множестве колонн подходит также. Становится оглушающим гром артиллерий и ружей, тучи облаков густого порохового дыму взносятся в воздух, и, казалось, солнце в сумраке.
В одиннадцать часов одно возвышенное место, где поставлена была одна значительная российская батарея, облеклось облаками густого порохового дыму, сверканием огней, блеском разного оружия. Слышны поминутные крики «Ура!» и «Виват император Наполеон!». Уже французская конница на батарее!
Поле брани уже покрылось множеством бездыханных трупов, лощины и кустарники – множеством стонущих, просящих одного – прекращения жизни – раненых. По рытвинам текла ручейками кровь человеческая, с обеих сторон еще падали мертвы герои. Гром артиллерии, действовавшей от начала и до конца до тысячи с обеих сторон орудий, визгом ядер, грохотом гранат, шумом картечи, свистом пуль возвещал желание неприятеля сбить с места россиян. Но оные мужественно противились, поражали, падали за Отечество и удивляли самих врагов.
Потеря с обеих сторон простиралась до 60 тысяч убитыми и ранеными. Так история судеб и царств человека вместила в себе битву под Бородином в число кровопролитнейших на земле. Тихо приняла земля в хладные свои недра в несколько часов десятки тысяч убитых людей. Но молния небесная, поражающая неприятеля, как ни слаба была, но уже заметна…»
Елизавета замолчала. Глаза ее, казалось, смотрели на Бородинское поле, по которому ручьями текла человеческая кровь. Василий первым стряхнул с себя оцепенение:
– Простите, Елизавета! Позвольте спросить. Что вы мне читаете? Это – ваше?
– Что вы! Это воспоминания одного подпоручика. Участника Бородинской битвы. Гавриила Петровича Мешетича. Вы интересовались, и я позволила себе сделать выборку.
– А он имеет отношение к Славину?
– Нет. В 1812 году он был подпоручиком 2-й батарейной роты 11-й артиллерийской бригады 11-й пехотной дивизии 4-го пехотного корпуса. И…
– Простите, Елизавета! Но нет ли у вас м-м-м… Знакомых из Славина? Тоже с воспоминаниями?
– Понимаете, в Славинской губернии тоже формировались полки народного ополчения, – горячо заговорила Елизавета. – В городе проходил сбор денежных пожертвований на экипировку этих полков, деньги принимались от представителей всех сословий. Много солдат и офицеров из Славина сражались в составе различных воинских частях русской армии. Все это было, пока об этом помнили. Но теперь…
Елизавета в задумчивости провела тонкими пальцами по переплету книжицы. Меж ее бровей обозначилась чуть заметная скорбная морщинка.
– Это сложно, но я попытаюсь вам объяснить. Когда-то в Славине было Торцовское кладбище, где на особой аллее хоронили героев той войны. Но кладбища уже нет. На его месте выкопали котлован, когда строили новый завод. А могильными плитами… – Елизавета тяжело вздохнула.
– Да, про плиты я знаю… – Василий тоже смутился. – Скажите, и даже вы не сможете помочь? Ведь у вас есть, как бы это сказать, знакомства? Связи?
– Увы… И дело здесь даже не в связях. Дело, скорее, в некоторых особенностях людской памяти. Если позволите, я объясню. Вот, к примеру, жил в те времена в Славине один человек. Генерал-майор Лев Бубнеев…
– Генерал? Это отлично! – воодушевился Василий.
– Как бы вам поточнее объяснить, – вздохнула Елизавета, – Лев Аристархович Бубнеев родился в 1771 году, но не в Славине. Имение Бубнеевых находилось где-то за городком Лыткарино в Подмосковье. Род был знатным, но обедневшим. Родителей мальчик лишился рано, и в 15 лет опекун определил его на военную службу. Был он сначала прапорщиком пехотного полка, потом – поручиком. Умом и смелостью не блистал. Не имея богатства и протекции, медленно продвигался по службе. В июле 1812 года в местечке Островно под Витебском он исчез. Долгое время считался погибшим. Но спустя пять лет он вернулся в Россию с рассказом о том, как при ночной вылазке его захватили в плен шассеры.
– Шассеры?
– От французского chasseur – егерь. Выяснить, по доброй воле или по принуждению Бубнеев оказался у противника, не представлялось возможным. Пришлось верить на слово. Так или иначе, его участие в войне – вопрос довольно условный. Если в чем по-настоящему и преуспел Лев Бубнеев, так это в искусстве пускать пыль в глаза. Его батальные рассказы пользовались чрезвычайным успехом у дам. В результате Бубнеев удачно женился на княгине Висловской, взял хорошее приданное, переехал в столицу, получил звание подполковника, вошел в Свет. К 1828-му году он уже был полковником, имел орден Святой Анны и, как говорят, наградное именное оружие, полученное из рук самого императора. Наверное, о некоторых секретах продвижения по службе и получения наград за «батальные заслуги» Льва Аристарховича могла бы поведать его жена, красавица Ольга Алексеевна. У нее же можно было бы расспросить о некоторых подробностях скандала и тайной дуэли Бубнеева с одним из членов царской семьи, после которой он был вынужден подать в отставку. Не то в память о его заслугах, не то о заслугах его жены, Бубнеев был уволен из армии в звании генерал-майора. Однако же из столицы он был удален в «почетную ссылку» – в Славинскую губернию. Здесь он приобрел имение недалеко от Буспутной Слободы. Вскоре от скуки пристрастился к вину и картам. В 1835 году Бубнеев умер, оставив свою семью в глубокой нищете.
Из-за слухов о наградном оружии, с которым он якобы был похоронен, могилу генерала многократно тревожили. Местные крестьяне мечтали найти его «золотую шаблюку». Можно было б предположить, что саблю, полученную из рук императора, если она вообще была, генерал проиграл в карты или заложил ростовщикам задолго до смерти. Естественно, в могиле ничего не находили. Но слухи о неудачах забывались гораздо быстрее, чем сплетня о «золотой шаблюке». А потому землю на Торцовском кладбище перепахивали вплоть до строительства завода. Не только на кладбище, но и в генеральской усадьбе, и вокруг деревеньки Бубнеевки.
Сегодня и усадьба, и Бубнеевка ушли на дно водохранилища. Где покоятся кости генерала Бубнеева, никто с точностью сказать не может.
– Даже вы?
– Даже я… Мы подошли к главному. К особенностям человеческой памяти. С нею все не так просто. Казалось бы, память дана людям, чтобы помнить. Но на самом деле она дана еще и затем, чтобы забывать. Что запомнить, а что забыть – решает сам человек. В этом и состоит искушение. Ведь, согласитесь, человеческая память очень часто бывает пристрастна. Иногда человек ревниво перебирает людские свершения и с гораздо большей охотой удерживает в памяти низкие и подлые поступки как возможное оправдание собственным подлостям и низостям, но не переносит подвигов, светлых и искренних жертв, объяснения которым не находит в себе.
Посудите сами: генерал Бубнеев остался в истории, благодаря скандальной красоте своей супруги и некоторым вольностям ее поведения. История сохранила этот пошлый светский анекдотец, утратив, правда, его подробности. Народная молва за двести лет не забыла даже генеральскую «золотую шаблюку». А что осталось в истории от десятков тысяч жизней, которые прервались в один день на Бородинском поле? Для подлинного подвига тысяч и тысяч простых ополченцев, солдат и офицеров места на страницах истории нашлось очень мало. Мы знаем имена десятков, в лучшем случае – сотен. Остальные ушли безымянными. Их имена с благодарностью хранились в памяти выживших в той битве.
Но человеческий век короток. Один за другим ушли те, кто видел Бородино своими глазами. Их имена постепенно стирались из людской памяти, как стирались они и с могильных плит. Вместе с ними стерлись люди. Поэтому я не могу вас познакомить с героями той войны. Их нет…
– А что есть?
– Наверное, вам виднее. Предположу, что с годами гром артиллерии и свинцовый дождь, рвущий плоть на куски, в людской памяти подменился бравурной барабанной дробью. Ополченец, вооруженный одной лишь дубиной-ошарашником или вилами, стал бравым усатым кавалергардом. Реки крови превратились в потоки шампанского, стоны раненых, моливших о смерти – в лихие гусарские баллады. Тиран, стоявший в двух шагах от порабощения всего мира, сегодня видится не более чем смешным коротышкой. Война, потрясшая и обескровившая всю Европу, перемолота памятью в развеселую прогулку хмельных гусар, которые прогнали французов едва ли не хворостиной, как стаю гусей.
Впрочем, вы и без меня все это знаете… Я, если так можно выразиться, несколько старомодна, и потому у меня-то несколько другой взгляд те события.
– Извините, Елизавета. Я, признаться, до сегодняшнего дня как-то по-другому представлял себе м-м-м… вопросы жизни и смерти… Но, учитывая обстоятельства и всю необычность положения, могу ли я спросить о… вас?
– Обо мне? – смутилась Елизавета.
– Да! Мой вопрос может показаться странным. Но как же вы? Вы говорите, что тех людей стерли. А что будет, когда вас… вас сотрут?
Елизавета посмотрела на Василия долгим взглядом, в котором он прочел не то удивление, не то разочарование, не то глубокую тоску.
– Этого я, к сожалению, знать пока не могу, – наконец, сказала Елизавета и через силу улыбнулась. – Но что верно, то верно. Я действительно вписана здесь «на птичьих правах». Но, надеюсь, меня очень быстро не сотрут?
– Да, конечно! – поспешил заверить Раздайбедин, но в голове снова завертелось огненное колесо: «На птичьих правах!? Что это значит? Это все из-за той дрянной галки? Ведь это она показала мне могильную плиту! Может, и я здесь из-за этой проклятой птицы?! А ведь она мне сразу не понравилась! Я с ума сойду – это просто в голове не укладывается!»
Последние слова Василий произнес вслух.
– Наверное, у вас очень болит голова? – с сочувствием произнесла Елизавета.
– Есть немного – признался Василий. И вдруг, поражаясь своему нахальству и развязности спросил:
– А у вас выпить найдется?
Елизавета смутилась в ответ.
– Есть. Настойка. Но она, знаете ли…
– Долго настаивалась? – выручил Василий.
Елизавета развела руками:
– Гости у меня тут нечасто. А сама я… Ну, вы понимаете.
– Позвольте полюбопытствовать – что за настойка?
– Рябиновая, – просто пояснила Елизавета. По спине Василия опять пробежал холодок, и огненное колесо снова завертелось: «Само собой! Не из ананасов же – вокруг лестницы росли одни рябины! Что за вопросы я задаю! Впрочем, какая разница? Любая жидкость – лишь вызов моей адекватности! Будь что будет!»
Тем временем Елизавета встала и проплыла мимо Василия к черной громадине комода, вынула оттуда старинный графин с большой хрустальной пробкой, и витиеватый фужер. Принимая его из рук Елизаветы, Василий случайно коснулся ее пальцев и вздрогнул. Пальцы были холодны, как лед.
– Вечная память! – неуверенно произнес Василий, поднимая бокал. Елизавета ответила ему взглядом, полным невысказанной грусти.
Рябиновая настойка огнем растеклась по желудку и приятно ударила куда-то под темя. Реальность снова поплыла и смазалась. Василий опять подумал, что ему снится какой-то странный сон. Но даже во сне он не мог упустить возможность взять столь необычное интервью.
– Скажите, Елизавета! Но как? Как вы – здесь? Такая молодая – здесь? Объясните!
– Не уверена, что поняла вопрос. Я здесь потому, что таким был мой выбор.
– Самоубийство? – удивился Василий.
– Да, все мои знакомые сказали именно так… Моя история вряд ли может служить кому-то примером. Но лично я могу гордиться тем, что в своей жизни сделала хотя бы один решительный шаг. Правда, назад отсюда пути для меня просто нет.
Василий вдруг испугался и пробормотал побелевшими губами:
– Как – нет пути назад? Но ведь я… Ведь я же не выбирал само… Самоубийство! Я не хочу! Я не уверен, что выбрал правильно. Я был… немного не в себе!
– Не знаю, правильно ли я поняла вас. Вы не довольны тем, что выбрали?
– Нет. То есть, да. В некоторой степени. – Василий почувствовал, что мысли путаются все сильнее и сильнее.
– И что бы вы выбрали, если б имели такую власть? Кем бы вы хотели быть?
– Я? – Василий покраснел и сказал застенчиво. – Пожалуй, Богом…
– Богом? – Елизавета тихо засмеялась.
– Вы поймите! Не для себя. Для людей. Я бы их… Я бы им… – горячо забормотал хмельным языком Василий. Мысли сплетались в бесформенный разноцветный клубок. Смех Елизаветы звучал переливом гусельных струн откуда-то издалека. Василий посмотрел через фужер на свечи в канделябре. Стекло заиграло шестью коричнево-бордовыми пятнами.
– Кровь… – успел подумать Василий, и все исчезло.
* * *Где-то далеко внизу плескалась теплая чернильная вода, отражая звезды городских огней. Над головой плескалось теплое небо в огоньках настоящих звезд. Новоиспеченный бог Василий, чувствуя себя невесомым и счастливым, попеременно укладывал голову то на одно, то на другое плечо и смотрел, как линия горизонта качается относительно его переносицы. По его божественному капризу небо и вода менялись местами. Постепенно Василий перестал отличать одно от другого. Растворившись в космическом эфире, он вылавливал из бесконечности простые и понятные мысли.
– Войны, взаимная ненависть, коллективное сумасшествие… Люди несчастливы. Создавая их, я дал им либо слишком мало, либо слишком много. Чересчур мало, чтоб осознать истинную причину своих несчастий. Или чересчур много – ведь они осознают, что несчастны, но ничего не могут с этим поделать.
На секунду Василий перестал быть богом и перевоплотился в смертного, чтобы ощутить, как внутри черепа перекатываются разноцветные шарики, которых по вине Создателя у него либо слишком мало, либо слишком много.
– Будут ли они счастливы, если я избавлю их от болезней и подарю им совершенное тело? К примеру, дам им… хобот? Они смогут чесать спину за обедом, когда одна рука занята вилкой, а другая ножом.
Василий снова перевоплотился – на этот раз в усовершенствованного человека. Он вдумчиво почесал хоботом между лопаток.
– Увы, нет. И с хоботом они не будут счастливы. Их несчастье в том, что они постоянно лгут. Намеренно или против своей воли искажают смыслы. Когда они не умеют верно выразить собственные чувства и мысли – они вредят, как правило, только себе. Если же умеют, но не хотят говорить то, что думают и чувствуют на самом деле – они становятся наполеонами. Семейного, производственного, государственного или даже мирового масштаба. Искусство намеренно искажать смыслы дает доступ к вреду тотальному.
Василий снова положил голову на плечо, отчего темная полоска горизонта встала вертикально, вытянувшись вдоль его переносицы. Слева плескалось небо, а справа – вода. Где-то между ними человечество замерло в ожидании своей судьбы.
– Человечество… Ты остаешься верным себе до конца. Ты не желаешь распознавать ложь наполеона или фюрера. Даже если обман заканчивается, ты еще долго по инерции лжешь само себе, что сверженный идол был единственным, кто говорил правду…
Бог Василий поднял свою руку и простер ее к городу, адресуя ему немой вопрос.
– Как я могу вылечить вас от лжи? Подарить вам возможность читать чужие мысли? Это будет слишком жестоко по отношению к вам. У вас не останется тайн. Увидев насквозь души тех, кого вы считаете своими кумирами, вы будете настолько разочарованы, что не захотите жить!
Неожиданно по темным пальцам Василия, простертым к городу, пробежал золотистый отблеск.
– Вот оно! – вдруг понял бог Василий. – Люди должны менять свой цвет в зависимости от настроения. Если человек зол – он фиолетовый. Если добр и готов поделиться позитивом – будет золотистым. Если влюблен – цвета рубина, если хочет просто затащить девушку в постель – цвета мартини со льдом. Согласие – зеленый, отказ – красный. Глупость и алчность, разочарование и ярость – все будет иметь свой оттенок. Выборы и коронация наполеонов потеряют смысл. По первому взгляду люди научатся понимать, кто перед ними. В чести будут не власть и золото, а лишь золотистый цвет кожи, который будет свидетельством твоей доброжелательности и полезности окружающим. Лжец же покроется разноцветными пятнами, и это будут несмываемые пятна позора…
Василий смотрел на свою растопыренную божественную длань, по которой бегали, переливаясь, синие и красные световые зайчики…