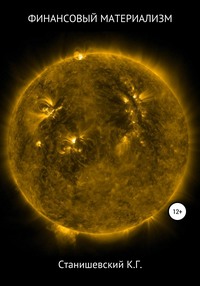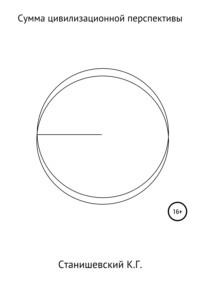полная версия
полная версияКвадролиум – Космическая роза
Людям конечно же далеко до абсолютного созидания бытия из чего-то сырого и однородного, как окружающий космос, но мы либо исходим из того, либо зародыши этого. Не имеет значения, где бог, впереди событий или позади в прошлом, развитие должно основываться на эффективности и идти к ней, поэтому за константу берутся и исходные праметры, и динамика их следования к форме результата.
История цивилизации прорывается сквозь жизнь нанесением себе фатальных и необратимых увечий, болью, растерзывая души уподобляющих её себе и тех, кто сдерживает её своей глупостью или прихотью.
Для детей, для невинности, жестокость – это забава. В естественных условиях, где нету социальных внушений или зачатков зрелой культуры в осознанном возрасте перебивающих естественный аппетит к жизни, жестокость проявляется по умолчанию, как в дикой среде. Но наигранная уравновешенность безплодна, безынициативна, травоядные имеют свойство внушать наивным социальные формы поведения искажающие естественную природу, привилегировать посредством эмоций одно и занижать приоритет другого, даже если это не меняет жестокость и разрушительность многих аспектов жизни, лишь поверхностные личины, но тем из века в век искореняя социальным синхронизмом гибкость мыслительного аппарата из всего рода людского, ведь ограничиться лицемерием могут только глупцы. Все манипуляции и формы поведения образуются через полученные эмоции (боль/удовольствие) по врождённым колеям метаболизма, в ходе чего формируется опыт и воспоминания, рефлексы и навыки, рост нервных ветвей, из которых самые основные являются исходно обусловленными, неизбежными в нормальной физической среде.
Диетический культ, звучит абсурдно, ахинеитически.
Диета может быть только оздоровительной или профилактической.
Что ожидают обездоленные? Что они воцаряют собой?
Ни небо, ни море, ни солнца пылающий огонь!
Чего здесь ещё нет? Всё готово!
Лишь не хватает истинной воли, её воплощений, в деяниях всеобъемлющих, непокорных,
Нужны не сторонники, а пророки,
Нужны не управленцы, а господствующие,
Не люди, а вершители,
Своей сущности хозяева, мира предстающего провидцы.
Через порог перешагнут не многие,
Но врата распахнутся,
Царство грядёт, его зарево на изумлённых лицах,
Никому не под силу оглянуться, никому не под силу взор отвернуть от грядущего,
Всё к нему стремится!
Но кто укажет путь?
По поверхности морской с волн переборов, утомленными отблесками сползают очертания строк, природы немой, но услышанных возгласов, увиденных намёков, вечерние росписи не знают, не помнят, без ведома собственного участвуют в разговоре, стрижи вместе с воронами подминают розовое небо зари криками безпокойства в преддверии тьмы ночи.
Вот и на зеркалах перламутровых моря в вечернем томлении, ярким огнивом отражается уходящий день,
Птица жаркая перья облачных крыльев распахнула замерев образом полёта на просторах небес,
Стынет облако за облаком растворяясь тёплыми оттенками во тьме,
Веет лёгкий вечерний холод,
В вышине ночи предстающей искрящее виднеется тепло,
Прорезается мерцанием звёздным, далеко, далеко,
Безполезно тянуться,
Не коснуться рукой,
Солнцу не раз взойти предрешено,
Иначе откуда сей мир?
Отчего и что подсказывает опыт?
Хронологическая цикличность даёт время всё обдумать,
Но немая природа надежд не даёт,
Слова не проронит,
Зато не врёт, и правда её бывает жестока,
Значит, ничего лишнего не возникло,
Значит, так быть должно,
Познавательные диалоги с естеством,
Безответные вопросы,
Между живым и не мёртвым,
Составляющим нечто одно,
Взаимосвязь единая,
Но именно в том разнородность,
Вариабельность безподобная порождена мельчайшим сдвигом,
Из некоего шороха нарушившего вечности покой.
Я это сказал на всякий случай, так всякий случай жизнью предстаёт, на перепутье дорог, с которых сойти невозможно, да и не нужно, да и не хочется.
Танец ублажающих речей,
Шёлк вьющихся волос,
Бархат таящих прикосновений,
Грация вытачивается страданием и болью,
Через сито ущерба и пустот душевных дыр просеяна,
Всё либо слишком просто, либо тяжелее некуда,
Золотой середины, похоже, мир давно лишён,
Сопутствуй вдохновение немереное,
Провоцируй на дерзновение строф,
Пусть текут соки муз одиноких,
Влагой ссыпающихся рос,
Словно с розы лепестков, ароматом ветру навеявших,
Словно с ладони кровь, куда макнулись шипы её,
На губах солоноватым привкусом,
Шероховатостью пальцев о нежность алой щеки,
Высохли и впитаны лишений мимолётных следы,
Мы похитили то, что возжелали и видели,
Восхитительный миг,
Стук рвущегося сердцебиения, за края вышедшего,
Извергнувшись из груди.
Луга тропами сглаживаясь предстали мельтешащим трепетом, касаясь лоскутом поверженным взгляда, и шепчет струнными струями ветер, ласковый привет от богини шлёт.
Скобля небесную даль травы ввысь вьются, стопы безчувственно приминают стремление скованной жизни,
Избавленные от тягот творческой мысли, суть свою исполнияют, высшей участи ждут, соучастия немыслимого, всевышнего чуда,
Их форма зыблема, но она всюду,
Количество – источник качественного отличия, масса порождает дифференцировку, но исток гораздо уже устья, он фактически ничто, всему сопутствует разгон, даже измотанное чувство из всплеска однажды родилось,
Значение имеет лишь вектор продуктивного нарастания, творческий рост по сути, остальное же не против в бездне утопнуть, без следа кануть, словно степь сгорая рассеивается в ветру.
Вновь пришёл я в людный край, где внимание не приковать, везде мелькают озадаченные лица, появляются и тут же вмиг сникают, в быту жизнь от неизбежности сокрыв.
– От кого вы прячетесь, горожане? Здесь никого нет, всё только ваши сетования на собственные обереги.
– Неисповедимы наши законы. – Раздался крик скрытый из толпы.
– Да, что же вы? Форма номоса людского проявляется нежеланием и покорностью.
Не любите вы убивать только потому, что не любите быть убитыми, страх быть убиенными в вас произрос, закрыв своей тенью испепеляющий грех неосознанности. Сие дарует спокойствие, но это и тернии, доступная лёгкая жертвенность для тех, чей аппетит неугомонен, чей каприз безутешен.
– Кто бы говорил? Молвишь словно приспешник из миров иных! Вон картофелины цветами покрылись.
– Где я был и где быть мог, даже не знаю и не видел,
Волочащейся усталостью ног наливаются в лужи мотивы,
В душе бездна, она везде и всюду, но вот и дно, и вершина,
Это то самое место, где сумрак прилёг безызвестный,
Балансировочный оптимум, инициатива не наступившей гармонии,
Болезненной иронией порождает исток,
Восход кинетикой плетённый срастается с взором,
Взаимность нерукотворная, она есть божество,
Движение за движением, порождение за порождением,
Лишь этим полнится сущность,
Иначе её нет, она разогналась в безконечном падении,
Но вдруг в полёте очнулась, волю узрев зримою участью.
В миг неожиданно рассеялась толпа, вокруг как было пусто, так и осталось,
Вот и настаёт ад, настигает всеобъемлющим послевкусием остаточности, здесь просто ничего не бывает, ничего, ни величия, ни малости, ни искусности, аморфная некомфортабельность.
– Они уходят, они бегут, они презрели мою дорогу, мой путь, всё потеряно и ничего не вернуть, в моём бреду не все утонут, но пожелал бы вам хоть глаз мокнуть, немного и тихонько, я никому не расскажу.
Огни далёкие ведь светят, великолепия им вдоволь, нужны покорения, иначе никакого сюжета, иначе нет от воя проку.
Свершение воздвигает меры и обрамляет суть, именно в свершениях рождены все жесты роковые, сего мира формы сумев изогнуть.
Я бы выжил, но не в этом мире, но не тут, мои лиры мою душу несут, посмертно и пожизненно, рождённый – уже безсмертен, но лишь пока не умер, ничего нового, всё как и прежде, красота и ужас, нет никакой спешки, даже свет никуда не торопится, другие темпы, иная хронология, мирские циклы губительно медлительны, хотя всё уже вплетено в этот круг, всевладычица безысходность, всевладычица несусветность тупиковыми петлями вершит и правит судьбы, всякую непокорность предстающую вновь и впервые, что выходками произвольными провозглашает толк.
Я видел, как голуби мира пестрят в полёте и срут на выщербленную поверхность были, видел их милость кивающих голов марширующих шествий, что годится лишь мякотью нежной в плове и в супе.
Подобно темы щекотливые порицательных россказней неотлучных, хлопают и исчезают, словно крылья в дали небесных высот.
Любой звук разглаживается исходящей волной, мимолётом прокатываясь по массе воздушной, так и мы гости вселенских пучин раскидываем кости и флюиды, словно верблюды немые растягивают слюни средь миражей по дюнам пустынным в надеждах влагу вкусить и ещё одно утро увидывать.
Омываются друг в друге чьи-то души и поют: Мы потеряны в чертогах тоски расставаний, раскиданы в ветвях вьющейся блудницы,
Испещрены в жажде покаяний, о стены разбиваясь воздвигнутой в себе темницы,
Луч струйкой тусклой пробивается сквозь залежи хранящейся наивности,
Хочется ускользнуть по его нити, просочиться из недр, потоком выплеснувшись,
Прилечь на ледники талые, сплавиться под давлением яркого светила,
Чтоб массы плотских формаций в журчащем ручье рассеялись,
Вон над горизонтом облако пара стремится к безкрайности вселенной.
В приглушённом шёпоте тьмы искрится небосвод, мерцающие пересечения сближают жизнь с забвением в упор,
Идолы скупые тихонечко шуршат и повергаются, в изгибах кривизны гнущейся материи воображают отпущение от собственных забот и тягот,
Расписаны сюжеты всех допустимых сцен, партитура вывернута дыханием наружу, колеблется сменой между гибелью и длящейся болью,
Звук об истощении исходит попусту, ненужно, к нему привыкли,
Ни восприимчивости, ни восхищения нет среди поникших волей,
Раздаётся лунный вой томящимся гудением, тяжесть глыбы зазывает за собой,
Пронзает серебром опавший с ночи пепел,
Дым всюду кроет следы строк!
– Где же источник, где же огонь?
Вырывается пламя швыряясь плетью дерзновений, истекает кровью плоть, вот и тепловой поток скопившихся телесных имений, пение струит израненной душой.
Вдруг, словно сладкий сон рассеявшись выводит взор к журчащему ручью неподалёку, дрём навеянный ни к месту в сумеречную пору.
Прохлада чуждого вечера, ускользающим теплом лучей, последние проблески мерещатся, погружается разум в сновидение, но что-то его придерживает, талые вещи, тленное тело, растворяется в танце упоения издали звучащий голос, накрывают сверху тени, размывают облик со стороны виднеющийся, вот и облако надвигается медленно, больше нечего оставлять, сюжет последний, ничто не воротится вспять. Вспомни ворона с крыльями надломанными, он не торопится, но пристально глядит по сторонам, резкий испуг, плоть вся вздрогнула, словно укус змея бодрящий, пригрелся на тёплой грудине, убаюкался в амплитуде дыхания волн спящих.
Но вселенский ад сильнее сна, сей обитель прорезает свои контуры сквозь любые подобия отразившиеся из мира сутью в отблесках глаз изумляющегося существа.
Аромат волос ускользает, что в памяти хранился,
Образ вьющихся локонов нежно касается лица, утихшим ветром пронизывает,
Источник порывов исчез, его нет, только нервные волокна сплетаясь цепляют небыль,
Растворяется голос мысли в тиши, словно нити шёлковых струн утопают в напевах,
Остаточность мерклая воем восходит с глубин,
На самом дне израненный некто, но его не видно,
Жажда не находит пристанища, воспаряет ввысь из бездонных недр,
Но что-то осталось, в зное прохладой стелется лаская уставшую плоть,
На глазах тает безконечность, словно сахарный кристалл, алмазами святил по ним рассыпана.
Кто она? По ней сей возглас возник!
Отдаю ей жизнь, покорён блеснувшей неожиданностью мига,
Под небосводом словно нет тревоги, лишь лозы вьюнковые прорастают испивая соки плотские,
С корнями сердце выдрано, распахнулся цветок, он коснулся безпредельного тягой безпрерывной,
Корень в почве томлённый удержать его не в силах, и никто не смог,
Дай мне ещё сил, безликий, восходит твоей любовью взросший плод,
Ощущаю шевеления тихие, накатывают приливами со всех сторон,
Просьба была услышана, если раздаётся волей в неведомость проникший голос,
Нет боли лишь в бездушных истоках, жизнь из оков своих вырвалась искрами полыхнувшими колоритом чувств,
Так солнце из себя выныривает, рассеивает пыл, нарушая вселенский покой творческой силой.
Ночь в аду.
Ускользающим веянием в шёпоте дней взгляд очарован образом ночи,
Незнакомой загадкой таится в покрове теней, блик тёмных волос, блеск глаз в одиночестве,
Миг утопает в ней, но я словно прохожий, иду и думаю о новшествах,
Цепляю шорохи аллей, вдыхаю аромат растений, ведь и им присуще бережное хранение, краёв, что переступают смело с гибелью верной в игре,
Так форму обретает всё живое, так мир изношенный обламывает хрупкие стороны о пророчества и становится круглым,
Я отвлечён от всей вселенной, в забвение выпущены все контуры непостигнутые,
Не знаю, сколько нам отпущено и есть ли в бытии, то место, где страстью вопиющей омываются пленённые друг другом,
Но знать и верить не хочу, сие достойно только чувства, словно дикий зверь попавший впервые в зыбучие пески, паническою участью проглатывает единым вдохом жизнь,
Никому не под силу и некому измерить власть отпущения, словно пропало всё, но ничего не потеряно, он не отпускает до последнего, предельно плоть исчерпывая, гонит в жилах огненный сок.
– Я слышу плетущиеся речи, молва, этого не может быть! Неужели в адских чертогах можно что-то запечатлеть или кого-то встретить?
В холодном дыме злачных мест клубятся диалоги,
Из тех, кто входят в адские круги, не все осмеливаются выйти,
Пёстрые слова цепляют подкожной грациозностью,
Умоляют плоти произвол этюдами несвершившихся событий.
Когда-то их здесь не было, в поисках намёков не сыскать,
Аутопсия, как никогда востребована,
Лишь так обнажаются причины, присущая матчасть.
В детстве за истиной заходят за заборы в покровы сокрытые искать её признаки,
Ими же ограждён этап пошагового выхода из плотских изгибов,
Некоторые не видят, словно не видно сна,
Так разгорается однажды свет предлога,
Тянется по бездне продолжительность,
Безпрерывное стремление к чистому пороку,
Совокупность несоизмеримая,
Колеблется воздух в преддверии строк,
Молчание никому не слышится,
Так не заподозришь проходящего мимо в причине,
Тишиной поглощённый уход,
Нет пунктуации в устах, они не раскидываются письмами,
Прерываются разговором, прерываются на путях,
Слышал где умолкает море, куда западает вздор шуршащего костра,
Гляди, вот мир покидает облако, в просторах тонет,
С него каплет хрусталь дождя,
Разность во времени исчисляется динамичностью и пространственными нестыковками,
Но мимолётом исхода, дарованным жизни накатом.
Черти сидят в карты играют, у них в мешках души раненные сочатся, рыдают, а бесы сим свои лица опрыскивают, умиляются в адском жареве. Доносится веселья преисподневского звон.
Пройду ка я мимо, им здесь хорошо, не стоит безпокойства их тонущая алчность.
Расставаясь навсегда с событиями теряются их следы,
И лишь незримыми нитями представшего вами существа,
Полотно красками не крытое норовит что-то сказать,
В поисках тонов и оттенков, о главном умалчивает тишина,
Никто не выронит сказа о том, чего найдено не было,
Говорят о потерях, об ущербе воет страх,
В этом то всё дело, мелкое приобретение порождает всеобъемлющий крах,
Окутывает планету единоличная беспечность скупая, на несоизмеримость вселенной не взглянув,
Эквивалентность всем затратам – вот истинный размах, божественность творца, жизнь поводящего за космическую грань,
Иначе всё подвержено лишению и непредрешённому претерпеванию, ведь и мельчайшие пробоины топят издавна суда,
Сила сдавливающая вакуум силе баланса корпускул равна в их обоюдной сопротивляемости.
Головокружительный треск грома и шелест дождя,
Ссыпается на жизнь бурлящую, с её глаз сползает,
Адское жерло, гончий дьявола истомлено кивает,
Тьма безпросветная, безнадёга и горе,
Прислужники мерзости никогда не будут порождающими,
Они не приходят, они не уходят,
Словно море, волны выбрасываются на берег,
Одна за другою.
И громозд кучных дней, и слов безудержный помёт,
Боготворческие сюжеты вымоленные жаждой плоти,
Кто расценивает это зрелище, коим восторгом?
Безконечность согласована вашим явлением,
Не согласоваться с идиотами, они безупречны,
Безутешность безрезультатного напряжения под чёрствой корой,
Это не душевное, а животное, скорей преисподневское,
Выдавливание всплесков эмоций из незаконченных полотен,
И я безутешен, но мыслью из волокон вечности сотканной.
Адский гончий пёс несётся, лает, воет, верещит, я к нему повёрнут, дабы успокоить поверженный дьявольским огнищем писк.
Голова довлеет на вселенную,
Бытие ворошит,
В сосудах загустелых,
По колеям пламенных рек,
Возносится вслед за святыней и грех,
Отдаю свободу ругани, а чертям дарю конец, пусть питаются поэтовыми муками, бздец свой унюхают пусть,
В эту жару ни у кого нет билетов, она разодета неповторимой безупречностью, вот её смыслы, вот её суть,
Не нужно поверженности, не нужно тонуть, только взвешивание размернно себя воссоздающее,
Зачем же, зачем?
Мой размах шире! Размах, какой не обогнуть! Я любуясь вершинами слоняюсь по самому дну.
Нюхай меня, чуй мою запашину, ласковая преданная псина, я с тобой, моя милая, я с тобой, верный друг.
И бредём отныне вместе, я и верный пёс, он обнюхивает окрестности дымящихся адских борозд.
Стыдное чувство нечто упущенного, чего-то преувеличенного пылом безумствующим, но самого стыда нет.
Где же он?
Пуще вопросы, пуще ответы,
Всего не изложишь устно, молва это вещь отдельная, но многомерная,
События, прелести, ужасы, глупости; глупости наверное,
Кто-то поверил мне, кто-то превозвышено обозвал, кто-то унизительно прельстил,
Мы творим образы, воссоздаем их в чувствах, в эмоциях, и это послевкусие тщательно отобранное истечением жизни, словно вино лучшее, только потому превосходно, что его тона текут по устам, сквозь предтечу всех истоков, пропитывая плоть соком из почвы взошедших лоз, пьянящим ароматом пленя,
Другого нет и не было, но ведь бывает и так, когда вино не приносит чувства победного, бывает жуткий кисляк,
Нужно лишь помнить и миг тем полнить, что не всякая мера учит достигать, это опыт, отчасти неприменимый и безнадёжный, отчасти блаженный, а может излишне скромный, но никто не подскажет и некому сказать покуда жизнь безконечности отдана.
Ваше поведение, вашим полнится существом,
Некоторые называют это душой, я именую это богом.
Я сегодня пьян! От нечисти и почестей,
В изрытых на сердце ямах витают очерки стихов,
Упиваюсь жаром, искуплён огнём лоз источенных,
Ядом проливается сквозь дрожь необратимый танец,
Растекается по жилам, растворяется и речь выносит:
"Взгляните ввысь! Откуда там увечья? Где взяться порокам?"
Жизнь пронизана веянием богоподобным,
А вечность молчит, издевается,
Такова её забота,
Исконно продлённая без предела.
Где мне найти вас, где вас найти мне, о, богиня?
В сумраке парализованных фраз я ищу истинный образ, неведомый лик,
Словно коррозия мир от себя опустошаю,
Не видел в храмах, не находил в преисподней, в тиши обнажённой режусь воем, взываю, лишь о любви, лишь о любви молва моя сложена.
Но нет в аду божественности, нет её здесь, нет, и это чувство подверженности распыляется в пламени изгибающем душевные меры возносясь к небесам уже распущенными молекулами.
Антракт:
И случаем жизнь предстаёт, и в жизни случается всё,
Каждый оборот небылой формы, каждой изогнутостью,
Вы видели себя, вы видели весь мир, вообразимые края непреступные,
Упорядоченный реактивностью бедлам, буйствующая восприимчивость,
Чем не безумство, названное организованностью или конструкцией?
Тягота к надменности блещущего сообразительностью зверя,
Что за мир без поэзии, что за пластиковый треск вместо звона?
Меня словно нет, этот социум для меня непригоден, но вот он я, в паутине будущих пьес разыгрываю случай посреди эпохальной непогоды,
Так и должно быть, так уместно, всё прошлое, всё прошлое, но каждый миг являясь новью.
– Когда с первых слов становится ясным, что речь не содержит сути, в таком случае вывод, не то чтобы сам напрашивается, он даже не возникает. – Вновь раздался голос, прекраснее какого нет, и мой ошеломлённый ворох возносится наверх.
– Вот и она, её я искал, и здесь её встретил, она услышала мою мольбу, моя богиня, всевышнее снисхождение, вселенской щедрости чудо.
Вы только взгляните на сей прикованный к вечности взгляд, ранимый подобно плева, проплывающий словно белоснежные облака, незыблемо, нетронуто и нежно, обволакивая смежность меж мирами, меж бездыханным и задыхающимся в муках блаженствующих.
Апофеоз прострации в предвкушении экстаза, помятость не принявшего форму мира, он скрипит и покрыт весь дрожью в перемешанной с потом пыли, томятся вина непролитые, лишь с шероховатостью бумажной вписываются пятнами пронизывающими, без слов развеянных стихов, ласковым изяществом размазанных извилин.
Такова была сценическая картина!
…
В поисках сюжета сквозь эпохальное окно.
Некто на театральной сцене в круглом свету прожектора на фоне бардовых занавесей в шляпе прикрывающей тенью лицо, в чёрном смокинге, в белых туфлях и перчатках, с тростью имеющей прозрачный круглый наконечник, начинает повествование вопрошая о том, каков сюжет и где его сыскать.
Каков сюжет настигнуть долей пепла? Каков сюжет витает на кону? Никто не видит и никому не счесть, но все терзают жизненную сущность, все обуреваемые ею, несметно, неотлучно, с затеей или без, всё длится от и до, но то неведомо. Поведать взяться нужно и каждый миг берусь.
Кто вы? Где вы? Каково? Соизвольте. Иначе жилось ли, если мерой неотлучной не обрамляется поступь? Если утрата не жизнь, то что же? Вероятно избавление, но и это длительность, доколе не отпущено и зреет, что отпускать не хочется, да и не зачем, коль не сдерживается и вьётся закономерным прочерком по пустоши.
Как же? Да вот, берёшь слова и складываешь смыслы, конструктор символический, но весьма вариативный.
Но где сюжет? Сюжета всё равно не видно, зависли помыслы изыскивающие обрамление жизни пестрящею строкой. Посвящаю сие солнцу, вон той поточности, что буйствует и жжёт, и душу, и плоть, и буйство, и покой, и муки, и истому, жалит словно нож, но необъятно, словно небыль.
– Что преисполнено этой эпохой, чем воплощается форма её?
– Перманентностью, необратимостью и похотью, попеременно с приверженностью за одно.
– Революция, это предел выраженный в событиях, но далеко не всегда преодолевающий себя,
Соитие бремени и произвола, что порождает структуру новых времён,
Ни желание движет эпохой, ни идея, а ситуативная выгода сопрягаясь с плоскостями инициатив разных социальных сред, ибо то не мало, не много, возможность возыметь, а ни суетность рассеивающая свою форму,
Но как не крути, за горизонт не выскочишь, куда и как ни шагни, хоть сквозь толщу хронологическую, все события обрамляют порог и даже форму переступающей его стопы,
И есть ещё мысль, она слагает каждый подход, каждую видимость.
– Всё равно не вижу, что есть сим и каковые эскизы пронизывают меры воспринятые,
Выгорел дотла нерв любви, не будет больше такового,
Сфера поэтических изощрений и только,
Хоть вой, труби, горлань в пустоты вечные, слетают лишь стихи,
Сколько хочешь, почти что безупречные,
Наука от заката до зари, и всласть, и впору выведать,
Покуда не мерещится, а там глядишь и заискрит,
Несметный сменщик отовсюду, сущностью кинетической,
Эпизодически сменяя сюжет за сюжетом, кадр за кадром,
Восход закатом, закат восходом,
Отводя кульминации место, даже если не требуется, коль не зреет когнитивное,
Даже если каждый раз поводит за потребностью,