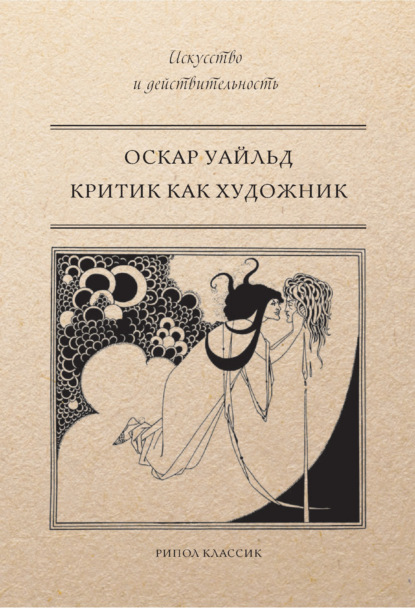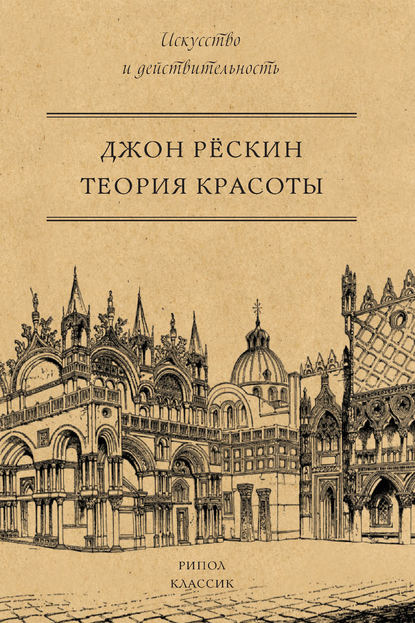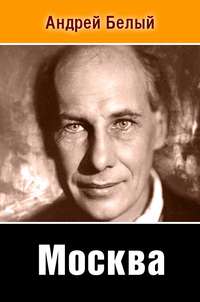Полная версия
Принцип формы в эстетике
Я любил золотисто-воздушные потоки светов и ласки белого золота. Весной мы переезжали на дачу, и я бегал по дорожкам сада отыскивать детей. Это были всё голубоглазые мальчики и девочки. Мы играли в детей Солнца. После дождя лужи сияли червонцами. Я предлагал собирать горстями золотую водицу и уносить домой. Но золото убегало, и когда приносили домой солнечность, она оказывалась мутной грязью, за которую нас бранили. Иногда мы прыгали по лужам, в синих матросках с красными якорями, хлопали в ладоши и пели хором: «Солнышко-ведрышко»[7].
Ослепительные брызги разлетались во все стороны, но когда возвращались домой, взрослые говорили, что мы покрыты грязью. Смутно понимали мы, что все это хитрей, чем кажется.
А золотисто-воздушные потоки летели сквозь хаос столетий и ткали вокруг нас полудень белого золота. Мы казались лучезарными, и седой дачник всегда провожал нас старческим бормотаньем: «Невинные ангелы…»
0 Солнце мечтали дети Солнца. Собирали, как пчелы, медовую желтизну лучей. Я не знаю, чего нам хотелось, но однажды я попросил у отца золотого вина[8], полагая, что это – напиток солнца.
Мне сказали, что детям рано вино пить. Однажды собрались дети Солнца к старой бузине. Это был наш воздушный корабль. Мы сидели на ветвях, уплывая к Солнцу. Я командовал отплытием. В груди моей подымалась музыка: раздавался шелест молниеносных струй. А дерево бушевало, и ветви склонялись. Склоняясь, качали детей света, несущихся к Солнцу. Потоки белого золота пробивали зелень, грели нас и качались на песке лучезарными яблочками.
4
Однажды вечером раздались звенящие звуки. Точно растягивали мед золотой и густой, как клей, чтоб делать из меда золотистые, лучезарные нити. Порой казалось, что это – плещущие струи жидкого солнца. Но это не было солнце: на балкончике соседней дачи сидел хромой студент в красной рубахе, потряхивал кудрями и водил по скрипке смычком[9].
И скрипело золото, растягиваясь в нити, и кто-то со смехом наматывал эти нити в золотые клубочки и бросался клубочками, как лучезарными зайчиками.
Долго я слушал хромого студента и говорил: «Звучит солнце… звучит золото… не все то золото, что блестит…»
Учился.
5
Дни мелькали. Я устраивал опыты. Шуршал золотыми, осенними листьями.
Раскрашивал картинки золотыми красками. Сыпал между пальцами сухой, желтый, шуршащий овес.
Однажды луна озаряла комнату. Я вскочил с постели и подбежал к зеркалу. Из зеркальной глубины ко мне бросился резвый мальчик и блистал глазенками. С ближней дачи неслись солнечные звуки. Наматывали лучезарные клубочки ниток. Должно быть, студент играл на скрипке.
Я поймал зеркалом лунный луч. Опрокинул зеркало на пол и мечтал, что стою над прудом. Золотая, блестящая поверхность блистала трепетом, и хотелось искупаться в глубине. Я прыгнул в зеркало. Раздался треск, и что-то укусило меня за ногу.
Прибежали на шум. Увидали меня у разбитого зеркала.
Тогда собрался семейный совет, и решили взять мне учителя. Дяди и тетки наперерыв толковали: «Впечатлительный мальчик ищет пищи своей любознательности. Рациональней удовлетворить любознательность солидной пищей, нежели кормить ее фантазиями». Один старый отец скорбно молчал. Поглядывал на меня. А широкая лента его пенсне непрерывно стекала с лица. Он понимал меня. Но он молчал.
С той поры ко мне стал хаживать хромой студент с длинными волосами. Тщетно я ждал, что он принесет с собой и скрипку. Он приносил мне лучезарных букашек да сушеные травы, говоря, что и это – продукты солнечной энергии.
Впоследствии я узнал, что он стал спиритом[10].
Проходили года.
6
Я кончал гимназию. Иногда ко мне заходил хромой учитель. Раздавался его резкий голос: «Бегут минуты. Мелькают образы. Все несется. Велик полет мысли. Память – чувствительная пластинка. Все она отпечатает. Летит возвратный образ. Вторично отпечатывается. Стираются частности. Остаются общие контуры. Образуются понятия…»
Он ударял пальцами в такт речи, учил меня музыке слов. У него осталась привычка приходить ко мне, развивать мои мысли, стирать частности, образовывать понятия.
Понятия сплетались. Разнообразны были их отношения. Ткань плелась. Звенья умозаключений, как паутинные хлопья, подавали знаки нам издали. Окрепшая мысль крыльями била. Бил руками по столу и ногой по полу мой восторженный учитель, и узенькая белокурая бородка тряслась восторженно.
Он кричал: «Мысль растет. Все уносит. Все несется на крыльях мысли. Но вот сама мысль загибается – загибается, как лента. Обращается на себя. Замыкается круг ее. Разбросанные звенья умозаключений сливаются в одно паутинно-туманное кольцо. Ветер вращает это белесоватое колесо тумана».
И мы образовали круги мысли и вращали это белесоватое колесо тумана – я и хромой учитель. И слова наши рассекали воздух, как бриллиантовые ракеты. Обсыпали друг друга дождем огненных слез пиротехники глубин.
7
Я исследовал спектры[11]. В колбах и ретортах у меня возникали миры. Неоднократно профессор астрономии тыкал меня под телескоп. Наконец я сдал экзамен и открыл курс: «О хвостах комет»…
8
Вся солнечность, на какую я был способен, все медовое золото детских дней, соединясь, пронзили холодный ужас жизни, когда я увидел Ее. И огненное сердце мое, как ракета, помчалось сквозь хаос небытия к Солнцу, на далекую родину. Стала огненная точка в темноте рисовать световые кольца спирали. Наконец она удалилась. Огнисто-спиральные кольца беззвучно растаяли.
Ее глаза – два лазурных пролета в небо – были окружены солнечностью кудрей и матовой светозарностью зорь, загоревшихся на ее ланитах. Пожарный пурпур горел на ее тонких губах, под которыми блистало жемчужное ожерелье.
Мы были две искры, оторванные от одной родины, – две искры потухшей ракеты. Взглянув друг другу в глаза, мы узнали родину.
9
Я писал ей: «Вспыхнула душа трепетным огоньком – светозарная точка. И свет мира засиял. И свет мира не был залит тьмою.
Понеслась сияющая точка к водопаду времени. Вонзилась в века. В черноте стала рисовать огненные кольца спирали. Можно было видеть огненную спираль, уносившуюся сквозь время.
Начало ее сверлило тьму.
И свет мира, засиявший во мраке, мирно понесся на далекую родину.
Ревели века. Нависал старый рок – черный ужас. Замирало сердце, трепеща. Пустота разверзалась во всех концах – ив веках, и в планетных системах. Хлестали слезы – эти вечные ливни. Налетали потопы. Заливали пламенный путь.
Отныне не могли задушить огневеющий восторг.
И все видели полет воспламененной души, оставлявшей позади огненные кольца спирали. Нужно было раз коснуться души. И пылала душа – светозарная точка. Уносилась сквозь время. Казалось – змея, огневеющая белизной, переползала мировую пустоту, оглушаемая роковым воплем столетий. То, что зажглось, неслось сквозь время. А время спешило в безвременье. И свет мира, засиявший во мраке, мирно понесся на далекую родину».
Так я писал. После этого письма я ее встретил, но она отвернулась. Это было зимой, на катке. Она скользила по прозрачному льду под руку с офицером, оставляя на льду то круги, то спирали. Казалось, они неслись сквозь время.
10
Я хотел ее удивить и показать ей вечное. Для этого на скошенном лугу перед дачей я велел тайно забить ракеты. Я хотел устроить неожиданный фейерверк – разорвать тысячи солнц над влажными, ночными лучами. Я знал, что она должна была присутствовать при этом, потому что муж ее – мой друг – не захочет лишать меня удовольствия, а она – его. Я хотел намекнуть ей этими ракетами о полетах и восторгах наших душ.
Мы весело пили золотое вино, полагая, что это – напиток солнца. Черная ночь нас покрыла туманным холодом. Суеверней и чаще дышали горячие груди. Она почему-то украдкой бросала на меня удивленные взоры, но я делал вид, что ничего не вижу.
Мы пили золотое вино и багряное. Я дал знак хромому медиуму[12], старому учителю, и он скрылся во мраке ночи. Что-то тревожноманящее, грустно-мягкое почило на ее застывшем лице. Я пригласил всех на террасу. Над нами висела черная ночная пасть.
Висела и дышала холодом.
У горизонта забила золотая струйка искр. У горизонта открылся искромет. Понеслись по ветру золотенькие искры, быстро гаснувшие. Еще. И еще.
И везде забили искрометы. С ближнего холма сорвался поток светозарных искр, наполняя окрестность ровно-золотым трепетом.
Озаренный золотистым, хромой медиум кричал так странно звучащие слова: «Еще не все погибло. Душа перестала лететь на далекую родину, но сама родина затосковала о потерянных – и вот летит им навстречу старинная родина». Над горизонтом промчались горящие жаворонки – точно красные кометы, и все услышали над головой трепетание крылий примчавшейся родины.
А хромой медиум, уже не озаренный погасшим водопадом, продолжал выкрикивать в темноте: «И вот, как ракета, взвилось огоньковое слово. У горизонта забила золотая струйка искр. У горизонта открылся искромет. Понеслись по ветру золотенькие искры, быстро гаснущие. Еще. И еще.
И везде забили искрометы».
А уже окрестность свистела и шипела. Огненные колеса жужжали, кое-где вспыхивали пурпурно-бенгальские, странные светочи.
Кто-то услышал тихую поступь – бархатно-мягкую поступь в тишине. Поступь кошки. Это ночной порой кралось счастье. Это было оно. Не понимали, что подымалось в сердцах, когда в небо били гаснущие искрометы – золотые фонтаны вдохновения. Не понимали, что вырвало из жаркой груди светомирные вздохи грусти.
Она стояла близко, близко. Что-то манящее, грустно-застывшее почило на ней, и, понимая меня, она смеялась в ласковой безмятежности.
Тогда я сказал гостям: «Вечность устроила факельное празднество. Значит, по лицу земли пробежали великаны. Только они могли выбросить пламя. Только они могли начать пожар. Только они могли затопить бездну дыханием огня»[13].
11
Все потухло. Мы молчали. Неслись минуты, и мы смотрели на созвездья – эти слезы огня. Безначальный заплакал когда-то: брызги вспыхнувших слез в необъятном горели над нами. Сквозь хаос пространств посылали снопы золотые друг другу. И аккорды созвездий в душе пробуждали забытую музыку плача.
Я услышал чуть слышные звуки рыданий и смеха. Точно роняли жемчуга.
Это она смеялась блаженно. Плакала горько. Тихо сказала, что ночь голубеет, а эмпирей[14] наполнен голубыми волнами.
Услышали звучание небес – прибой волн голубых. Сказали друг другу: «У нее истерика»…
Заискрились белые тучки пенно-пирным золотом. Горизонт янтарел.
Мы простились.
12
Я остался в голубом, ласковом безмолвии. Я молчал. Я добился своего. Мне оставалось только умереть от счастья.
1903
Священные цвета
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы»[15]. Свет отличается от цвета полнотою заключенных в него цветов. Цвет есть свет, в том или другом отношении ограниченный тьмою. Отсюда феноменальность цвета. Бог является нам: 1) как существо безусловное, 2) как существо бесконечное.
Безусловное над светом. Бесконечное может быть символизовано бесконечностью цветов, заключающихся в луче белого света. Вот почему «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». «Увидел я, – говорит пророк Даниил, – что поставлены были престолы и возсел Ветхий днями: одеяние на нем было как снег»[16]… Мы существа, созданные по образу и подобию Бога, в глубочайшем начале нашего бытия обращены к свету. Вот почему окончательная противоположность божественности открывается нам условно ограничением цвета до полного его отсутствия. Если белый цвет – символ воплощенной полноты бытия, черный – символ небытия, хаоса: «Посему они (нечестивые) поражены были слепотою… когда, будучи объяты густою тьмою, искали каждый выхода»… Черный цвет феноменально определяет зло как начало, нарушающее полноту бытия, придающее ему призрачность. Воплощение небытия в бытие, придающее последнему призрачность, символизует серый цвет. И поскольку серый цвет создается отношением черного к белому, постольку возможное для нас определение зла заключается в относительной серединности, двусмысленности. Определением черта, как юркого серого проходимца с насморком и с хвостом[17], как у датской собаки, Мережковский заложил прочный фундамент для теософии цветов, имеющей будущее. К сожалению, сам он, открыв дверь к дальнейшим выводам, даже не заглянул в нее.
Исходя из характера серого цвета, мы постигаем реальное действие зла. Это действие заключается в возведении к сущности отношения без относящихся. Такое отношение – нуль, машина, созданная из вихрей пыли и пепла, крутящаяся неизвестно зачем и почему. Логика этой серединности такова: положим, существует нечто безотносительное; тогда проявление безотносительного совершается особого рода измерением; назовем это измерение глубинным, а противоположное ему плоскостным. Когда для измерения предметов мы восстановляем три координатных оси, то от нас зависит одну из трех осей назвать измерением глубины, а оси, лежащие в плоскости перпендикулярной, суть плоскостные измерения ширины и длины. Можно обратно: измерение глубины назвать измерением ширины. От нас зависит выбор координатных осей. Если безотносительное глубоко сравнительно с относительным, то выбор глубины и плоскости с нашей стороны всегда относителен. Мы уподобляемся точке пересечения координатных осей. Мы – начало координат. Вот почему отсчет с нашей стороны по линиям глубины, ширины и длины произволен. Такая логика расплющивает всякую глубину. Все срывает и уносит… но никуда не уносит, совсем как кантовский ноумен, ограничивающий призрачную действительность, но и сам не-сущий. Мир является ненужной картиной, где все бегут с искаженными, позеленевшими лицами, занавешенные дымом фабричных труб, – бегут, в ненужном порыве вскакивают на конки – ну совсем как в городах. Казалось бы, единственное бегство – в себя. Но «Я» – это единственное спасение – оказывается только черной пропастью, куда вторично врываются пыльные вихри, слагаясь в безобразные, всем нам известные картины. И вот чувствуешь, как вечно проваливаешься – со всеми призраками, призрак со всеми нулями нуль. Но и не проваливаешься, потому что некуда провалиться, когда все равномерно летят, уменьшаясь равномерно[18]. Так что мир приближается к нулю, и уже нуль, – а конки плетутся; за ним бегут эти повитые бледностью нули в шляпах и картузах. Хочется крикнуть: «Очнитесь!.. Что за нескладица?», но криком собираешь толпу зевак, а может быть и городового. Нелепость растет, мстя за попытку проснуться. Вспоминаешь Ницше: «Пустыня растет: горе тому, в ком таятся пустыни»[19] – и что-то омерзительное охватывает сердце. Это и есть черт – серая пыль, оседающая на всем.
Только тогда всколыхнется серое марево, гасящее свет, когда из души вырвется крик отчаяния. Он разорвет фантасмагорию. «И заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря; и взглянет он на землю; и вот тьма, горе и свет померк в облаках» (Исайя)[20]. В этом состоит обман неожиданности; он обнаруживает как бы бездну у ног. Кто скажет, что это действительная бездна, тот отношение примет за сущность. Современные любители созерцания в искусстве всяких бездн – почти все они находятся на этой стадии. Следует помнить, что здесь еще нет никакой бездны. Это – оптический обман. Туча пыли загасила в руках светильник[21], занавесив непроницаемой стеной вечный свет. Это – черная стена пыли, которая в первый момент кажется пропастью, подобно тому как неосвещенный чулан может казаться бездонно-черной вселенной, когда мрак, не позволяющий разглядеть его пределы, слепит глаза. Не следует бояться бунтующего хаоса. Следует помнить, что он – завеса, искус, который нужно преодолеть. Нужно вступить во мрак, чтобы выйти из него.
Первое сияние, разрезающее мрак, окрашено желто-бурым зловещим налетом пыли. Этот зловещий отблеск хорошо знаком всем пробуждающимся, находящимся между сном и действительностью. Горе тому, кто не рассеет этот зловещий отблеск преодолением хаоса. Он падет, раздавленный призраком. И Лермонтов, не сумевший разобраться в пригрезившемся ему пути, всегда обрывал свои глубокие прозрения.
Хранится пламень неземнойСо дней младенчества во мне.Но велено ему судьбой,Как жил, погибнуть в тишине[22].Ужас невоплощенных прозрений висел над ним, как занесенная секира палача:
Гляжу на будущность с боязнью,Гляжу на прошлое с тоскойИ, как преступник перед казнью,Ищу кругом души родной[23].И закат, в котором сам же Лермонтов видел священную улыбку, блещет, как жгучее пламя:
Закат горит огнистой полосой,Любуюсь им безмолвно под окном,Быть может, завтра он заблещет надо мной,Безжизненным, холодным мертвецом[24].И Лермонтов был обречен на полное непонимание сущности угнетавшего его настроения, которое могло казаться (о, ужас!) позой, благодушным пессимизмом, мировой скорбью, «поэтической» грустью, тогда как на всем этом лежит отпечаток священной пророческой тоски.
Но такова участь «впервые открывающих глаза»[25]. Они равно далеки и от сна, и от победы.
Слеза по щеке огневая катится,Она не от сердца идет.Что в сердце обманутом жизнью хранится,То в нем навсегда и умрет[26],потому что
Не встретит ответаСредь шума мирскогоИз пламя и светаРожденное слово[27].В судьбах отдельных выдающихся личностей, как в камер-обскуре, отражаются судьбы целых эпох, наконец, судьбы всемирно-исторические. Отдельные лица все чаще становятся актерами, разыгрывающими наши будущие трагедии – сначала актерами, а потом, может быть, и деятелями событий. Надетая маска прирастает к лицу. Такие лица часто оказываются точками приложения и пересечения всемирно-исторических сил. Это – окна, через которые дует на нас ветер будущего.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Безначальный (греч. ἄναρχος) – один из эпитетов Бога в христианстве, применяется ко всем лицам Троицы, чтобы подчеркнуть их равенство.
2
Образ, изобретенный Андреем Белым, вероятно, с оглядкой на околомузыкальный термин «рыдающий аккорд», ставший поэтическим штампом благодаря С.Я. Надсону. Рыдающий аккорд, одновременный удар по струнам, напоминает одновременный свет мерцающих звезд созвездия.
3
Вероятно, имеется в виду ракета салюта, а не сигнальная ракета, уже известная русской армии, но требующая строго вертикального запуска.
4
Андрей Белый соединяет обычную для его времени космогонию, в которой небесные тела образуются при остывании изначально раскаленной материи, с представлением о явлении первых форм разума как тончайших вспышек.
5
Фалды темного костюма; возможно, влияние прерафаэлитской эстетики, осуждавшей промышленный, угольный цвет официального костюма.
6
Настольная лампа. К двусвечным настольным лампам относится так называемый «миракль»: две свечи помещались за ширмой с картинкой, что давало рассеянный свет и одновременно будило воображение проекцией картинки.
7
Известная потешка. Позднее, в 1912 г., вариацию на эту потешку напишет К. Бальмонт.
8
Если это не просто поэтическое сравнение, то это токайское (виноград его, по легенде, растет на богатой золотом земле), «золотое вино» иногда противопоставляемое «соломенному вину» из винограда, подсушенного на соломенных матах.
9
Звук скрипки «солнечный», вероятно, из-за четырех струн скрипки, тогда как солнце находится как раз на четвертом небе по пифагорейской теории о музыке сфер.
10
Практикующий спиритизм – технологию общения с духами умерших, своего рода облегченную религию для тогдашних приверженцев прогресса.
11
Спектральный анализ веществ в химии, созданный Кирхгофом и Бунзеном в 1859 г., вероятно, также отсылка к французскому spectre – призрак, видимость.
12
Термин спиритизма, означающий посредника в общении с душами умерших.
13
Возможно, отсылка к концепции «воспламенения» (ектгирсосгк;) у Гераклита и стоиков: периодического сгорания всего мира в пожаре.
14
Эмпирей (ἔμπυρος) – огненная сфера, верхнее небо как область чистых, полностью очищенных огнем душ. Тогдашний друг Андрея Белого Павел Флоренский противопоставлял «эмпирею» как область преображающего жизнь опыта и «эмпирию» как область повседневного опыта.
15
Ин. 1, 5.
16
Дан. 7, 9.
17
Мережковский Д.С. Гоголь и черт. М., 1906, где постоянно соотносятся эпитеты «серый» и «серединный» (в смысле: посредственный) как характеристики духовного вырождения.
18
Уменьшение описано не как количественное уменьшение размера, а как лишение измерений, сведение к плоскости, а потом и к точке, которая «со всеми нулями нуль».
19
Die Wiiste wachst: weh dem, der Wiisten birgt – из «Дионисийских дифирамбов» Ницше, включенных в книгу «Так говорил Заратустра».
20
Ис. 5, 3.
21
Возможно, отсылка к Лк. 11, 34: «светильник для тела есть око».
22
Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Отрывок» («На жизнь надеяться страшась…») (1830).
23
Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Гляжу на будущность с боязнью…» (1838?).
24
Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть» (1830), с ошибками цитирования по памяти.
25
Источник цитаты не найден. Вероятно, соединение Пс. 146, 8: «Господь отверзает очи слепым» с многочисленными рассуждениями Д.С. Мережковского о глазах Лермонтова в статье «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества», напр.: «Никто не смотрел в глаза смерти так прямо, потому что никто не чувствовал так ясно, что смерти нет».
26
Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Романс» (1830–1831).
27
Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи – значенье…» (1839).