
Полная версия
Вдохните жизни. Людям о людях

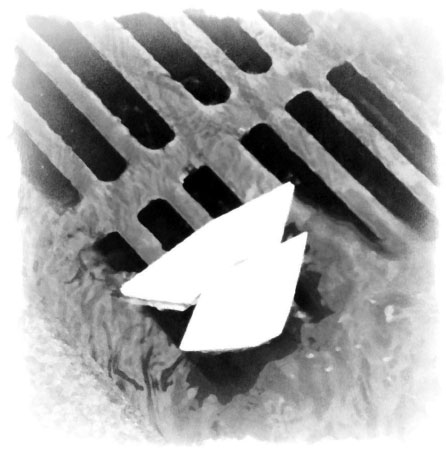
Данил Яловой
Вдохните жизни. Людям о людях
Оформление: Климова Наталья Николаевна www.tdetctva.ru ©
* * *От автора
Когда я понял, что ничего не умею, то стал писать книги и называть себя писателем. Жена потворствовала мне в этом. Есть в таком признании самому себе невидимая другим точка. В ожиданиях. В целях. А вернее всего оно соответствует савану, в который я завернул свои амбиции.
Теперь они разлагаются.
Слишком примитивно когда-то всё начиналось – время учиться. Для своих детей. Для людей вообще. Для тех, кто не умеет оставаться равнодушным к происходящему. И здесь не столько страха перед перспективой исчезнуть из памяти, сколько искреннего порыва донести всё, что трогало и цепляло при жизни.
Раскрыться самому.
На читателя не рассчитывал, и это предисловие пишу много спустя, – теперь, когда понимаю, что книга зажила своей жизнью, как бы пошло это не звучало. Реже – безграмотно, чаще – жёстко, местами – грязно и пафосно, не без бахвальства, она разговаривает со мной. Слишком заглавной вышла буква «Я» и в прозе, и в личной жизни. Время спускаться до прописных.
Придерживался коротких форм, потакая современной тенденции социальных сетей и бешеного ритма жизни. Страшно осознавать, что времени на что-то серьёзное – его просто нет.
И, кажется, уже не будет.
Август, 2021. Москва
Меджуль
Георг Давидович умер на Страстной неделе, в ночь на пятницу. И когда б то случилось в иное время года, не писал бы о нём. А так я углядел в этом случае особый смысл, хотя и показался он мне глупостью и далёким предрассудком.
К тому времени у меня накопились о старике некоторые огрызки интервью и с десяток пометок, сделанных немного после и основанных на личных впечатлениях. Да так само собой вышло: вспомню детальку – доложу. По крохам и сложилось это короткое повествование. Из маячков в памяти, урывками: приёмный покой, финики в коробке и дежурная сестра; широкая улыбка старика.
Улыбался он часто. Точнее, всегда. Ответить, спросить, или сказать чего – непременно начинал с улыбки. Запомнился день похорон: золотом по черну: «Любимому дедушке», «Дорогому другу»; на кресте стамеской: «Георг Давидович Чараев» и ниже: «15.04.1921-17.04.2020». Так и вышло, что из своего у старика только имя да эти несколько цифр глухой резьбой по дереву. Тут же, на кладбище, устроили поминки. Они тоже запомнились: выпили по чарочке за упокой души старого осетина, закусили кто-чем и разошлись. По иным могилам сновали бабы, катали крашеные яйца; радостно голосили дети.
С тучного неба срывался дождь…
В начале года какой-то детский журнал проводил в среде старшего поколения опрос, в рамках которого, промеж остальных, задавал респондентам и такой: «Как вы состарились?». «Жил-жил и состарился» – это было самым расхожим ответом. Из необычных тогда запомнились слова глубокого старика. Он сказал: «Я искал». Журналист спросил встречно: «И что?». Старик ответил: «И состарился». Корреспондент тогда или не захотел, или не понял – отработал по шаблону и оставил его в покое. В конторе, вероятно, наспех состряпали колонку в еженедельник и подписали в печать.
Я увидел журнал в киоске у продуктового магазина, прошелся взглядом по наивному заголовку на первой полосе: «Как дедушка состарился» и задержался на нём. Недолго думая, купил с расчётом почитать что-нибудь младшенькой перед сном и вспомнил о нём только вечером.
Среди россыпи всего обо всём был и тот репортаж. Ответ Георга Давидовича меня зацепил, и я стал искать встречи с ним: на следующий же день, помню, связался с редактором журнала и через десять колен человеческого непонимания, равнодушия и банальной бюрократии мне удалось выяснить, кто в тот день брал у пожилых интервью. Г.Д. Чараева нашёл в хирургическом отделении районной больницы и был удивлён чистоте его сознания на исходе века.
Не сразу я ему объяснил зачем искал: расспрашивал о здоровье, объяснял необходимость и только в конце рассказал о себе – кто таков и с чем пришёл. Оказалось, что старик знаком с Яловыми. Улучшив момент, я спросил: «Георг Давидович, как вы так состарились?».
И он ответил.
Есть какое-то волшебство в людях старшего поколения: что-то непостигаемое, и это что-то очень притягивает. Я чувствовал это, но ухватить не мог. Чтобы не оказаться торговцем, приготовленный для старика гостинец я оставил на посту, уходя. Попросил дежурную сестру передать коробок б. Чараеву из девятой палаты. Виделись мы с ним и после: я наведывался в больницу ещё дважды и всякий раз немного смущался тому, что придётся объяснить свой подарок.
Но он не спрашивал.
В третий раз меня не пустили, потому что Георг Давидович умер. По какой-то причине сестра забыла о моей просьбе и вспомнила о финиках только сейчас, когда её дежурство вновь совпало с моим визитом. Она зачем-то упорно старалась вернуть мне коробок, будто это могло извинить её перед покойником.
Я взял финики, конечно, и, не решаясь выйти из вестибюля, так и остался стоять у дверей. Будто всё неправда. Будто если я сейчас развернусь и уйду, то оно вдруг станет правдой, утвердится и никогда не изменится впредь.
И я стоял, пока в моей голове укладывалось сообщение о смерти: разглядывал сухофрукты сквозь окошко в картонной коробке и представлял далёкую пустыню, которая их взрастила.
Врач потом пояснил, уже после похорон, что у старика отнимались ноги и его готовили к шунтированию; интересовался, кем прихожусь покойному и всё удивлялся, узнав, что – никем. Мне нечего было ему ответить.
Да и не хотелось.
В нашу последнюю встречу Георг Давидович обронил, кстати, что никогда не ел фиников, а я было подумал, что он таким образом благодарит меня за гостинец. Желая стушевать свою неловкость, я сказал тогда, что это был Меджуль. «… самые сладкие из всех, что есть. Мой дедушка их очень любил», – уточнил я в надежде, что они ему понравились.
– Ну, здравствуй, мой дорогой. Спаси Христос, – перекрестился Георг Давидович, – рано прибрал Господь к рукам. Знал я и Николая Даниловича, и бабушку твою знаю, и уважаю глубоко. С хозяйкой моей она одного года и места рождения. Да первая, как детей схоронили, умом тронулась, заболела чахоткой и – туда же.
Я обошёл тяжёлую тему и снова спросил, как он так состарился. «Я искал», – так же, как и в первую встречу, ответил Георг Давидович сквозь широкую улыбку, но на этот раз мы развернули беседу вглубь и вширь, охотно скоротав время до самого полдника. Потом, в коридорах загремели тележки, запахло кипячёным молоком, вошла дежурная сестра и попросила посетителей на выход.
Его фланелевая рубашка в клетку, скатанная с боков, с оторванной у ворота пуговицей, запах прожитой жизни – всё это тоже осталось в памяти. Смуглая кожа южанина; будто положенная тушью штриховка морщин на лице и взгляд всегда сквозь – особенность, наложенная долгими годами труда (с малых лет и до самой болезни старик ходил в чабанах).
Плохо ли, хорошо в глубине его мутных глаз смог я разглядеть то, что сумел, но вот оно:
Когда я нашёл родителей, то стал мальчиком.
И был так, пока не нашёл свой первый танец.
Тогда я стал парнем.
Когда я нашёл свой дом, я стал мужчиной.
Когда я нашёл семью, я стал взрослым.
А это не то, что быть мужчиной.
Быть взрослым, значит смотреть глубже.
Когда я нашёл любовь, я снова стал мальчиком.
И был так, пока не нашёл ей цену.
Когда я нашёл и это – стал человеком.
Когда я нашёл свою старшую дочь, я стал мужем.
А это не то, что быть взрослым.
Быть мужем – значит вырасти ещё немного.
Когда я нашёл сына, я стал отцом.
Когда я нашёл свою младшую дочь, я стал дедом.
А это не то же, что быть мужем или отцом.
Быть дедом – значит, вдобавок ко всему, иметь ясную голову и крепкий стержень внутри.
Когда я нашёл страх, я стал кремень.
Тогда я не постарел и не помолодел.
Время замерло и никуда не двигалось.
Когда я нашёл своих детей мёртвыми, всех до одного, я постарел на десять лет за каждого и стал, как песок.
Говорят, неправильно, когда дети умирают раньше родителей, но ты не поддавайся на этот обман, иначе станешь похожим на песок. Не прельщайся этой сладкой пилюлей, потому что всё в руках Бога.
И Бог всегда прав.
Много раз находил я Его, и от этого тоже старел.
И всякий раз я находил Его иным: то добрым старцем, то грозным палачом, то тихой деточкой, то лютым разбойником.
Когда я нашёл Его в последний раз, стал трухой.
А это не то, что песок.
Быть трухой значит удерживаться только чудом и бояться всякого дуновения ветра.
Потом я нашёл людей и стал камень.
Так бывает, когда труху заправляют смолой.
Тогда же я нашёл, что всякий человек, как солнце: с яркими вспышками и тёмными пятнами, и все они, эти пятна и вспышки, постоянно в движении. Он, человек, – не луна, что светит всегда ровно и однобоко, он – солнце, на которое не всякий умеет посмотреть без длани у лба.
Ещё он, этот человек, или греет, или обжигает.
Или остаётся невидимым.
Потом я нашёл своё место и зарос мхом.
Последнее, что я нашёл, была радость к жизни, которой теперь не осталось. Вот и сто годов моих набралось, считай, и что найду дальше – то неизвестно.
Стало накрапывать.
К тому времени людей на кладбище оставалось немного. В основном, местные: Воровсколесские казачки, не желая оставлять начатое, отправляли внутрь шкалик за шкаликом, да кучка оборванцев шныряли по могилам, собирая угощенье.
Я оставил на свежем холмике коробку с финиками и побрёл к выходу.
19.04.2020, пос. Новопетровский Тульской обл.
По нотам
Иду. Курю.
Есть какое-то неуловимое для постороннего человека отличие вод, протекающих через город Петра, от Москвы. В который раз пробую загнать в слова её, эту тень истины, но хватаю только воздух. Всё, что я успел сообразить на этот счёт до сего дня, сводится к тому, что Нева монументальнее. И воды её волнуются по-другому – грандиозно.
А небо такое же, как если бы ты не продался.
Думая обо всём этом, я, наконец, покинул набережную и обогнул императорские конюшни. Вдоль восточного фасада в сторону Невского проспекта, ленно и не спеша, шла молодая пара. Они остановились за мостом, у Спаса на Крови. И так вышло, что я нагнал их. Он повернул девушку к себе лицом, вложил в её ухо этот, как его, стручок, приглашая послушать что-то, и закатил глаза к небу.
Что же, я не знал, как она прекрасна?
Та с интересом смотрела на него. Потом молодые люди начали чуть заметно покачивать головами из стороны в сторону (видимо, в такт музыке), со временем наращивая амплитуду; повернулись синхронно и пошли в пляс. Незадолго до этого, парень, спуская взгляд с небес на землю, задержался на мне и улыбнулся, будто приглашая стать участником какого-то заговора.
Переступи черту впервые за сто лет.
Он изящно обнял её за талию и, временами выпуская, позволяя той делать нелепые обороты, жестикулируя и громко вторя вокалисту, понёс! Понёс! Они парили прямо над землёй. Он снова заключал её в свои объятия; выпускал, удерживая и снова прижимая к себе, кружил! Кружил! И пел. До самого проспекта. Она была послушна в его руках; смеялась в голос и никого не стеснялась.
Эй, а кто будет петь, если все будут спать?
Встречные теснились на узком тротуаре, сторонясь; полагали, наверное, что молодёжь напилась. Кто-то из прохожих улыбался. Я шёл за ними. Просто так, – от того, что мне некуда было спешить этим утром. Сквозь жидкую одежду нещадно пронизывал холодный ветер, наращивая скорость в узком для себя городском пространстве. И я тогда подумал, помню, что невозможно всю жизнь петь и плясать: когда-то придётся и поплакать.
Мы будем пить и смеяться, как дети.
Вышел на Невский, ребята свернули налево и, срезав Садовую, нырнули в Del Mar. Я остановился неподалеку от входа в ресторан. Подставил своё лицо ещё не светлому небу, но уже и не чёрным тучам. Закрыл глаза. Глубоко вдыхал запах горячего хлеба. Город шумел, и этот гвалт только вдохновлял в меня жизнь.
Ну, где ты была эти дни и недели?
Мне бы хотелось, конечно, зайти сейчас туда. Не потому, что я нёс какие-то намерения в отношении той пары: наши пути просто совпали, и я не без интереса наблюдал их всю дорогу. Хотелось поесть горячего. Да, сначала я бы попросил чашку сладкого чая с лимоном и имбирём, а затем тарелку харчо, например. Или плова. С какой-нибудь горячей лепёшкой.
Одевайся, пойдём. Чудовищно пахнет гарью.
Я знаю её. Ту песню, под которую они танцевали. Ведь он пел её вслух. И она подпевала. Но только в некоторых местах. В тех, которые успела схватить умом: «Напои допьяна, весна! Напои допьяна-а-а, весна!..». Когда такая музыка сопровождает счастье, всё становится иначе. И причина не в том, что я-де вырос на текстах и музыке Ревякина, скажем, или Шевчука. И попсу можно послушать, и deep иногда '– с большим удовольствием. Однако в самые ответственные минуты в голове звучат аккорды, нагруженные смыслом.
Когда ты повсюду один – это spleen.
Сквозь плотный поток автомобилей, со стороны Садовой улицы, пыталась протиснуться машина скорой помощи, крещендо расточая в округу спецсигналы. Когда они стали невыносимо громкими, я открыл глаза. Оказалось, что это пожарные.
Минутная стрелка идёт против часовой.
О чём я? А… дело в другом: музыканты, оформившие своё сознание в ноты по жанру русского рока, несли во вне драйв! Поток тронулся, наконец, и красные грузовики с бравыми парнями внутри миновали перекрёсток. Тронулся и я.
Может кто-нибудь услышит извне.
Ещё спит, наверное. Я так и не научился разумно распоряжаться своей свободой. Она, наконец, была дарована мне. И я обосрался. Того возможно не осознавая или осознавая не до конца, кумиры закладывали фундамент, на котором позже построит свои золотые дворцы смена, стяжая дивиденды.
Поганая молодёжь.
И я слушал… – нет: не то слово. Внимал. Ревякин, Шевчук (сдулся), Клинских, Бутусов (ссучился), Летов, Кинчев, Гребенщиков, Васильев (сдулся), Цой. Самойлов. И больше никаких фамилий. Последнее дело – бадяжить чистоган. Крепкий чай. Крепкий кофе, да. Крепкая музыка. Крепкие парни в пожарной машине. Крепкие отношения. Чёрт…
Небо на цепи, да в ней порваны звенья.
Моё поколение тоже обосралось. Похерило такой початок за кулёк серебра! Не потому, что те были хорошие, а эти – плохие. Всё поменялось. Беречь стало нечего. И незачем. Растишь, скажем, сыночка. И вот, в один прекрасный день, понимаешь, что пора бы уже сворачивать на обочину. Смотри, говоришь, сын: это вот – то-то, а это то-то. Взял? Держишь? Спасибо, отец. И – ногами твоё барахло. Ногами.
Время ерепениться.
И надо ли было? Нет, раз не сумел. Захотел бы – сумел. А раз не захотел, значит, не надо было. Лучше одному, чем так. Правда, тоска. Это сколько уже?.. Третий год на исходе с тех пор, как развёлся. Теперь шагаю в обратном направлении. И в прямом, и в переносном смыслах. Не нашёл в этой жизни к чему притулиться.
Вот она гильза от пули навылет.
Свернул не туда. Вышел – там, а с поворотом ошибся. Это аллегория. К своему отелю я вернулся со стороны Гороховой и нигде не заблудился. Не то, что в съёмной квартире: комната одна, а душа не на месте. От книг тоска и изжога, от тишины звенит в ушах, верхний свет слепит глаза, а от боя стекла в мусоропроводе бешено заходится сердце.
Лучше жить в кустах с бородой по пояс.
У стеклянных дверей отеля, под парусиновым козырьком красного сукна, стоит парень. Обе руки его заняты: в одной кофе для него, во второй – кофе для неё. Будто нельзя было попросить у бариста кассету. Он стоит спиной ко входу, будто нет на улице дождя, и наблюдает округу. Словно ему некуда спешить. Кажется, что ждёт чего-то. Сомневается.
Я сомнениям этим не рад.
Это – я. Тот, которому вдруг стало необходимо обнять любимую женщину за талию в самом центре города и, выдержав короткую (если не сказать театральную) паузу, глядя ей с хитрым прищуром прямо в глаза, коротко произнести: «Чу!». Тот, которому вдруг стало важным, дождавшись первых аккордов, увидеть в её глазах абсолютное понимание. Вдруг приобрело ценность то, о чём бы я никогда не догадался, не проживи он бирюком три года к ряду. Не повстречай он ту счастливую пару на набережной.
Не было такой и не будет.
Бросить всё и выбежать с ней на улицу – прямо в том, в чём она сейчас. В одних трусиках? Пускай так. Тем смелее решение. И – в пляс, разбрасывая нехитрые pas по улицам и набережным Петербурга под рок-н-ролл! И теперь уже это мы задеваем прохожих. Те шарахаются в стороны, полагая для себя всё то же. Да. Мы танцуем под дождем. И поём. И смеёмся. Всю жизнь.
Долгую, счастливую жизнь.
А потом я смахиваю с её кожи мурашки, обтираю огромным махровым полотенцем и, укутав в плед, ставлю чайник на плиту. Можно было бы объяснить эти мысли питерской сентиментальностью. Или вообще списать их на дождливое утро. На запах жаровни из открытых окон ресторана. На этот город вообще, если бы не сослагательное наклонение: не в первый раз. Значит, зреет правда в моей голове.
Мне выпал счастливый билет.
Стало быть, невские воды сеют в сердцах нечто. Затем оно всходит и множится, поражая своего носителя особенным взглядом на мир. Я бывал здесь ранее. Дважды, помню. И всякий раз – с ней. С той, о которой всё чаще думаю теперь. И страшно от примеси непонятных чувств в отношениях: а что, если она тебя купила? И этот как его, маячок, который мерцает вдали: а ты продался. Летов вышел, громко хлопнув дверью. Борис Борисович из тех, кто ещё нет. Точнее, один-единственный. Остальные ссучились. Лажают в штаны и воняют в округу. Паразиты. И я паразит.
Не трать дыхание на моё имя.
Десять. Она наверняка уже не спит. Лежит в постели и ждёт, когда я вернусь. Надо было взять с собой телефон. Злится теперь. Вчера злилась, что ушёл, не разбудив. Не сердись, моя ласковая: я только спустился за кофе. Сошло с рук. Уже больше часа отсутствую. Почему меня так долго не было? Не хотел будить. Это правда. Второй день дождь с утра. В этот раз с погодой не угадали. Ни я. Ни ты. Ни те двое. Кто? Потом расскажу. Нет, просто танцевали на набережной Грибоедова. Совсем рядом. Искал кофе.
На рассвете без меня.
Стихла сирена. Стихли клаксоны автомобилей. Стихли голоса. И даже тот единственный, что всегда звучал внутри, зная наверняка и оповещая, что хорошо, а что плохо – он тоже вдруг осёкся. С её появлением стих. Стихла музыка. Её нет. Я тоже хочу не быть. Сейчас, если я сука. Или потом, если ссучиться мне только предстоит.
Я пришёл с войны, распахнул шинель, а под ней билось сердце, вторя сознанию: как много обрёл я этим утром на набережной Невы. Так много, что одному теперь не прожевать.
Через все запятые дошёл, наконец, до точки.
Звякнул колокольчик поверх входной двери. И в другой раз, пропустив полотно обратно. По широкой лестнице парадной, игнорируя элеваторы, поднимаюсь на четвёртый этаж. Задерживаюсь на промежуточных площадках лестничной клетки. Затем ступаю по мягкому ковру коридора. У дверей номера забираю стакан в стакан, высвобождая правую руку. Из кармана брюк электронный ключ к считывателю; двойной сигнал зелёного диода в замке и – внутрь. Я говорю: «Привет!» и, уже шёпотом, в самое её ухо, не ослабляя объятий: «Выходи за меня».
Постой, преодолевший страх.
2017
Раки
Теперь сложно сказать, где это было. То ли у Заречья, – в месте слияния Галицы с Головою, то ли у Калинок, где по меже Орловской и Тульской областей протекает худой, без имени, ручей. Там Юрьев лес из-под ладони видать. Там некогда стояли табором цыгане… а может домыслы всё это, Бог весть. От тех цыган пошли Лаврухины, старшой из которых и выдал за меня, сам того не ведая, свою младшенькую Любу, но это уже совсем другая история…
Ручей тот помню. И окружающий пейзаж тоже. Вода била ключом прямо из-под земли, лихо закручиваясь воронкой в тени куцей вербы, и была на удивление студёной. Потеряв в скорости на выстланном песком дне, она, всё ещё чистая и свежая, покидала неглубокое озерцо и истекала ручьём в сторону Калинок; скоро прогревалась на равнине под открытым солнцем и, принимая в себя пыль большака, подмывая илистые берега, становилась мутной; на значительном удалении от источника густо порастала осоковыми.
Сюда и приехали за раками. Летом это было, года два тому назад. В самый зной, после полудня, выискивал я у ручья заводь потише да поглубже, чтобы поставить паука – эту мою маленькую надежду, сводившую на нет волю идти вперёд.
Любаша была рядом. Брат её с женой, старшая из сестёр с мужем, да Ильич – таким составом топтали мы Орловские пажити своими босыми ногами прежде, чем спуститься в воду. Девки, однако, остались на берегу и громко верещали всякий раз, когда кто-то из нас голыми руками доставал из ручья живого рака. Они следовали берегом, радея об успехе предприятия, и в голос удивлялись, когда попадался особой величины самец.
Чёрные (а я думал – красные), часто с недостающей вообще или много меньше второй клешнёй раки один за другим падали, брошенные, в прибрежную траву, где их находили жёны и складывали в вёдра. В шутку ли, всерьёз – хвалились они друг перед дружкой каждая своим мужем, ведя счёт добытым нами ракам. Те клацали клешнями, норовя ухватить обидчика за пальцы. Митрий Ильич спешно сдавал назад и угрожающе голосил, когда мать, смеясь, приближала мокрого, порой в тине, рака к его носу.
Было непривычно окунать ступни в ледяную родниковую воду. Необычным было и ощущение склизкого илистого дна под ногами; пугающим – его несговорчивая природа. Обо всём этом я размышлял, пока брёл от истока к устью вдоль берега. Иногда оставлял мыслями окружающий пейзаж и думал о ней, – той, что на берегу. О её сыне. О наших неродившихся детях. Потом снова думал о раках: как глубоко иногда они прячутся! Случалось так, что нора – вот она, а запустишь руку по локоть – нет ей конца. Небось, огромная тварь! А ну, – как оттяпает полпальца? И – по самое плечо, задирая голову к небу, чтобы дышать.
Несколько раз я проваливался по самую грудь, всем организмом ощущая угрозу, исходившую от скрытых мутью недр. Те принимали меня в своё нутро, туго обволакивая тело упругим, смолянистым илом. Тогда я замирал и, стараясь совершать как можно меньше движений, собирал в охапку ближайшие стебли тростника, чтобы тянуться. Вытянувшись же, снова ступал по дну, миновав опасный участок по стеблям болотных растений; еще раз прощупывал тыльной стороной ладони крутой (часто – отвесный) берег под водой в поиске очередной норы.
Шурин – тот посматривал да посмеивался. Видимо, не в первый раз здесь. Знает, что я – в первый. Бредёт себе по левому берегу, вынимает одного за другим, да в траву с возгласами: “Ловите, девчонки! Ещё один!” Свояк со свояченицей в воду не полезли, оставаясь довольствоваться на берегу. То-то добрая ушица получится к вечеру. Из раков-то. Всем отварам – отвар! Как на базаре, по пятьсот за пяток – дорого, а как самому по норам, – так задаром, считай.
Своих первых раков я доставал неожиданно счастливым от того, что животное оказалось не очень крупным, что защищается мне не во вред. На каком-то по счёту (за дцать, не менее) уже и сам вкладывал промеж клешней мизинец: куси! Оттого, что готовился к худшему, – только бы не прослыть трусом. Искренне не понимал в пути, каких размеров раки водятся в Орловской области, и как сильно они могут цапнуть. Последних же доставал уже со знанием дела и на правах хозяина.
Пройдя таким образом километр-два по течению, в сторону шурина стал улыбаться и я: каков? Там и возвращаться решили: полно. Обратно шёл где берегом, где – по плотно устелившим воду кувшинкам, попутно выискивая среди высоких рогозов початок пожирнее, чтобы срезать под корень и подарить жене. Не без удовольствия отмечал для себя и то, что нырнул в каждую из нор по «своей» стороне, ни одной не упустил. Есть, правда, расхотелось – уж сил оставлено столько, что жаль теперь будет в раз проглотить; пускай Ильич с девчонками нарадуются за столом.
Рачевня во всё время оставалась пустой. Порожней же и обнаружил её там, где оставил – в заводи у истока ручья. Те снасти были моей ставкой на то, что с разбегу тащить тварей из нор голыми руками. Знать бы тогда, что в ледяной воде раки не водятся… Как и о многом другом, через что пришлось пройти в своё время, захлёбываясь в грязи только потому, что положился на кого-то или что-то, кроме собственных рук и головы.
Но это уже совсем другая история…


