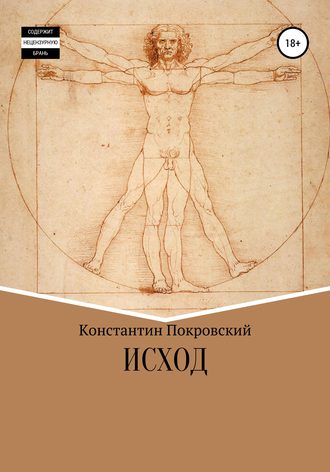
Полная версия
Исход
***
Просыпаясь, всякий счастливый видит свет.
День скидывает весь ночной дурман, выгоняет из души хворь, боль, сомнения всякие, старается так, что может не сохранить в карманах своих ни щепотки живой земли. Выметит за своё белое время неустойчивое, погремит звоном битого хрусталя и, смеясь, постепенно начнёт портиться: поникая, ослабляясь в собственных тенях, и воскрешая после – к новой ночи (вот где парадокс) саморучно умерщвлённое. Тогда и происходит торжество личной правды. Перед временем сна: вот оно – что было настоящим, о чём может и стоит думать, как о единственно правильном…
Зазвенит перед сном мысль, кажущаяся единственно верной, как открытие, прозрачная и во всём понятная. И кажется непоколебимой её истинность в такие минуты.
Вдохновляется взор на вещи хрупкими крыльями ночи и дурманит сколько вздумается, пока идёт её время. Здесь место слезам и тоске. Вот где оно – о чём трясётся переживаньями душа и покоя не даёт. Вот где зло и зависть прочая. Вот они, собственно, люди (перед сном в своих эмоциональных отчётах). А что будет после? За вздохом – выдох, а между ними тишина и суть наша.
Души с их сегодня, с их настоящей вечностью – вдыхают легкие – и живёт тем день, отрезвляясь таким живительным напитком искренности, охваченный откровением, а к луне возвращает отобранное не по справедливости…
Такие минуты надо доверять словам. Тогда любовь способна сказать, что она – любовь, если кто-то сам ещё до той поры слеп оставался и не понял всего.
5
Уберег Господь Виктора от многих тяжестей.
Не решил Витя ещё подойти к Кате. А день за днём закатывал его всего, как каток по свежему асфальту в ровную, нудящую струну. И всё оказалось способным играть на той струне: что ветер, шебаршащий листвой, что люди вокруг, к которым Виктор был всегда безразличен, спрашивая не заболел ли тот, что и сам думать стал про себя – болен.
Сдвинул Виктор с кухни стол со стулом в комнату, выходящей окнами на дорогу, и сидел часами, ожидая, когда покажется Катя. К помутневшим глазам липло голубое небо, едва отражаясь точками кружащих над Волочихой коршунов: кто выше, тот сытней.
Могли бы говорить, птицы рассказали б не мало интересного. Летающие люди вдохновляются небом. И, думается, больше всего видом на землю сверху, эйфорией полёта и ощущениями освобождения от того, что там, внизу. Встряхнувшись от ворсистой пыли повседневной пряжи проблем и суеты, опасаясь втянуть в ноздри противную лохматую сыпь, люди поднимаются, утопая в свежести и ощущении дорогой свободы. Каждую минуту грудь занимает у огромного неба кусочек этой живительной простоты, выдыхая даденное, точнее возвращая – обещаниями, самое первое из которых – жить.
Но что внизу, что наверху – человек остается прорабом груды задач построения всё новых владений и владений, и этими планами давно засорил многие головы, даже тех, кто поднялся в небо. Перетащил туда на борту свой хлам и таскает его из одного конца земли на другой. Такой вот получается мусороворот.
Волочиха редко услышит в своём небе гул самолётов. Не легли над теми местами регулярные рейсы.
…Выше всего государственные флаги развивались на козырьке Волочихинского «колхоза». Нужное начальство раньше всегда сидело там и люди, в связи происходящими переменами поначалу не сразу определились: как теперь будет называться это место. Появились новые для слуха слова «муниципальная» или «сельская администрация», которая, кстати, теперь была в другом месте, куда перенесли и сменившийся видом и содержанием государственный флаг. По отношению же к этому зданию всех устроило привычное – «колхоз», о чём и договариваться не надо было.
Колхоз занимал два этажа из силикатного кирпича, вперемешку с красным, протянутым полосками, не претендующими на какое-либо изящество – с многочисленными окнами и широкими ступенями. Находился на большой территории, отгороженной крашеной сеткой рабицей, закреплённой в рамки из металлических уголков. Повсюду были разбиты клумбы, палисадники, аллеи берёз, елей, сирени.
Прямо к крыльцу, пронизывая административный комплекс, вела асфальтированная дорожка метров в семьдесят длинной. Должно быть, по задумке архитекторов, путь к главному входу предназначался для больших и важных делегаций, которые могли идти одной шеренгой не менее чем из восьми человек, чувствуя локоть и не мешая друг другу, или проезжать на автомобиле, для чего со стороны въезда были сконструированы двустворчатые ворота и проложен отдельный подъездной путь.
Прямо у входа в здание церемонную дорожку пересекала поперёк и чуть наискось другая полоска, заметно уже главной, но тоже огороженная беленными бордюрами, проложенная для трудящихся, бегающих по штабам коллективного труда. Так подумать: почему поперёк, а не продольно, не рядом? Но рядом – как это? Это и бессмысленно, и неправильно. Что значит продольно? Никакой конкуренции в этом смысле. Гениальная простота вещей, вкладываемых в сознание, заключена в разделении, распределении, в тех самых «сверчках и шестках». Поперёк – значит все на виду. И весь процесс как на ладони. Дорожка поменьше была насыщена движениями рабочего класса, жилка, соединяющая ткани и органы одной системы.
Правее от «колхоза» находился мемориал с именами погибших во время Великой Отечественной, Вечный огонь и самый главный и высокий памятник (всего было в селе их пять). Солдат, опустивший ППШ, и женщина-крестьянка, снявшая шаль, держали знамя, пристально вглядываясь в даль, в будущее, на пути которого, сразу за асфальтированной улицей, стояла двухэтажная школа.
Архитектурное исполнение учебного заведения в лучших традициях повторяло букву «П», ножки которой были увешаны дополнительными корпусами, несимметричными и неравномерно развитыми крыльями: левое одноэтажное занималось начальными классами, а правое (на вырост) состояло из спортзала и просторной школьной столовой.
Кирпичная птица отказывалась смотреть прямо в лицо главенствующему в строительном ансамбле, стояла к нему боком и парадным своим входом уставилась на реку. Она сейчас уже высиживала тех, кому трудно будет задуматься, и кто не повторит больше путь по той самой второстепенной и наиболее оживленной дорожке к «колхозу».
Сразу за школой, внутри также аккуратно отгороженной территории, не меньше трех гектаров, находился стадион и дендросад, поглотивший коллекционной растительностью другой памятник: возбужденные красноармейцы, набившись вокруг «Максима», показывали руками на заросли, за которыми оказывалась встроенная школьная библиотека и открывались огромные окна спортзала.
До строительства школы, надо понимать, друг на друга смотрели цементно-бронзовые представители двух эпох, плотно вжавшиеся в короткий и жестокий тридцатилетний период своего прошлого. Видимо чего-то смущаясь, школа упрямилась смотреть в ту или в другую сторону, отдав многочисленные окна ходу солнца, то и дело заливающего их оттенками краснеющих своих закатов и рассветов.
За спиной колхозной администрации было уютно, низкоросло, одноэтажно. Там, по правую руку, стоял довольно приличный, но старый детский сад. До начала больших перемен – по левую руку – вырастили новый и так как планы соответствовали одному из громких лозунгов «выше» и не должны были ограничиваться имеющимся рядом образцом – вытянули два этажа, вместимостью не менее ста мест. В нём поначалу даже заложили бассейн, который после, по непонятным местному населению причинам, был замурован.
Другое здание, примерно на пятьдесят койко-мест, располагалось напротив нового детсада и называлось давно уже участковой больницей. Дом этот поставили здесь ещё задолго до всего вышеупомянутого и предназначили служить помещичьей усадьбой. Пожалуй, это был шестой памятник, чьи исторические доказательства прав на место в летописи села писались кровельной лепниной, арками, дугами, старинной крепкой отделкой и необъяснимой угрюмостью, которая лишь усиливалась тем, что грустило всё это ниже всех других – в ландшафтном, не задобренном твёрдым современным покрытием, перекосе.
Вся картина архитектурных особенной центра Волочихи не станет полной, если не упомянуть о презентующихся двух других объектах: деловом центре, о котором уже что-то известно, и трёхэтажном импозантном Дворце культуры.
Улица с левой стороны колхозной администрации горбатилась тем самым разграбливаемым объектом под торговлю и страдала провалом в асфальтовом покрытии, похожем на открытый рот, завалить который отважились лет через пять после его образования. Дыра год от года вырастала; развалины становились всё ниже; безмолвный этот крик прекратился примерно тогда, когда останки мёртвого строения покрылись травой и лишь местами напоминали о себе ненужными никому монолитными кусками из ломанного красного кирпича и бетона.
Торговый центр изначально тоже был двухэтажным с большими стеклянными витражами, просторным залом, площадкой для летнего кафе на самой крыше и гостиничными номерами. «ТЦ» так и не дождался торжественного открытия; его долгие похороны начались со звона бьющихся стёкол, стоявших нетронутыми целых два года после завершения стройки.
Правая, северо-западная сторона от администрации была освоена центральной площадью.
Украшением и гордостью, венцом благополучия, некогда достигнутого силами трудящихся и личными связями бывшего председателя богатого колхоза, являлся – Дворец культуры! Своим появлением он сместил ось притяжения всякого внимания, избытка времени. Дворец ковал новые брачные союзы в мраморно-зеркальных залах, отобрав эту функцию от уютного и вполне ещё функционировавшего по всем правилам старого зала бракосочетаний.
Новый Дворец культуры никак не мог называться «Домом». Он принимал у себя гастроли союзных филармоний, растил районную сборную по хоккею, создав все современные условия с разделёнными душевыми кабинами в своих подвальных помещениях и приложив к себе новую хоккейную коробку как раз со стороны полностью укомплектованного физкультурно-оздоровительного комплекса.
Дворец почётным вторым этажом вознёс на высоту ярко светящих уличных фонарей большую сельскую библиотеку, оставив её открытой миру сплошной стеклянной стеной и торжествуя невообразимым пополнением-и-пополнением книжного фонда.
Дворцу было по силам вмещать и нарождать вокально-инструментальные ансамбли, дивя сверкающими линиями новых электро-барабанно-струнно-духовых инструментов, пестрить роскошными костюмами, расцветать досугово-кружковой работой.
Сердцем этого чудесного создания считался кинозал с широким экраном и мягкими креслами, обшитыми красным бархатом. Его просторная сцена была влюблена в завезённое световое оборудование, крутящийся пол, полуавтоматические механизмы поднятия роскошного занавеса, мечтающие покорять своего зрителя.
Дворец был настоящей визитной карточкой всего района на зависть всем, кто здесь не родился и не жил!
6
Тётя Лида, давно не навещавшая старшую сестру, приходила накануне осведомиться о родственниках и завела разговор о работе. Катя была, по мнению тётки, уже взрослая, пенсии матери не могло хватать, да как часто её приносили тоже было хорошо известно. В общем: лето, времени свободного много и решено было отправить девчонку поискать трудоустройства, чем та послушно занялась на следующий день.
Бестолковые походы из одного места в другое, из сельской администрации в колхоз ни к чему не привели. Катя наслушалась женских жалоб о задержках зарплат, о забастовках, выдаваемых в счёт зарплат товаров… Перед глазами стояла сумка с огромными бюстгальтерами, которыми рассчитались в районе на швейной фабрике и теперь этот товар расходился по деревням как новая тряпочная валюта; да ещё хлеб колхозный!
Катя знала, о каком хлебе идёт речь. Бывшую колхозную баню в прошлом году отдали каким-то людям, после чего в селе случился скандал на национальной почве. Булки отдавались под запись в долговой тетради, заметно уменьшившись в размерах и весе. Жители по щадящему прозвали этот хлеб «крошками» и вынуждены были брать, закрывая глаза на чудесную особенность: списывались в счёт того заметные куски от причитающейся зарплаты. Стрый фокус, который ещё разрастётся до размеров настоящего шоу, удивляющего своим размахом, наглостью и беспрецедентностью.
Посновав по разным дверям, Катюша направилась к собравшимся у главного перекрёстка людям.
В центре села было оживлённо с самого утра. Привезли всякого мелкого товара для сельских нужд, особенно народ интересовали калоши. Они лежали в мешках и больших клетчатых сумках. Когда их вываливали в коробку, все изумлялись. Эти бесформенные чёрные уродцы с красным нутром были мятые и настолько привыкшие к новой форме, что, казалось, никогда не примут изначальный привычный для глаз вид. Но всё равно это была та самая нужная резиновая обувь, к тому же очень недорогая, и сельчане стремились успеть взять. Лёгкое недоумение испытал и дед Ефрем, подъехавший прикупить пару на лето и в зиму запастись, чтоб потом самые огромные – «зимовки» – натянуть на валенки.
Пока он выбирал из общей свалки резину получше, Виктор, сидевший в его бричке, оставил изучать содержимое пакета, врученного ему дедом Ефремом за предстоящую работу, и глядел на подошедшую Катю. Рассчитавшись, дед Ефрем просунулся через толпу и лихо заскочил в тележку: «Бери вожжи, Витя, поехали! На пруд давай!», – и стал мять в стороны гнутую свою покупку.
Днём раньше дед Ефрем познакомился с новыми приезжими. Ими оказалась семья из Казахстана, занявшая один из корпусов бывшего пионерского лагеря. Поинтересовавшись, гостеприимства ради, судьбой и «ситуацией» в ближнем зарубежье, а также причинами приезда, профессиональной принадлежностью главы семьи и его супруги, детьми и планами на будущее, он наметил пару личных выводов.
Не менее всего занимали благожелательного старика условия заселения приезжих. «Это хорошо! Пригляд будет»: дед Ефрем узнал также, что здесь они на неопределенный срок, жить будут в аренду, что непременно хотят строить свой дом или, даст Бог, купят что-нибудь доброе, но для начала надо определиться с работой. Им уже до переезда обещали место в саду на поливе. Растениеводство при лагере поднималось несколько лет; давало урожай разной культурной ягоды, облепихи, яблок. Только орошалось нынче всё единственной оставшейся целой поливной системой, питающейся из искусственного пруда. Работа эта была сезонной, поэтому глава семьи думал устроиться на постоянную в фермерское хозяйство.
О создаваемом фермерском хозяйстве дед Ефрем слышал не первый раз, но нового про это дело приезжий ничего не рассказал.
Подъехав к пионерскому лагерю, дед Ефрем без труда попал на территорию: надо было только раскрутить проволоку на воротах. Остановив лошадь у крайнего домика, он разнуздал её, закрепив верёвкой дистанцию и пустил пощипать травы.
Территория уже прилично заросла. Сорняк можно было повыдергать довольно быстро. Молодая поросль клёна и берёз тоже поддалась бы крепким рукам. Асфальтированные дорожки пришлось бы подлатать.
Двери в свободные пять корпусов были закрыты. Походив вокруг, заглядывая в окна, он обнаружил пару из них разбитыми – тех, что были с тыльной стороны и глухо закрывались деревьями. В этих домиках с потолков свисали кишки оторванной проводки, чернели дыры на месте розеток и включателей, на полу в одной из комнат лежала треснувшая потолочная лампа.
– Что, Витенька, не уморился на солнышке? – подошёл к бричке дед Ефрем. – Ну-ка, на! – покопавшись руками в соломе, накиданной сразу за сидушкой, дед доставал гвоздодёр, топор, потрогал и оставил на месте ломик. – Давай-ка мы с тобой шиферок вон тот сымем, с прихожки. Сколько там будет: раз, два, три… семь штук. Да в два. Четырнадцать. Только аккуратно, не сломи уголки.
На работу высокого парня и машущего руками старика поглядывала, время от времени, новая хозяйка дальнего корпуса, выбегающая на улицу набрать воды.
На землю было уже спущено несколько листов, когда дед Ерфем услышал свист тормозов. Колхозный УАЗик, пролетающий мимо, резко дал задним ходом и подвернул к забору, как раз туда, где шла работа.
– Эта что за хренатень?! – заорал, выскакивая из кабины, Михаил Викторович. – Кто разрешил! Щас же всё обратно!!
– Ну-у!.. – заёрзал от неожиданности поворота дед Ефрем.
– Обратно всё я сказал!
– Мишенька… – пытался что-то сказать Ефрем, но Михаил Викторович резко перебил его:
– Я вечером всё проверю! Обратно я сказал! – проорал Михаил Викторович и, матерясь, заскочил в машину.
Подняв пыль, УАЗик быстро помчался дальше, подпрыгивая через засыпанную по дороге трубу, тянувшуюся от пруда на несколько километров до реки. Через некоторое время, сопровождаясь бурчанием деда, шифер вернулся на место.
Выезжая из лагеря, недовольный, разозленный старик, остановил лошадь и закинул в тележку моток алюминиевой проволоки и обрезки арматуры, сложенные у ворот. Присыпав их соломкой, он взялся за вожжи и повёл вдоль пруда. «Э-эх, Витенька, смотри что делается…» – заговорил опять дед, чуть успокоившимся голосом, и кивнул в сторону пляжа. Деревянные грибочки, сооруженные когда-то на завезённом песке, опустили головы, один почти совсем свалился, зацепившись уголком за выцветший столбик. Пляж пробивали молоденькие топольки, занимая всю левую сторону берега. Витя покосился куда указал дед и зажевал сало из своего пакета.
7
В «колхозе», куда Катя снова отправилась на следующий день, ничего не предложили и не пообещали. Там почти никто не работал: собравшись на первом этаже, люди обсуждали вчерашние новости о погибших в «горячих точках», забастовках учителей и медиков и новую о чьей-то голодовке. Куда это идти к фермерам, как наотмашь посоветовала давеча мама одноклассницы, она не понимала. Но успела получить дельную подсказку: что всё может пояснить Михаил Викторович, младший брат которого Александр имеет отношение к новому самостоятельному хозяйству. Кто такой Михаил Викторович Щербинин не знали только малые дети, которым ещё рано было проникнуться понятиями каменного уважения. Услышав это имя, Катя растерялась и заметила в себе испуг, ведь решать свой маленький вопрос пришлось бы ей самой у такого большого человека. Что ему до неё? И страшно и неловко подойти. Как вообще говорить? Просто попросить помощи? Для того, чтобы попасть к нему нужно было снова вернуться в «колхоз», там Михаил Викторович был главным.
По дороге Катя вспоминала упомянутого Александра. Она видела его пару раз и приметным он стал не только для неё не столь выделяющейся активностью, которая для девочки ничего не значила, но невиданным своим автомобилем – первой иномаркой в этих местах. Эту удивляющую видом и бесшумностью машину мальчишки часто обсуждали в школе и всегда останавливались на улице поглазеть и мечтая о такой же.
Перешагивая через сбитые тяпками сорняки, ковыряющие потрескавшуюся дорожку, Катя направлялась домой. Навстречу ей торопливо шагали Лариса Сергеевна и Виктор Дарович (все в селе его почему-то звали только по имени-отчеству) – худрук и директор Дворца культуры. Они шумно обсуждали детали выпускного вечера и совсем не замечали девочку, которая когда-то успела походить к Ларисе Сергеевне на вокал.
«И спали даже на лавках на стадионе!» – возмущался и махал одной рукой директор, другой тесно прижимал к себе толстую папку с выглядывающими уголками потрепанной бумаги. «Это ж надо! Срам какой!» – поддерживала Лариса Сергеевна. «Так напиться!». «Дети ещё!». «А я и говорю! Куда смотрит администрация?!». «А родители? Учителя? Позор какой!» – раскачивала головой женщина, принимая джентельменскую уступку Виктора Даровича, перешагивая через железные ступеньки, которыми заканчивалась дорожка и начиналась площадь. «А вы были на проводах у Миллер?», «Нет. А вы?», «Тоже. Мы мало общались», «И эти в Германию подались…». Дальше Катя уже не расслышала.
Подойдя к брошенным на землю тяпкам и сидевшим неподалеку рабочим, девочка сделала ещё одну попытку и спросила: «А можно я буду вам помогать?». «Закончили уже» – ответили отдыхающие и принялись собирать зелёные кучки. Кто-то хлопнул окошком, закрывая его изнутри большого кабинета на втором этаже «колхоза». «Заходите же!» – расслышала оттуда Катя недовольный мужской голос.
8
– Ну, что, товарищ участковый? Проблемы? – спросил сердитый с утра руководитель «колхоза» – Михаил Викторович.
– Ну, как… С горючим бы порешать.
– С горючим! А что там вам, Дмитрий Николаевич, не дают? – начал привычные темы Михаил Викторович, прекрасно зная, чем закончится весь разговор.
– Михал Викторыч, сами всё знаете.
– Знаю. – Михаил Викторович поводил недовольно усами, которые отпускал раз в пару лет. – Машина есть, значит заправлять надо. Не было б машины – пешочком. Куда проще!
– Пешочком много не находишься. А работы много.
– Какой такой работы у нас в селе?
– Побои, угрозы, кражи там… много всякого…
– На побои, угрозы… можно и ножками пройтись! Чего там ваше начальство сами не хотят решать? Ты сколько лет в милиции? Год-два?
– Два с половиной почти. – отвечал молодой участковый, поёживаясь в своей форме. Несколько минут оба молчали, поглядывая друг на друга.
– Выпьешь? – спросил глава, глядя на то, как вновь назначенный незадачливый участковый теребит свой портфельчик тонкими почти женскими пальчиками. Михаил Викторович непонятно для Дмитрия Николаевича покачал головой, от чего тот ещё больше сконфузился и рад был, казалось бы, уйти сразу, но надо было разрешить вопрос.
– Я на работе. Потом мож как-нибудь. – ответил неуверенно молодой проситель.
– Он ещё отказывается! – Михаил Викторович помялся на стуле, поглядывая под стол, и опять завёлся: – Вот у Макаровых корова пропала! Из стада возвращалась, видели, домой шла. А где она? Третья неделя пошла. Когда найдёшь? У Маслянкиных тёлка, у Шестаковых. Где работа? «Много» работы? Бензин нужен, чтобы найти? Скотина в стаде не пропадает. Домой приходит! – заведясь, почти орал Михаил Викторович. – Это соседей проверять надо. Соседей! Проверял?
– Ну, да.
– И чего?
– Да нет ничего. – виноватым голосом отвечал Дмитрий Николаевич.
– Мясо кто, когда сдавал знаешь?
– Ну да. Но это ещё доказать надо.
– Ну так доказывай! Люди ко мне с жалобами и просьбами идут. Я твою работу должен делать! Это ты мне должен бензин давать. И приплачивать! «Сигму» под боком утащили. Целиком! Чем сад поливать? – Михаил Викторович злился всё больше, чередуя претензии матом. – Мне эту проблему сунули и теперь кому искать? Вон под дверью опять толпа, как к Ленину! Останешься сейчас и послушаешь! А потом про бензин спрашивай.
– Викторыч, но по водокачке нашли же кто!
– А толку! Вернут теперь её? Где насос?
– Увезли в…, – не успел договорить участковый, Михаил Викторович резко его перебил:
– Куда увезли я знаю! Да её уже распилили ко всем собачьим! Как теперь собрать и привезти, можешь сказать?
– Ну да, следственные…
– Пока доказывать будешь – растащат весь лагерь! Вот заселю тебя в пустой корпус и следи день и ночь. И бензина не надо будет! Толку больше! Нужно работать – предотвращать, а не опосля бегать. Не набегаешь потом! С народом работать надо! Заранее знать: чего хотят и что, где могут!
Тут раздался стук, отворилась дверь и в кабинет вошёл молодой человек, одним кивком головы обозначая приветствие и извинение за вторжение. Твёрдые шаги разбили незаконченный разговор.
– Ладно, Дмитрий Николаевич… – внезапно изменился Михаил Викторович, словно вспомнил о чём-то важном, увидев вошедшего. – Спрошу за всё! И к начальству вашему загляну… – оставаясь в суровом голосе он завершил: – Зайдите в бухгалтерию, пусть 20 литров выпишут. На этого, как его… На бригадира скажи! – махал на дверь рукой Михаил Викторович. Участковый поднялся, пожал всем руки и поспешил к выходу.
– Доброе утро! – начал вошедший и уступил: вслед за ним проскочили несколько человек. Разобрав по-быстрому кому чего у начальника «колхоза» снова остались двое – он сам и его брат Александр Викторович.
– Доброе, начальник! – ещё раз поприветствовал Александр.
– Добрее не бывает.
– Чего такой злой?
– Надо постоянно не высыпаться, чтобы не быть слишком добрым. – пробубнил Михаил Викторович, недовольно и суетливо поглядывая по рабочему столу.
– Гагик скоро подъедет.
– Да идите вы все!.. Вместе со своими гагиками!
– Ты чего? Миша! Обо всем уже договорились. Ты чего опять прыгаешь, не могу понять?
– Руки то не горят? Глотка как у… мало фабрики в городе?
– Тихо, не ори! Мне глубоко почерту твоя дерготня. Хочешь или нет, всё будет так как договорились. Понял!?
Михаил нервно елозил на стуле, передёргивая туда-сюда сложенные малочисленные бумаги. Его младший брат – Саша, которому чуть за тридцать, среднего роста, некрепкого, но уверенного, жилистого телосложения, уселся на деревянный стул, каких было десятка с полтора в кабинете, покачиваясь и сжав губы, в упор глядел на брата.

