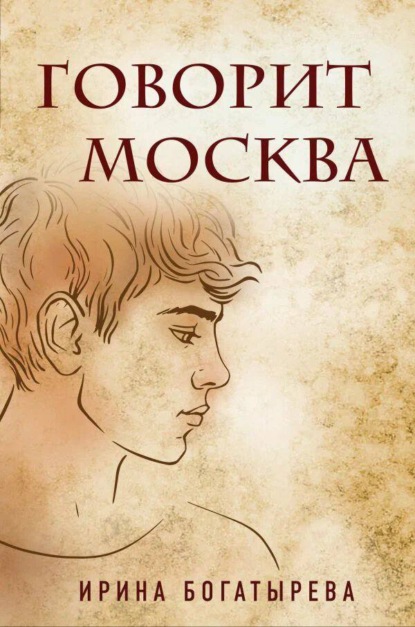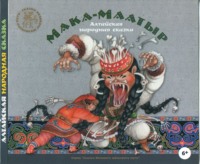Полная версия
Ведяна
– Первое, Степанида Борисовна, – не сдержался Рома.
– Ха! У тебя с памятью что-то? Это уже в очередной…
– За месяц – первое, – повторил он спокойно. – Сентябрь сегодня начался.
Выгораживать себя или оправдываться он терпеть не мог и никогда этого не делал. Говорить же, чем занимается в рубке по вечерам – или даже ночами, как вот сегодня, – не хотелось. Не то чтобы он этого стеснялся. Просто давно решил, что это не их дело. И пусть себе думают, что хотят.
– Ладно. Расскажи-ка лучше, что ты за нововведения вчера предлагал? – тихо спросил вдруг Сам, как всегда, не глядя на собеседника. Была у него такая манера: разговаривая, глядел левее, даже встать мог вполоборота. – Какую ещё технику, имеющуюся в распоряжении, мы не используем?
Рома посмотрел с недоумением. Он понятия не имел, что наврали Саму, а гадать не хотелось.
– Что именно, Александр Александрович?
– Это я тебя хочу спросить, что именно. Что именно тебя не устраивает в работе нашего ДК, если ты полагаешь, что мы не полностью используем выделенное нам государством оборудование?
По дрожанию голоса Сама Рома понял, что тот начинает закипать. А это плохо. Потому что орущая Стеша – это норма, а вот закипающий директор – чревато.
– Александр Александрович, я не знаю, что вам передали, но отвечать за чужую фантазию я…
– Ты хочешь сказать, что этого не было? – перебил Сам, быстро бросив прямой взгляд и снова отвернувшись.
– Я не хочу сказать. Я не знаю, что вам рассказали, а потому не могу судить, насколько это соответствует…
– То есть ты хочешь сказать, что вы с Капустиным вчера не пили? – вмешалась Стеша. – И по фойе с флагами не бегали? И баян не брали?
– Степанида Борисовна, вы же знаете Капустина, – сказал Рома. – Вы можете представить, чтобы он бегал? Тем более с флагом? А баян был забыт в зале, я его в кабинет уносил. Когда и встретил Сергея Германовича здесь, в фойе.
Рома сам себе подивился, что вспомнил у Кочерыги не только имя, но и отчество. На что только ни способен мозг в стрессовой ситуации.
– Ну вот, всё сходится! – победно просияла Стеша и даже взглянула на Сама. Тот быстро отвернулся. По его лицу было ясно, что он давно всё понял и только одно пытается прояснить.
Вопрос: что.
– Но это не значит, что я с ним пил, – спокойно заметил Рома.
– Капустин у себя в каморке, без задних ног. Я проверяла, – сказала Стеша. Не ему, конечно. Саму.
– Прекрасно. Но я-то не без задних ног.
Стеша зависла, глядя на Рому, потом набрала уже в грудь воздуха, но Сам её перебил:
– Хватит уже этих разборок: пил – не пил. С этим всё ясно. Ты мне лучше вот что скажи: что с краном не так? Что тебе надо от крана?
И обернулся к Роме, даже взглянул прямо. А это значило, что кран – действительно важно, что у него и правда душа болит: Сам хотел быть хорошим директором, по-настоящему, и ему мучительно было знать, что в его хозяйстве что-то не так.
Но Рома не понимал. Он действительно не понимал, о чём речь.
– Какой кран, Александр Алексан?..
– Операторский! Операторский, черт бы тебя побрал! Который в зале, под потолком! Что! Я спрашиваю! Что тебе не хватает? Как, ну как, скажи ты мне, его можно использовать? Приедет телевидение, будет трансляция – вот и будем использовать! А сейчас – как?
– Ах это! – У Ромы даже от сердца отлегло, когда он понял, о чём речь. И тут же поразился: ведь про кран говорилось не вчера, не с Капустиным и вообще не здесь. Выходит, Настучалло так долго это носил, выгадывал, как получше подсунуть. Гнида, подумал Рома беззлобно. – Да всё просто, Алексан Алексаныч. Кран можно было задействовать… ну, например, в постановках. Он прочный, реквизит выдержит. И спускается от самой рубки, очень удобно. Мне показалось, что это могло быть эффектно, например, если во время спектакля какая-нибудь там… ну, Баба-яга, условно, пролетала бы в ступе над всеми зрителями. Ну, как делают, знаете? Fantom of the Opera, типа такого.
– Это что? – с недоверием покосился Сам почему-то на Стешу.
– Это что? – спросила она в свою очередь Рому с угрозой.
– Ну, мюзикл. На Бродвее. В Нью-Йорке.
– А-а, – протянул Сам. Нью-Йорк его не интересовал как несуществующее пространство. Вот если бы Рома сказал: в райцентре. Или, на худой конец, в Москве. А Нью-Йорк – ну, что с него взять. – Хорошо. И как ты намерен на нём летать над залом?
– Летать? – не понял Рома. – Я? В смысле – летать?
– Летать, летать. В прямом смысле. Ты, говорят, похвалялся, что на кране этом можно над залом летать. И намеревался это сделать. Пока никто не видит.
– Что за бред? – Рома фыркнул. Идея звучала настолько идиотично, что даже серьёзно подумать об этом он не мог. – Это что-то уж вам… совсем загнули, Алексан Алексаныч. Кто же будет на кране летать? Это только для реквизита, при постановках, чтобы…
– А кстати, о постановках, – перебила его Стеша. – Ты знаешь, Судьбин, тебе крепко повезло. В том смысле, что у нас на тебя уже были планы. И хотя твоё поведение ставит под сомнение твоё дальнейшее пребывание в наших стенах…
– Хватит, Степанида, не надо. – Сам болезненно поморщился. Рома про себя выдохнул. Значит, пронесло, директор уже всё решил и никакой ход история иметь не будет. Ну и славно.
Он с чистой совестью воззрился на Стешу.
– Так вот, – продолжала та. – У нас в этом году расширение. В рамках развития национального искусства и культуры. Год национальностей, как-никак. А театра итилитского нет. Большое упущение!
– Большое, Степанида Борисовна, огромное. – Рома покачал головой, изо всех сил делая серьёзное лицо.
– Так вот, мы решили его организовать, – не замечая, гнала своё Стеша. – При кружке любителей итилитской словесности. Который теперь будет базироваться у нас в ДК.
– ЛИС? – удивился Рома.
– А, так ты знаешь? Тем лучше.
– Отчасти. Ходил когда-то. В школе. И мама тоже…
– Да-да, Любовь Петровна говорила мне, что у них была твоя мать. Я забыла. Ну, тем лучше. Там, как ты знаешь, не хватает специалистов по языку. Честно признаться, их вообще нигде не хватает. А если выходить на областной уровень, если ставить спектакль, нужен хороший консультант. Нельзя же, ну, ты сам понимаешь…
Рома кивал. О том, что в ЛИСе, в клубе любителей итилитской словесности, мало кто говорит по-итилитски, он прекрасно знал. В его время таких людей было пятеро, кажется. Включая его и мать. Что там сейчас происходит, он мог только догадываться. Сама Любовь Петровна, бессменная руководительница, была русская, итилитская вдова. По-итилитски она не говорила, хотя понимала, и тогда, пятнадцать лет назад, пыталась учить своих детей языку отца, была у неё такая гуманистическая идея. Рома помнил глубоко тоскующего Митяню и гиперактивную Тусю, которые не принимали участия в жизни кружка, но приходили, как повинность тащили. Любовь Петровна считала, что они могли нахвататься языка пассивно, просто присутствуя на заседаниях клуба. Как это могло бы произойти, Рома не представлял: итилитский звучал там, только когда начинали что-то читать, а это происходило нечасто.
– Короче, мы тебя хотим к ним приставить, – закончила Стеша. – Ты же язык знаешь? Будешь помогать.
– Хорошо, – Рома пожал плечами. – Почему бы нет. А что именно…
– Я тебя даже сейчас кое с кем познакомлю. Пойдём.
И она стала спускаться, ни секунды не сомневаясь, что Рома последует за ней. Рома последовал. Уже внизу вспомнил и обернулся: Сама не было. Ушёл тихо и незаметно. Как всегда.
Торговля в фойе шла полным ходом, но Стеша плыла через толкучку как ледокол. Где-то у окна слышались странные звуки, там что-то звенело, грустно и низко вздыхало или вдруг пронзительно и гадко взвизгивало. Стеша правила туда. Наконец обзор открылся, и стал виден стол, окружённый людьми, в первую очередь младшего школьного возраста. Они издавали какие-то звуки: трещали трещотками, звенели звенелками, дудели в дуделки. Один мальчик лет десяти, откормленный и ухоженный, поднял над головой и раскрутил какой-то шланг, и тот завыл противным голосом. Мальчик смеялся, в отличие от его мамы, которая нервно пыталась перехватить его за руку. Но мальчик быстро потерял интерес к шлангу, кинулся снова к столу и уже через секунду отделился с большущей колотушкой, похожей на разделочную доску с прикрученной к ней деревяшкой. Деревяшка ударяла по доске, выдавая адский треск.
– Положи немедленно! – прыгала вокруг мамаша. – Где это лежало?
– Ну, ма-ам, – ныл малец, пряча колотушку за спину. – Купи-и!
– Вот ещё! И не подумаю! Сейчас же положи где взял!
Стеша протолкалась сквозь гудящую толпу и остановилась у стола.
– Здравствуйте, Александр Борисович. Вот, знающего человека вам привела, как и обещала, – услышал Рома и стал проталкиваться мимо пары, перетягивающей колотушку.
За столом оказался бородатый мужик в белых льняных штанах и рубахе, с очельем из бересты, перехватывающим седеющие тёмные волосы. Девяносто процентов народных мастеров на ярмарке выглядело так. Наверное, пытались подтвердить свою народность.
– Роман, – представляла тем временем Стеша, – специалист по национальной культуре. А это Александр Борисович, мастер-реконструктор. Основатель клуба восстановления… ну, как вы там?..
– Клуб «Живая Итиль», – пришёл на выручку мужик и протянул Роме руку. – Очень, да вот, как бы это. Просто можно дядя Саша, чего бы так-то.
Рома пожал руку. Мельком посмотрел на часы, думая, как бы уличить момент и слинять. Сказать, что ли, что Тёмыч лютовать станет? Ага, Стеше это прямо интересно…
– Клуб очень нужен нашему региону, – чесала она тем временем своим чиновничьим языком, без труда перекрывала творящийся вокруг бардак. Притихла даже пара с колотушкой. – Культура, искусство. Собрались энтузиасты. Вместе с ЛИСом решили театр создать. Потому что, как мы понимаем, реконструкция – это хорошо, но живое звучание слова, особенно со сцены, – это совсем-совсем другое…
– Живое звучание? – Рома даже проснулся. – Так кто же поймёт?
Стеша быстро обернулась на мастера. Похоже, до сих пор ей это в голову не приходило.
– Ну, так были же какие-то идеи, я правильно понимаю, Александр Борисович? Как-то так, по-особому…
– Да, да, у нас всё, чтобы сделать, а потом сюжеты такие, и ещё, ну, бытовые, это чтобы уж всё…
– Короче, я вас оставляю, вам есть о чём поговорить, – и Стеша поплыла в многолюдное море фойе.
Засим и нам можно откланяться, решил Рома и хотел тоже прощаться, но дядю Сашу как раз отвлекли, спрашивая про инструменты.
– Дерево, глина, береста, – говорил он, любовно касаясь разложенных перед ним свистулек и бренчалок. – Наши предки были… что могли достать… простые материалы.
– А это что? – спрашивала женщина, указывая на посох в дяди Сашиных руках – суковатую тяжёлую палку с бубенчиками и цветными лентами.
– Шуурда́н. – Дядя Саша потряс и звонко стукнул об пол. – Ведуны ходили, чтобы…
– Это как по-нашему? – переспросила женщина.
– Это и есть по-нашему, – сказал Рома. Дядя Саша быстро глянул на него и улыбнулся с болезненной благодарностью.
– Пастухи, которые по лесу, волков пугать чтобы можно, скотину там, ну, всяко гнать. Такая вещь, это прямо не пропадёшь чтобы. – Дядя Саша говорил, мучительно подбирая слова и путаясь в грамматических оборотах, но Рома понял, что это не оттого, что плохо знаком с русским, а от природной стеснительности. Как такой человек мог основать какой-то там клуб и заниматься общественной деятельностью, у Ромы в голове не укладывалось.
– А при чём тут ведуны? – не унималась женщина.
– Пастух с нечистой силой знался, – взял на себя инициативу Рома. Ему показалось, что дядя Саша выдохнул с облегчением. – Он в лесу большую часть времени проводил. Всё время со зверьём. Вот и считалось, что он и лечит, и ворожбу наводит. И знает, кому шепнуть, кому бражки капнуть, чтобы приплод был хороший, чтобы со скотинкой ничего не случилось. Ну и, опять же, чтоб медведь не задрал.
Женщина кивала, не отнимая глаз от инструментов, и было видно, что почти не слушает. Кто-то спросил о ценах,мамкупи снова нудело под боком. Рома начал сдавать из толпы задом.
– Мам, купи! – вдруг взвизгнуло особенно требовательно, и что-то мелькнуло перед глазами у Ромы. Но быстрее мамы отреагировал дядя Саша – он буквально метнулся и выхватил инструмент у ребёнка.
– Это нет, нельзя, это особое, такие чтобы в руки – нет, иначе нехорошо, – забормотал Саша в крайнем смущении, но решительно засовывая инструмент себе за пояс.
– Почему это нельзя? – завелась мамаша. – Что же вы на столе кладёте, если нельзя?
– Не кладу, не кладу. Показывал, люди были, а так нет. Только в руках, и нельзя, звуков нет – это особое, чтобы такое…
– Виталя, пойдём, – скомандовала мать и потащила сына прочь. Он заверещал как резаный и гирей повис у неё на руке, подгибая ноги.
– Это но́йда, да? – спросил Рома. Он не сводил глаз с инструмента.
Дядя Саша вздрогнул:
– Вы знаете? Нойду знаете? – Лицо у него осветилось. – Это же, если просто так пойти искать, не всякие расскажут, забылось, а где и так: прятали, передавали только самым-самым, чтобы в чужие руки – ни-ни.
– Дед рассказывал, – кивнул Рома.
– И́тили чек? – спросил неожиданно дядя Саша, и Рома не сообразил, о нём или о деде.
– Та, – кивнул. Но уточнил на всякий случай: – О́пара ба.
– Не понял, – признался дядя Саша и смутился.
– Наполовину: отец русский. Мать из деревни была, там все итилиты.
Дядя Саша покачал головой – с завистью, как показалось. В этот момент рядом стали расплачиваться за свистульку, он переключился, но вдруг, не глядя, вытащил из-за пояса дудку, быстро всучил Роме и снова занялся покупателем.
Рома замер, держа нойду на раскрытых ладонях. Небольшая, с коровьим рожком на тонкой шейке – собственно тростниковой дудочке с четырьмя отверстиями и маленьким, на взгляд хрупким пищиком. Было видно, что инструмент старый, единственный настоящий из всего, что на столе. Затасканный, потемневший от рук, он всё же выглядел ещё очень хорошо. И наверняка звучал. Должен был звучать, для этого у него всё было, Рома видел на глаз, хотя сам бы не решился попробовать – даже на него, впервые держащего дудку в руках, действовал впечатанный в памяти запрет – на нойде играть в доме нельзя, просто так нельзя, кому ни попадя нельзя. Только хозяин, ки́риди чек – пастух, скотий человек, да и то не всякий: не у каждого была нойда, и она сама становилась как бы знаком избранности. Потому что слышат еёна той стороне, ко та́рабà, и если незнающий заиграет, ещё неизвестно, что выйдет.
Рома почувствовал, что дядя Саша пристально за ним наблюдает, поднял глаза и протянул дудку обратно:
– Уникальная вещь.
– Чем? – спросил дядя Саша. Рома растерялся. Показалось, что он его тестирует.
– Ну, как. Говорят, она не для людей.
– Так это про любое скажи, – отмахнулся дядя Саша. – Шуурдан вот – для ветра, – он потряс снова посохом. – Болезни отгонять. Тараре́зь, – он показал на доску-колотушку, – для духов зелени, обходили пашню по весне. Уточки из глины – это вообще понятно, не надо говорить… – Он кивал на инструменты, как на давних знакомых, которых и представлять не надо. – А нойда – другое. Все говорят, а не знает никто – чего, как…
– Так ведь пастухи… – пожал плечами Рома. Ему не хотелось про это говорить. Не здесь и не сейчас, по крайней мере. Не при людях.
– Так пастухи – чего, ну, да, пастухи… Нойда – не у каждого же. Была же ещё а́бидазь, ну, эта вот, труба, из осины которая.
Он вытащил из кучи большой рог из осиновой коры, потряс перед Ромой.
– Реки мать знаешь? Ведь ама, – неожиданно ляпнул он и тут же прикусил язык. Вот кто тянет?
– Ну, – кивнул дядя Саша, но смотрел без понимания. Нет, не знает, понял Рома. Про Итиль, которая собирает свои стада – зверей и рыб, – как раз этим рогом, и он разве что не более оберегаемый, чем нойда, – не знает.
Ну и пусть. Нельзя.
– Ну, вот. – Рома вскинул глаза на часы. – Ладно, пойду я, концерт у нас…
Но дядю Сашу было уже не успокоить.
– Эй, погоди. Так чего?
– Чего – чего?
– Мать реки – знаю. И нойда чего?
– Говорят, еётам слышат. – Рома выдавил и поперхнулся. Всё, больше ни-ни. Теперь так точно нельзя. И так много сболтнул.
– Нойду?!
Дядя Саша покраснел, как будто задохнулся. Прижал руки к груди, закивал головой, как заведённый. Рома почувствовал злость.
– Я – никому. Могила! Никому, я, чтобы, так же…
– Никому… Народу – толпа, – прорычал Рома. – Ладно. Пора мне.
И развернулся, пошагал к лестнице. На душе стало противно, будто сделал что-то гадкое.
– Эй, стой! Погоди! – услышал в спину. Обернулся – дядя Саша проталкивался к нему. – Погоди. Вот. – Протянул нойду. – Бери.
– Да вы что! Нет, я не могу. Это же музейный экспонат. Это… – Рома так растерялся, что даже потерял всю свою убедительность.
– Бери, бери. Я не играл. Никто не играл. А ты… Ну, кто знает, у тех должен… Нам нельзя. Бери. Да потом, потом!
И дядя Саша суетливо, не глядя в глаза, сунул дудку Роме в руки, развернулся и поспешил к своему столу. Рома с недоумением смотрел ему в спину.
Через несколько часов тот же вестибюль был пустой и гулкий, как баррель из-под иссякшей нефти. Торговцы давно свернулись, унесли с собой и столы, и растяжки. Синюю женщину сняли и утащили в подвал до следующего праздника. Одна тётя Лена меланхолично шваркала по полу мокрой шваброй, метя перед собой сор.
Чек аккаре́з, тиль реве́з, – крутилось в голове. Как это перевести? Человек… что? Смертен? Нет, умирает, Человек умирает, а река течёт. Ами так говорила. Ни к чему, просто так, без повода. Вот и сейчас всплыло без повода. Чек аккарез каждый день, ну а тиль всегда ревез. Что ей ещё и делать.
В будке у входа горел свет, журчал телевизор, там копошился Капустин, он же Кочерыга – недавно проснувшись после вчерашнего, он ещё только собирал свою реальность, и она ему явно не нравилась.
– Чё торчишь, не придёт никто, смотри, темь какая, и дождь ещё этот, – ворчал из будки, как из панциря, не высовываясь.
– Не кончился?
– Какой! Только шибче.
Рома кивал. Прислонившись к будке боком, он видел входную дверь и часы на стене. Белый шум от телевизора в вахтёрской метался по пустому пространству. Нервы у Ромы были подтянуты, и шум только сильнее щекотал их. Он любил ночной ДК, любил оставаться здесь один, любил это чувство преданного королевича в спящем заколдованном королевстве. Он ощущал тогда скрытую власть над предметами и местом.
– Что, здорово мы вчера нарезались? – говорил Капустин, продолжая устраиваться в будке, как старый пёс, не находящий больным костям места. Он попытался натужно рассмеяться и закашлялся.
– Не мы, а ты, – равнодушно поправил Рома.
– На рогах, говорят, по всему ДК ходили.
– Не мы, а ты, – сказал Рома.
– А со Стешей ты без меня уже посрался?
– Это с чего бы вдруг?
– Ну, говорят. Ты ей вроде бы сказал что-то, она в крик. Еле успокоили. Велела на глаза не появляться.
– Да? Как интересно. А почему она меня не уволила?
– Почём я знаю. Хотела, говорят, а Сам заступился. Видно, ты ему чем-то приятен.
– Очень, очень интересно. А кто всё это говорит?
– Люди. А что, правда ты летать ещё собирался? – Капустин аж высунулся из будки. Оплывшая рожа с клочковатыми усами и бородёнкой выглядела фельетонно. – На кране. Говорят.
– Говорят, в Москве кур доят, – сказал Рома и вспомнил Тёмыча с такими же любопытствующими глазами. О, итилитские боги… Выдуманные все до одного. – Неправду тебе наврали. Это ты собирался. И не просто собирался, а уже летал. Не помнишь?
– Не помню. – Капустин вылупился во все глаза. – Совсем. – Он скорбно помотал головой и скрылся.
– А всё остальное, значит, помнишь, да, Кочерыга?
– Ну, не так чтобы… Но как пили…
– Как пили, помнишь? Со мной?
– Ну… – Капустин замолчал. В будке что-то загрохотало. На часах большая стрелка качнулась как бы в раздумье, сорвалась с нулевой отметки. Восемь ноль одна.
– Ты особо-то наш серпентарий не слушай, – сказал Рома. – Тут тебе и не такое нашуршат.
Капустин вроде что-то отвечал, но за шебуршением было не слышно. В этот момент подалась входная дверь, и Рома отлип от будки.
Входила Любочка.
– Привет! – протянула, увидев его, и разулыбалась. Перед собой она несла мокрый зонт, с него текло на пол. Первый порыв был таким образом остановлен, Роме пришлось обогнуть зонт и приблизиться к Любочке с левого фланга. Она позволила ритуально поцеловать себя в щёчку. – А ты меня ждёшь? Я думала, ты там где-то. Я же вроде опаздываю. Пока Вовку к бабушке, пока то да сё…
– Да ладно, нормально. Идём. – Рома подхватил её под руку и повел к лестнице. Разговоры про Вовку он не любил, но краем сознания отметил, что тот у бабушки. Это кстати.
– А что, больше никого нет? – спрашивала Любочка, торопливо поспевая за Ромой по пустому ДК.
– Почему нет? А я?
– Ну, это понятно. А ещё?
– Тебе ещё кто-то нужен?
– Ой, погоди, я же не заплатила! – Остановилась на последней ступеньке.
– Пойдём, пойдём. – Рома повлёк её снова. – Всё оплачено. Места для поцелуев, лучшие в зале. Я шучу. Идём, время.
Коридоры были наполнены только собственной пустотой. Рома ввёл Любочку в зал, где пустота была другая – бархатистая, притушенная, мягкая.
– Вот, садись. – Провёл на крайний верхний ряд и посадил по центру. – Лучшие места, честно. Лучше только у оператора. Сиди, я метнусь, всё заправлю и упаду рядом.
Любочка, вдруг притихшая в этой мохнатой тишине, хлопала на него глазами. Рома быстро вышел. У него уже всё было готово: фильм на паузе, только кнопку нажать, погасить свет, развести занавес, спуская белое полотно задника, подождать пять секунд, пока успокоятся волны на ткани, – и понеслась.
Рома любил эти моменты. Они оправдывали всё: эту работу, ДК, сам город и собственное возвращение. Потому что в эти моменты ему казалось, что он держит в руках своё призвание. Идиотское ощущение, если вдуматься, потому что если его призвание было крутить киношки в пустом зале ДК «Итилиточка», то лучше было на свет не родиться. Но так Рома думал уже потом, когда пропадала магия и оставалось послевкусие, а в первый момент всё было чудом: он бог, и мир рождается движением его пальцев. Единственное, что смущало: редко мир рождался таким, каким бы ему хотелось. Обычно приходилось идти на поводу у публики и интересов ДК, ставить свежие комедии, американские боевики или российские мелодрамы. Но такова уж судьба бога – в мире должно быть всё, а не только то, что ему нравится. Сегодня, к примеру, была комедия по заказу Любочки. Сам он её не видел, но почитал анонс и понял, что видеть не хочет. Ну и ладно, он не за этим шёл сейчас в зал.
Постояв в дверях и позволив глазам привыкнуть к полутьме, Рома прошёл меж креслами и опустился рядом с Любочкой. Та уже пофыркивала, глядя на экран. Темнота озарялась вспышками мелькавших картинок, звук орал, так что можно бы и прикрутить, но Рома не стал. Во-первых, уровень громкости стандартный, просто зал пустой, поэтому кажется, что громко. Во-вторых, уходить снова уже не хотелось. Хотелось к Любочке.
Его прихода она как будто не заметила, поглощённая фильмом. Только слегка повела плечиком. Рома смотрел на её профиль, на мелькание света у неё на лице. Кожа тонкая, нежная. Волосы лёгкие, светлые, русые. Итилиточка, нет? Как бы всё же спросить?
– Нравится? – Рома склонился к самому её уху, вдохнул глубоко – пахло тёплым, домашним, сладким, будто бы пирожками, и ещё заметен был какой-то химический оттенок – наверное, остатки утренних духов.
– А? – Она быстро обернулась, скользнула по нему невидящими глазами и сразу же отвернулась.
– Фильм, говорю, нравится?
– А то! Чума! Третий раз смотрю. – Фыркнула и рассмеялась в голос.
Рома отстранился и посмотрел на экран. Муж пришёл домой, там жена с каким-то мужиком, говорит, отопление чинит, но мы-то знаем, что у них за отопление. Муж начинает бегать по дому, тут приходит тёща, и уже все вместе выясняют отношения. Битьё посуды, крики, перестрелка, но в конце лямур, хеппи-энд и торжество справедливости. Снято на цифру, смонтировано на коленке. Потерпеть в фоновом режиме Рома такое мог, но смотреть третий раз – это слишком.
Так что лучше об этом не думать. О состоянии мозга объекта, в смысле, лучше не думать.
Он снова обернулся к Любочке, но её лицо было искажено гримасой близкого смеха. Он взял её за руку. Она не заметила. На ней была лёгкая блузка, как сидела на работе в своей администрации, так и прибежала. Не отпуская тонких пальчиков, Рома скользнул другой ладонью по её руке, ощущая тепло кожи под полусинтетической тканью. Задержался на плече, погладил. Слегка коснулся шеи. На экране что-то брякнуло, Любочка фыркнула носом. Рома в задумчивости, неторопливым движением играл пальцем с лёгкими волосками, завивающимися у неё над ушком. Проследил взглядом, но блузка была слишком закрытая, никакого декольте. Как днём, оставалось любоваться на нежную шейку, ушко, локон – прям девятнадцатый век.