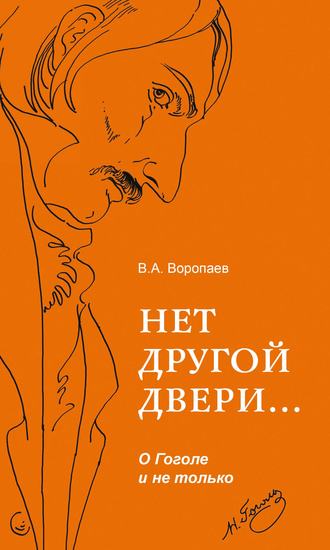
Полная версия
Нет другой двери… О Гоголе и не только
Атаман разбойников Копейкин, каким он изображен в народной песенной традиции, ногою оступился, рукою за кропкое деревце ухватился. Эта окрашенная в трагические тона символическая подробность и является главной отличительной чертой данного фольклорного образа.
Поэтическую символику песни Гоголь использует в описании внешнего облика своего героя: «ему оторвало руку и ногу». Создавая портрет капитана Копейкина, писатель приводит только эту подробность, связывающую персонажа поэмы с его фольклорным прототипом. Следует также подчеркнуть, что в народном творчестве оторвать кому-нибудь руку и ногу почитается за «шутку» или «баловство».
Гоголевский Копейкин вовсе не вызывает к себе жалостливого отношения. Это лицо отнюдь не страдательное, не пассивное. Капитан Копейкин – прежде всего удалой разбойник. В 1834 году в статье «Взгляд на составление Малороссии» Гоголь писал об отчаянных запорожских казаках, «которым нечего было терять, которым жизнь – копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти <…> Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников…».
Стараясь выявить социально-политическое содержание «Повести…», исследователи усматривали в ней обличение всей государственной машины России вплоть до высших правительственных сфер и самого Царя. Не говоря уже о том, что такая идеологическая позиция была просто немыслима для Гоголя, «Повесть…» упорно «сопротивляется» подобному истолкованию.
Принято считать, что под давлением цензуры Гоголь вынужден был приглушить сатирические акценты «Повести…», ослабить ее политическую тенденцию и остроту – «выбросить весь генералитет», сделать менее привлекательным образ Копейкина и так далее. Из писем Гоголя явствует, однако, что эпизод с Копейкиным был важен ему вовсе не тем, чему придавали значение петербургские цензоры. Писатель без колебаний идет на переделку всех предполагаемых «предосудительных» мест, могущих вызвать неудовольствие цензуры.
Созданная по законам сказовой поэтики (ориентация на живой разговорный язык, прямое обращение к слушателям, использование простонародных выражений и повествовательных приемов), гоголевская «Повесть…» требует и соответствующего прочтения. Ее сказовая форма отчетливо проявляется и в слиянии народно-поэтического, фольклорного начала с реально-событийным, конкретно-историческим. Народная молва о разбойнике Копейкине[20], уходящая в глубь народной поэзии, не менее важна для понимания эстетической природы «Повести…», чем хронологическая закрепленность образа за определенной эпохой – кампанией 1812 года.
В изложении почтмейстера история капитана Копейкина менее всего есть пересказ реального происшествия. Действительность здесь преломлена через сознание героя-рассказчика, воплощающего, по Гоголю, особенности народного, национального мышления. Исторические события, имеющие государственное, общенациональное значение, всегда порождали в народе всевозможные устные рассказы и предания. При этом особенно активно творчески переосмыслялись и приспосабливались к новым историческим условиям традиционные эпические образы.
Во всех трех известных редакциях «Повести…» сразу же после пояснения, кто такой капитан Копейкин, следует указание на главное обстоятельство, вынудившее Копейкина самому добывать себе средства: «Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде, гораздо после». Таким образом, инвалидный капитал, обеспечивавший раненых, был учрежден, да только уже после того, как капитан Копейкин сам нашел себе средства. Причем, как это следует из первоначальной редакции, средства эти он берет из «казенного кармана». Шайка разбойников, которой предводительствует Копейкин, воюет исключительно с казной. «По дорогам никакого проезда нет, и все это собственно, так сказать, устремлено на одно только казенное. Если проезжающий по какой-нибудь своей надобности – ну, спросят только: “зачем?” – да и ступай своей дорогой. А как только какой-нибудь фураж казенный, провиант или деньги – словом, все что носит, так сказать, имя казны – спуска никакого».
Видя «упущение» с Копейкиным, Государь «издал строжайшее предписание составить комитет исключительно с тем, чтобы заняться улучшением участи всех, то есть раненых…». Высшие государственные власти в России, и в первую очередь сам Государь, способны, по Гоголю, сделать правильные выводы, принять мудрое, справедливое решение, да вот только не сразу, а «опосля». Раненых обеспечили так, как ни в каких «других просвещенных государствах», но только тогда, когда гром уже грянул… Капитан Копейкин подался в разбойники не из-за черствости высоких государственных чинов, а из-за того, что так уже на Руси все устроено, задним умом крепки все, начиная с почтмейстера и Чичикова и кончая Государем.
Готовя рукопись к печати, Гоголь сосредоточивает внимание прежде всего на самой «ошибке», а не на ее «исправлении». Отказавшись от финала первоначальной редакции, он сохранил нужный ему смысл «Повести…», но изменил в ней акценты. В окончательном варианте крепость задним умом в соответствии с художественной концепцией первого тома представлена в своем негативном, иронически сниженном виде. Способность русского человека и после ошибки сделать необходимые выводы и исправиться должна была, по мысли Гоголя, в полной мере реализоваться в последующих томах.
В общем замысле поэмы сказалась причастность Гоголя к народной философии. Народная мудрость неоднозначна. Своей настоящей, подлинной жизнью пословица живет не в сборниках, а в живой народной речи. Смысл ее может меняться в зависимости от ситуации, в которой она употребляется. Подлинно народный характер гоголевской поэмы заключается не в том, что в ней обилие пословиц, а в том, что автор пользуется ими в соответствии с их бытованием в народе. Оценка писателем того или иного «свойства русской природы» всецело зависит от конкретной ситуации, в которой это «свойство» проявляется. Авторская ирония направлена не на само свойство, а на его реальное бытие.
Таким образом, нет оснований полагать, что, переделав «Повесть…», Гоголь пошел на какие-то существенные для себя уступки цензуре. Несомненно, что он и не стремился представить своего героя только как жертву несправедливости. Если «значительное лицо» (министр, генерал, начальник) в чем-либо и виновато перед капитаном Копейкиным, то лишь в том, как говорил Гоголь по другому поводу, что не сумело «вникнуть хорошенько в его природу и его обстоятельства». Одной из отличительных особенностей поэтики писателя является резкая определенность характеров. Поступки и внешние действия гоголевских героев, обстоятельства, в которые они попадают, – есть лишь внешнее выражение их внутренней сущности, свойства натуры, склада характера.
Образ капитана Копейкина, ставший, подобно другим гоголевским образам, нарицательным, прочно вошел в русскую литературу и публицистику. В характере его осмысления сложились две традиции: одна в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина и Ф. М. Достоевского, другая – в либеральной печати. В щедринском цикле «Культурные люди» (1876) Копейкин предстает ограниченным помещиком из Залупска: «Недаром мой друг, капитан Копейкин, пишет: “Не езди в Залупск! у нас, брат, столько теперь поджарых да прожженных развелось – весь наш культурный клуб испакостили!”» [21]. В резко отрицательном духе интерпретирует гоголевский образ и Достоевский. В «Дневнике писателя» за 1881 год Копейкин предстает как прообраз современных «карманных промышленников». «…Страшно развелось много капитанов Копейкиных, в бесчисленных видоизменениях.<…> И все-то на казну и на общественное достояние зубы точат»[22].
С другой стороны, в либеральной печати существовала иная традиция – «сочувственного отношения к гоголевскому герою как к человеку, борющемуся за свое благополучие с равнодушной к его нуждам косной бюрократией»[23]. Примечательно, что столь непохожие по своей идеологической ориентации писатели, как Салтыков-Щедрин и Достоевский, придерживавшиеся к тому же различной художественной манеры, в одном и том же негативном ключе интерпретируют образ гоголевского капитана Копейкина. Было бы неверным объяснять позицию писателей тем, что их художественное истолкование основывалось на смягченном по цензурным условиям варианте «Повести…»[24], что Щедрину и Достоевскому была неизвестна ее первоначальная редакция, отличающаяся, по общему мнению исследователей, наибольшей социальной остротой. Еще в 1857 году Н. Г. Чернышевский в рецензии на посмертное Собрание сочинений и писем Гоголя, изданное П. А. Кулишом, полностью перепечатал впервые опубликованное тогда окончание «Повести…», заключив его следующими словами: «Да, как бы то ни было, а великого ума и высокой натуры был тот, кто первый представил нас нам в настоящем нашем виде…» [25]
Дело, по всей видимости, в другом. Щедрин и Достоевский почувствовали в гоголевском Копейкине те нюансы и особенности его характера, которые ускользали от других, и, как это не раз бывало в их творчестве, «выпрямили» образ, заострили его черты. Возможность подобной интерпретации образа капитана Копейкина заключается, несомненно, в нем самом.
Итак, рассказанная почтмейстером «Повесть о капитане Копейкине», наглядно демонстрирующая пословицу «Русский человек задним умом крепок», естественно и органично вводила ее в повествование. Неожиданной сменой повествовательной манеры Гоголь заставляет читателя как бы споткнуться на этом эпизоде, задержать на нем внимание, тем самым давая понять, что именно здесь – ключ к пониманию поэмы.
Гоголевский способ создания характеров и картин в данном случае перекликается со словами Л. Н. Толстого, также высоко ценившего русские пословицы, и, в частности, сборники И. М. Снегирева. Толстой намеревался написать повесть, используя пословицу как ее зерно. Об этом он рассказывает, например, в очерке «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?»: «Давно уже чтение сборника пословиц Снегирева составляет для меня одно из любимых – не занятий, но наслаждений. На каждую пословицу мне представляются лица из народа и их столкновения в смысле пословицы. В числе неосуществимых мечтаний мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то картин, написанных на пословицы»[26].
Художественное своеобразие «Повести о капитане Копейкине», этой, по словам почтмейстера, «в некотором роде целой поэмы», помогает уяснить и эстетическую природу «Мертвых душ». Создавая свое произведение – поэму подлинно народную и глубоко национальную, – Гоголь опирался на традиции народно-поэтической культуры.
Притча о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче
В анекдотических ситуациях, «вставных» эпизодах, пословицах Гоголь рассыпает «подсказки» читателю. Но всего этого ему как будто кажется недостаточным. Наконец, содержание первого тома он обобщает в маленькой лаконичной притче, сводя все многообразие героев поэмы к двум персонажам.
«…Жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существованье его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: “Вот, например, зверь, – говорил он, ходя по комнате, – зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца? Как, право, того: совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься!” Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич».
Для поэтики «Мертвых душ» чрезвычайно характерен язык художественных ассоциаций, скрытых аналогий и уподоблений, к которому постоянно прибегает автор. Не случайно Кифа Мокиевич занят философическим вопросом о рождении зверя из яйца. Этот гоголевский образ очень хорошо «укладывается» в известное пословичное выражение о «выеденном яйце» и создан, в сущности, как развертывание этого выражения, как реализация заключенной в нем метафоры. В то время как «теоретический философ» Кифа Мокиевич занимается разрешением вопроса, не стоящего и выеденного яйца, его сын, богатырь Мокий Кифович, проявляет себя соответствующим образом на поприще практической деятельности.
«Был он то, что называют на Руси богатырь, – говорится в притче о Мокии Кифовиче, – и в то время, когда отец занимался рожденьем зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве все, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя; даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович…»
Образ Мокия Кифовича также восходит к фольклорной традиции. В одном из черновых вариантов притчи, где этот персонаж назван еще Иваном Мокиевичем, Гоголь прямо указывает на народно-поэтический первоисточник образа: «обращик Мокиев<ича> – Лазаревич…» (имеется в виду «Повесть о Еруслане Лазаревиче»). В основу образа Мокия Кифовича положены черты этого сказочного героя, ставшего символом русского национального богатыря. «И как будет Уруслан десяти лет, выдет на улицу: и ково возмет за руку, из того руку вырвет, а ково возмет за ногу, тому ногу выломат»[27].
Традиционный эпический образ, широко известный по народным источникам, Гоголь наполняет нужным ему «современным» смыслом. Наделенный необыкновенным даром – невиданной физической силой – Мокий Кифович растрачивает его попусту, причиняя одно беспокойство и окружающим, и самому себе. Понятно, что речь в притче идет не об отрицании свойств и особенностей ее персонажей, а, скорее, об их недолжном проявлении. Плохо не то, что Кифа Мокиевич мыслитель, а Мокий Кифович – богатырь, а то, как именно они используют данные им от природы свойства и качества своей натуры. «Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? – восклицает автор в патетическом размышлении о Руси. – Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?»
Завершая первый том поэмы, Гоголь недаром обращается к иносказательной форме притчи. «Красна речь с притчею», – гласит русская пословица. В контексте всего первого тома гоголевская притча приобретает особое, ключевое значение для восприятия поэмы. Вырастая в символ обобщающего значения, ее персонажи концентрируют в себе важнейшие, родовые черты и свойства других героев «Мертвых душ».
Философски-умозрительно – в духе Кифы Мокиевича – существование Манилова: «Дома он говорил очень мало и большею частью размышлял и думал <…> Хозяйством нельзя сказать, чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою». О чем размышляет Манилов, в бесплодных мечтаниях издерживающий жизнь свою? О подземном ходе, мосте через пруд с лавками для крестьян, о том, как было бы хорошо «под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..»
Неуклюжий Собакевич, подобно Мокию Кифовичу, не умеющему ни за что взяться слегка, уже «с первого раза» наступил Чичикову на ногу, сказавши: «Прошу прощения». О сапоге этого «на диво сформированного помещика» сказано, что он был «такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри».

Собакевич. Иллюстрация к поэме «Мертвые души» Художник А.А. Агин, гравюра Е.Е. Бернардского
Образ Собакевича, унаследовавшего от своих древних предков недюжинную физическую силу и поистине богатырское здоровье («пятый десяток живу, ни разу не был болен»), создан с пародийным использованием традиционных элементов сказочной поэтики. Этот современный российский богатырь, совершающий свои подвиги за обеденным столом, съедает сразу целую «половину бараньего бока», ватрушки у него «каждая была гораздо больше тарелки», «индюк ростом в теленка». «У меня когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся!»
Сам человек здоровый и крепкий, практичный помещик, Собакевич, «казалось, хлопотал много о прочности». Но практичность этого рачительного хозяина оборачивается самым настоящим расточительством. «На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. <…> Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли».
Гротескно-выразительные образы Кифы Мокиевича и Мокия Кифовича помогают оглядеть героев поэмы со всех сторон, а не с одной только стороны, где они мелочны и ничтожны. «Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен, – писал Гоголь в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» (1845). – Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую из нее сделали. <…> Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: “Рассердясь на вши, да шубу в печь”, то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу».
Герои Гоголя вовсе не обладают заведомо отвратительными, уродливыми качествами, которые необходимо полностью искоренить для того, чтобы исправить человека. Богатырские свойства и практичность Собакевича, хозяйственная бережливость Плюшкина, созерцательность и радушие Манилова, молодецкая удаль и энергия Ноздрева – качества сами по себе вовсе не плохие и отнюдь не заслуживают осуждения. Но все это, как любил выражаться Гоголь, льется через край, доведено до излишества, проявляется в извращенной, гипертрофированной форме.
Обратимся теперь к Чичикову. В нем соединение всех «задоров» гоголевских героев. Ему автор заглядывает глубоко в душу, подчас передоверяет свои задушевные мысли. Еще в детстве Павлуша обнаружил «большой ум со стороны практической». Выказывая «прямо русскую изобретательность» и удивительную «бойкость в деловых делах», Павел Иванович всю жизнь занимался делом. В наиболее концентрированной, афористической форме эта черта главного героя поэмы выражена в его «пословичном» монологе: «…зацепил – поволок, сорвалось – не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать». «Делом» именуется в поэме и афера Чичикова с мертвыми душами. Весь свой незаурядный практический ум, волю в преодолении препятствий, знание людей, упорство в достижении цели этот неутомимый и хитроумный русский Одиссей растрачивает в деле… не стоящем выеденного яйца. Именно так говорит о своем «деле» Чичиков, выведенный из себя непонятливостью Коробочки: «Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!»
Как видим, автор заставляет своих героев «проговариваться» о себе в пословицах. Пословицы же в «Мертвых душах» функционально значимы, несут в себе гораздо больший смысл, чем это может показаться на первый взгляд.
Приобретение «херсонского помещика» расценивается чиновниками как «благое дело». По словам самого Чичикова, он «стал наконец твердой стопою на прочное основание» и «более благого дела не мог бы предпринять». На чем же пытается основать свое благополучие Павел Иванович? На мертвых душах! На том, чего нет, что ничего не стоит, чего быть не может! На пустоте. Тщета предприятий и замыслов Чичикова в том, что все они лишены духовного основания. Путь Чичикова бесплоден. Бесплодность эта и выражается через мудрость народного речения о деле, не стоящем выеденного яйца. Эта пословица впервые появляется задолго до финала первого тома, и ею же Гоголь подводит итог делу Чичикова. И этот традиционный народный вывод, венчающий похождения героя, содержит в себе и приговор ему, и возможность, по мысли автора, его грядущего возрождения. Недаром во втором томе Муразов повторяет про себя: «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью, да на доброе дело!»
Художественному мышлению Гоголя свойственны архитектурные ассоциации[28]. Хорошо известно его сравнение «Мертвых душ» с «дворцом, который задуман строиться в колоссальных размерах» (из письма к В. А. Жуковскому от 26 июня (н. ст.) 1842 года). Тогда понятным становится и упоминание о двух обитателях отдаленного уголка России, которые «нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы». Продолжая метафору писателя, можно сказать, что притча – это окошко, позволяющее заглянуть в глубину художественного мира его книги.
Сходный образ встречается в статье Гоголя «Шлецер, Миллер и Гердер» (1834): «Может быть, некоторым покажется странным, что я говорю о Шлецере как о великом зодчем всеобщей истории, тогда как его мысли и труды по этой части улеглись в небольшой книжке, изданной им для студентов, – но эта маленькая книжка принадлежит к числу тех, читая которые, кажется, читаешь целые томы; ее можно сравнить с небольшим окошком, к которому приставивши глаз поближе, можно увидеть весь мир. Он вдруг осеняет светом и показывает, как нужно понять, и тогда сам собою наконец видишь все».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Полное собрание творений святителя Игнатия (Брянчанинова): [В 8 т.]. Т. 1. М., 2001. С. 99.
2
Андреев И.М. Н. В. Гоголь // Андреев И.М. Русские писатели ХIХ века. Очерки по истории русской литературы ХIХ века. М., 2009. С. 223. Впервые: Андреев И.М. Религиозное лицо Гоголя // Андреев И.М. Очерки по истории русской литературы ХIХ века (Краткое конспективное изложение некоторых лекций, читанных в Свято-Троицкой Духовной семинарии). Сборник 1. Holy Trinity Monastery, Jordanville, N. Y., 1968.
3
Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. М., 1885. Т. 4. С. 130.
4
Епископ Феофан. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. М., 1991 / Репринтное издание. С. 171.
5
Полное собрание творений святителя Игнатия (Брянчанинова). Т. 4. М., 2002. С. 505–506.
6
Ср. Мф. 18, 3
7
Ср. Ин. 10, 1.
8
Светлов П.Я., проф., протоиерей. Идея Царства Божия в ее значении для христианского миросозерцания (Богословско-апологетическое исследование). Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1905. С. 232.
9
См.: Воропаев В.А. «Мертвые души» и традиции народной культуры (Н.В. Гоголь и И.М. Снегирев) // Русская литература. Л., 1981. № 2. С. 92–107.
10
Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 79.
11
Белинский В.Г. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5. М., 1979. С. 58.
12
Бахтин М.М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 484, 492.
13
Ср.: «Блудлив, как кошка, а труслив, как заяц» (Собрание 4291 древних Российских пословиц. Печатано при Императорском Московском университете. 1770 г. С. 8).
14
Ср.: «Русский ум – задний ум. Русский ум – спохватный ум» (Князев В. Русь. Сборник избранных пословиц, присловок, поговорок и прибауток. Л., 1924. С. 83).
15
Снегирев И. Русские в своих пословицах: Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках. Кн. 2. М., 1832. С. 27.
16
Снегирев И. Русские народные пословицы и притчи. М., 1995 / Репринтное воспроизведение издания 1848 г. С. XV. Заметим, что глубинный смысл этой народной мудрости ощущался не только в эпоху Гоголя. Наш современник писатель Леонид Леонов замечал: «Нет, не о тугодумии говорится в пословице насчет крепости нашей задним умом, – лишний раз она указывает, сколь трудно учесть целиком все противоречия и коварные обстоятельства, возникающие на просторе неохватных глазом территорий» (Леонов Л.М. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 10. М., 1984. С. 544–545).

