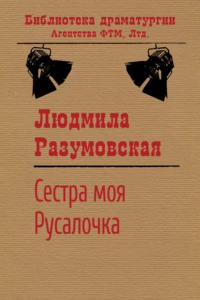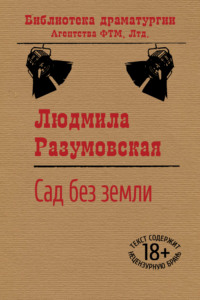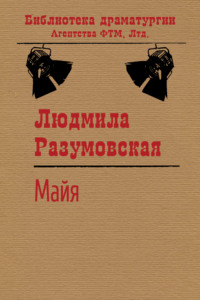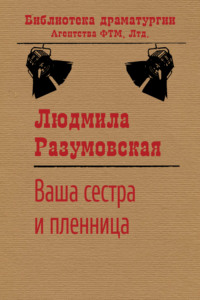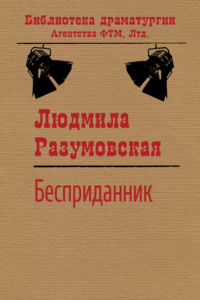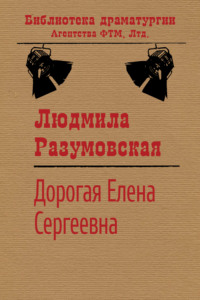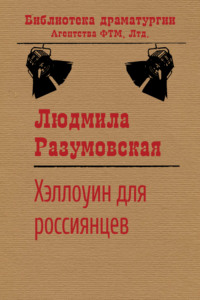Полная версия
Русский остаток
Пренебрегая копеечной сдачей, он пристроился в самом дальнем углу за одинокий столик, уставленный пустыми кружками и объедками воблы. Но не успел он сделать и пару сладких долгожданных глотков, как рядом с ним оказалась чья-то рыжая, всклокоченная голова.
– Угости, браток. – Чумазая рожа улыбалась так по-собачьи преданно и дружелюбно, что Петр Мельников и хотел было загородить рукой свои кровные пенящиеся кружки, но, заметив, что у просителя нет ноги, не спеша сделал несколько глотков из початой кружки и молча пододвинул ее, на треть опорожненную, рыжему.
– Ну, спасибочки! – обрадовался одноногий. – Сразу видать, свой брат, фронтовик! А солдат солдату завсегда друг. – Он зажмурился от наслаждения и отхлебнул из кружки. – Опять разбавила, холера, – сказал он беззлобно и подмигнул Петру. – Ты, солдатик, чего так поздненько-то с фронта?
– Много будешь знать, скоро состаришься, – угрюмо сказал Петр, не желая продолжать разговор.
– Так-то оно, конечно… А только с хорошим человеком и поговорить не грех, – ничуть не обиделся рыжий. – Вот ты на каком фронте воевал?
– Да что ты ко мне пристал! – разозлился Петр. – Фронт да фронт!.. Я пятнадцать годков на таком фронте отвоевал, что врагу не пожелаю! Понял?
– Понял, – сочувственно заморгал рыжий. И, наклонившись к Петру, зашептал: – За что ж они тебя так, браток?
– За что?! Это ты у них спроси, за что!.. Сам знаешь, как вначале войны воевали… Иль ты не сначала?
– С первого дня, как же! – закивал головой рыжий. – Как услыхал по радио «Братья и сестры», так сразу в военкомат и подул. Всё, говорю, берите меня немедленно, сам товарищ Сталин меня по радио братом назвал! Они переглянулись так… видно, подумали, что я не того. А один, старший, видать, у них, и говорит: «Ты, – говорит, – Константин, молодец, в армию мы тебя возьмем, но только ты неправильно политику партии понимаешь. Мы тебе растолкуем. А только если где еще сболтнешь чего про товарища Сталина, то пеняй на себя!» Ну, я обрадовался, что на фронт-то берут, а про товарища Сталина с тех пор молчок, ни гу-гу! Только если когда тосты какие иль «За Родину, за Сталина ура», ну и я тогда уж вместе со всеми от души кричу, а так ни-ни! Тебя как звать-то?
– Петром.
– Вот они какие, Петруша, дела-то…
– Ногу-то когда оторвало? – уже мягче спросил Петр.
– Ногу-то? – весело отозвался рыжий. – Так ведь не поверишь, всю войну прошел без царапины! Ей-Богу! Меня заговоренным считали, ага. А я так думаю, мамка моя за меня крепко молилась, а как померла, тут меня и шарахнуло. Главное, браток, слышь, апрель, сорок пятый год, бляха-муха, мы на Одере, до Берлина рукой подать, а тут – трах-бах, немцы в наступление двинули! Да ладно, если б немцы, а то ж свои, падлы!
– Как это свои?
– Э-э!.. Власовцы! Слыхал про таких?
– Слыхал… Не только слыхал, но и навидался.
– Иди ты! Ну и как? Чего они на нас перли?
– Чего перли, чего перли! Много ты понимаешь!
– А чегой-то я не понимаю? Предатели они и есть, раз на своих!
– Да вовсе они не на своих!.. Они хотели, чтоб всем… тут… народу… жилось хорошо. Без коммунистов, понятно?
– Без коммунистов? – тихо переспросил рыжий, опасливо оглянувшись по сторонам. – Дак ты чего-то не то, браток, говоришь… куда же теперя без них?.. Ей-Богу, это чего-то они не того… За народ, говоришь, а кто ж меня тогда звизданул! Или я, по-ихнему, не народ?
– Не повезло тебе… – посочувствовал Петр.
– У меня ж тут невеста была… краси-ивая!.. Косы – во! – Рыжий показал рукой до своего целого колена.
– И что? Не дождалась?
– Дождаться-то дождалась… а только на что я ей такой?
– Как на что?.. – возмутился Петр. – Да теперь мужиков – на десять баб один! Подумаешь, нога!.. Не ногой же ты ее брюхатить будешь!
– В том-то и беда, браток, ранение у меня такое, что и брюхатить нечем… – Рыжий тяжко вздохнул и замолчал.
Замолчал и Петр. Что тут на это скажешь? Хуже этого, пожалуй, ничего и не придумать. И чтобы чем-то утешить товарища, сказал:
– Так ведь и я за пятнадцать-то почти лагерных годков, может, всего раза два с бабой был… Думал к жене воротиться, я перед самой войной женился… Ехал сюда, не знал, тут она, нет…
– Ну? – затаив дыхание, спросил рыжий. – Тут?
Петр не ответил, вздохнул. Допил пиво, закурил и только после всего зло рассмеялся.
– А потом думаю: да на хер она мне сдалась?
– Да ты чё, парень? – заволновался рыжий. – Да ты чё говоришь? Жена ведь, не лярва!
– Лярва она и есть! – отрезал Петр. – С выблядком своим живет, на фронте нажила. Кто она после этого, а?..
– Ой, парень, – заскорбел рыжий, – не суди… так-то уж… больно ты… А баба – она что?.. Как ей одной?.. А еще и на фронте… Сам посуди – от тебя ни слуху ни духу… ни живой ни мертвый… а?.. А так – ребеночек… Выкормить, выучить – все ей повеселее… Уж ты бы простил… Ты ж еще не старый, своего бы родили…
– Да чего ты раззуделся над ухом, комар одноногий, и так тошно! «Своего!», «Родили!»… – передразнил он рыжего. – Много ты понимаешь!.. Ты погляди на меня! Морду-то не отворачивай, погляди! Да от меня не то что баба, кошка и та шарахается! А у нее… а она… с полковниками да генералами крутилась!.. Гладкая такая вся, будто и войны не было!.. А я пятнадцать лет на нарах по лагерям гнил! – Он изо всей силы стукнул кулаком по столу так, что лязгнула посуда.
Сидевший к ним спиной толстый человек в шляпе повернулся в пол-оборота и угрожающе прохрипел:
– Но-но, потише! Разбушевались! Вояки, мать вашу! Сейчас сдам в милицию! Фронтовики гребаные!
Лицо Петра побагровело. Он стиснул кулаки и направился прямо к «шляпе».
– А ну повтори, гнида тыловая, что ты сейчас про фронтовиков сказал!..
Рыжий бросился было вслед за Петром, но костыли его разлетелись в стороны; пытаясь их поймать, он не удержал равновесие и шмякнулся на пол.
– Тамарка, зови милицию! – заорал струсивший толстяк продавщице и на всякий случай забаррикадировался от Петра стулом.
– Тикай, дурень, отсюдова! Тикай, говорю! От дурной! – горячился рыжий.
Но Петр уже ничего не соображал. Водка да пиво, выпитые на голодный желудок, ударили ему в голову, еще секунда – и он вцепился бы в толстяка мертвой хваткой. Но тут толстяк вытащил милицейский свисток и засвистел что есть мочи.
Этот жуткий для слуха Петра звук моментально отрезвил его. Он остановился и как затравленный зверь озирался теперь по сторонам, пытаясь опередить надвигавшуюся опасность.
– Беги, Петя, слышишь? Беги, миленький, ну чего ты стоишь, беги! – шептал рыжий.
Петр повернулся и медленно вышел из пивной, куда уже приближались двое милиционеров.
Нервы его не выдержали, он побежал.
Милиционеры сделали стойку и бросились за ним в погоню.
Он быстро стал задыхаться, он знал, что не выдержит, что его догонят и станут бить. А потом все сначала: допросы, побои, лагерь, голод, холод, унижения, болезни, смерть. Он больше не хотел.
Он выскочил на проезжую часть и побежал посередине дороги. Он чувствовал за спиной их дыхание, их сопение, их предвкушение победы. Сейчас, вот сейчас его собьют с ног и начнут терзать все еще не до конца отупевшее от голода и побоев, все еще чувствительное к боли тело. Он увидел впереди мчавшийся на полном ходу трамвай. «Только бы успеть!» – подумал он и, когда погонщики уже протягивали руки, чтобы схватить его за солдатскую, купленную им при выходе из лагеря с рук шинель, бросился под спасительные колеса трамвая.
12
Клавдии Петровне Соваж было уже под восемьдесят, когда она неожиданно получила письмо от своей племянницы Елены Павловны Мельниковой из Воронежа, дочери родной младшей сестры Марии Петровны Захарьиной, о судьбе которой ничего не знала с тридцать шестого года.
Елена кратко писала о смерти отца и матери, о потере сестры, а потом, во время войны, мужа. О том, что была на фронте, а теперь живет с сыном в Воронеже и работает в госпитале медсестрой. И что мать перед смертью завещала им с сестрой разыскать тетю Клаву, и вот теперь она нашла ее по адресному бюро, и что очень хотелось бы ей повидаться с родным человеком и заодно показать сыну город, в котором сама родилась и где все они раньше жили.
Прочитав письмо, Клавдия Петровна долго плакала: то ли от радости, что сохранилась и дала новый росток веточка от их когда-то пышно цветущего родословного древа, то ли от печали за всех порубленных без времени других его ветвей.
В тот же вечер она ответила Елене, чтобы немедленно бросала работу и приезжала к ней, что она их с сыном пропишет, благо жилплощадь позволяет, а ей скоро умирать и хочется, чтобы хоть что-то из остатков их семейных реликвий перешло к родным людям, и уж пусть они поторопятся, потому что – возраст и болезни, и никто не знает своего часа, и что, слава Богу, есть теперь кому закрыть ей глаза.
Во избежание коммунальных страстей Клавдия Петровна ничего не сказала соседям о своих семейных новостях и, соответственно, о планах. Ничего, она их просто поставит перед фактом! В конце концов, это они живут в ее квартире, а не она – в их! Как бывшая владелица и вообще дама с характером, Клавдия Петровна держала соседей в строгости, и ее, одинокую, нечего не значащую в советской жизни старуху, неизвестно почему, даже побаивались. Знали, конечно, что она из бывших, но то ли времена поменялись, то ли самих бывших осталось с гулькин нос, но только к бывшим стали проявлять некое даже уважение и интерес как к археологии или раритету. Никто из соседей, например, не мог бы сказать и одной фразы по-французски или по-немецки, а тетя Клава могла произносить целые монологи, если ее, конечно, очень попросить. Никто из соседей не играл на фортепьяно, а тетя Клава играла и даже кое-кого из соседских детей, чьи родители претендовали на вновь входившую в моду интеллигентность, обучала первоначальной музыкальной грамоте и языкам. А еще тетя Клава раскладывала пасьянс и умела гадать на картах, чем вызывала исключительный интерес женской половины обитателей квартиры, всегда склонной к амурным переживаниям.
Так что новые родственники тети Клавы имели некоторые шансы быть принятыми старыми жильцами без особо ядовитой враждебности, вполне, впрочем, объяснимой ненормальностью коммунального сожития.
Получив от тетушки ласковое письмо с предложением переехать к ней в Ленинград, Елена задумалась. После неожиданного визита Петра Мельникова она стала жить в еще большем страхе. Кто знает, а вдруг он передумает и не захочет возвращаться на Колыму, а вознамерится жить с ней? От одной этой мысли ее бросало в дрожь. И она готова была бежать от этого ужаса хоть на край света, где бы их с Юрочкой не нашли ни Петр, ни органы госбезопасности, которым лишь бы зацепиться за коготок, а уж там всей птичке пропасть ни за грош! А Юрочка… Юрочку потерять навсегда?!. Юрочку – в детский дом?!. Но – найдется ли в Ленинграде для нее работа, да и просто уживутся ли они со старой женщиной, привыкшей к одинокой самовластной жизни, не окажутся ли они для нее бременем неудобоносимым? Советоваться с сыном она не могла, тот еще слишком был мал. Вся ответственность за решение ложилась на нее. Да, времена переменились, Елена это понимала, но что, если опять все повернется вспять и их с сыном снова погонят из Ленинграда, теперь уже не в Воронеж, а в неизвестную северную даль?.. За что?.. Из опыта всей своей жизни Елена знала, что это – праздный вопрос. Да мало ли за что, просто за то, что она дочь своих неправильно рожденных родителей и жена своего «предателя» – мужа…
«Как странно, – думала Елена, – с мужем они прожили всего двадцать три дня, и – война. С полковником в госпитале после его выздоровления они были вместе… тоже двадцать три, и – фронт. Она осталась в тылу, а после Иван Федорович вообще отправил ее домой, в Воронеж: рожать «обязательно сына, а я буду крестным, если останусь жив». Не остался. Прямое попадание в операционную… От Анатолия Викторовича она получила четыре письма (это – ее самая большая драгоценность), а потом – неизвестность, конец… И никто не сообщил ей о судьбе полковника Шабельского. Кто она такая, чтобы ей сообщать? А самой разыскивать его ей было страшно. Вдруг он что-нибудь натворил… а Юрочка должен будет отвечать за отца!.. Нет, нет! Господи! Как все непонятно и страшно. Непонятно и страшно… Хоть бы у Юрочки все было по-другому. Как он похож!..
Она подходила к спящему сыну и подолгу вглядывалась в его лицо, и замирала от счастья, находя это сходство.
Она решила, не увольняясь пока с работы, просто поехать познакомиться с теткой, но Клавдия Петровна приняла их так сердечно и просто, что все Еленины сомнения развеялись в прах. Много было поведано обеими женщинами друг другу горестей, много было пролито слез, много было и взаимной радости, что вот, не оставил все же Бог до конца, дал хоть под занавес жизни утешение.
Елена осталась. Клавдия Петровна с энтузиазмом стала обустраивать новую, совместную жизнь. Прежде всего, перегородив шкафами комнату (в два окна) пополам, она устроила для Юры рабочий уголок и спаленку для Елены. Вторую половину комнаты занимала кровать самой Клавдии Петровны, огромный фикус и большой обеденный круглый стол.
Елена устроилась медсестрой в ту самую больницу, где некогда работал ее отец (об этом она, разумеется, никому не сказала). Юра пошел в пятый класс. Клавдия Петровна готовила обеды и была счастлива.
В Ленинграде Юре понравилось все: Исаакиевский собор и Эрмитаж, Ростральные колонны и Петропавловская крепость, белые ночи и Нева, школа и комната Клавдии Петровны у Таврического сада, больше похожая на музей. И, ложась спать, прежде чем смыкались в быстром и крепком сне Юрины глаза, он подолгу разглядывал огромную бронзовую люстру с зелеными стеклянными колпачками, свисавшую с середины высокого белого потолка с потрескавшейся лепниной, где он любил отыскивать, как и в небе на облаках, человеческие лица и замысловатые фигуры птиц и животных…
Но больше всего Юру поразил портрет, который он сразу увидел, впервые войдя в бабушкину комнату (так Клавдия Петровна велела Юре себя называть, непременно бабушкой и никакой не тетей Клавой!). Это был большой портрет, написанный маслом, некоего красивого господина в темном сюртуке и галстуке; он сидел в кресле, заложив ногу за ногу, и смотрел весело и чуть насмешливо прямо Юре в глаза, словно вопрошая: «Ну-с, молодой человек, давайте знакомиться. Я – такой-то. А с кем имею честь?..» «Кто это?» – каждый раз, встречаясь глазами с портретом, думал Юра, но спрашивать бабушку почему-то робел и, только прожив на Таврической несколько месяцев, пообвыкнув и освоившись, как-то раз, набравшись храбрости, спросил:
– Бабушка, а кто этот дяденька на портрете?
Клавдия Петровна улыбнулась, взглянула на портрет, потом на Юру и радостно сообщила:
– Это мой отец, твой прадедушка.
– К-как? – ахнул Юра. – Он был что… буржуй? – упавшим голосом проронил он.
Лицо бабушки медленно налилось краской.
– Ваш прадед, Юрий Петрович, по матери, – грассируя и чеканя каждое слово, выговаривала Клавдия Петровна, – был замечательным ученым, биологом, профессором Московского университета и скончался, слава тебе Господи, до Великой Октябрьской социалистической революции. – И бабушка широко перекрестилась.
Юра похолодел. Он никогда не видел ее такой сердитой. Она называла его почему-то на «вы» и по отчеству; Юра только краснел и моргал глазами, готовый вот-вот заплакать.
– Ну вот что, мой дорогой, – глядя на потерянное лицо внука, смягчилась бабушка, – сейчас ты все равно ничего не поймешь, но запомни: ты можешь гордиться своими предками. Они прожили достойную жизнь и честно послужили России, нам есть чему у них поучиться. Дай Бог, чтобы мы оказались достойными их памяти.
Потом бабушка достала старый кожаный альбом с золотыми застежками, расстегнула замочки, и перед Юриными глазами предстали все его близкие и дальние предки и сродники: штатские, военные, дамы с детьми и без детей, кавалеры… и, тыча в фотографии пальцем, Юра каждый раз спрашивал: а это кто? а это?.. а эти?.. И каждый раз бабушка отвечала: это мои родители, это кузины, это сестры, это бабушка с дедушкой, это брат, это мой муж, это дети…
Юра был ошеломлен. Он и не представлял, что у одного человека может быть столько родственников! (У него самого была только одна мама, да вот теперь еще эта бабушка!..) И все они уже давно умерли… а фотографии остались, и бабушка каждого из них помнит и про каждого может рассказать, и все они в ее рассказах как живые, так что даже странно, что их вроде бы уже давно нет на свете… и как это их нет, когда вот… Юра не мог объяснить, что означает это «вот», но смутное ощущение того, что все же они не совсем, не до конца умерли, а как-то еще продолжают существовать, смущением и радостью впервые вошло в его сердце. И вот что еще интересно: если бы их не было, то не было бы и его, Юры… и он существует только потому, что все они когда-то жили!.. И вот эта явная, видимая, наглядная связь и смена поколений, набегавших как волны одна за другой, пронзила Юру своей величавой непреложностью, как самый главный, неотменяемый закон жизни. И он… заплакал. Он и сам не понимал, отчего он плачет. Жалко ли ему было тех, ушедших, молодых и красивых людей с такими умными, живыми лицами, или он плакал оттого, что и сам смертен, что и ему предстоит когда-то уйти, как и тем, как и всем, как и маме…
Он долго не мог уснуть ночью и все ворочался так, что мама, встав со своего диванчика, подсела к нему на раскладушку и, положив свою маленькую, мягкую, прохладную ладонь на его лоб, спросила:
– Ты почему, милый, не спишь? Ты не заболел?
– Мам, а ты знаешь, кто этот дяденька на портрете? – шепотом спросил Юра.
– Нет, – солгала Елена.
– А я знаю! – гордо прошептал Юра. – Это мой прадед! Он, знаешь, кто? Профессор! Николай Федорович Кокорин!.. А еще бабушка показывала мне альбом! Там, знаешь, такие фотографии!.. Старинные!.. И даже генералы!.. А одна девушка… в такой шляпе, знаешь, то есть, дама… краси-ивая! Это, знаешь, кто? Моя бабушка Мария, твоя мама! И еще там всякие офицеры! И даже этот, ну… с крестом!..
Елена молча кусала губы. «Боже мой, зачем она показывает это ребенку? Ведь он глупый, он может разболтать! Только-только начали жить, и вот – на тебе, опять! Зачем эти воспоминания, зачем эти бывшие родственники, мало они отравили ей жизнь, теперь они будут травить жизнь ее сыну! Господи, неужели ей никогда, никогда не освободиться от прошлого, не оградить сына, не начать жизнь с белого листа!»
На следующий день она настроилась решительно поговорить с тетей. Но решительно разговаривать она не умела, поэтому начала робко:
– Тетя, я хотела вас попросить…
– О чем, Леночка?
– Тетечка, – плачущим голосом сказала Елена, – зачем вы показали Юре эти фотографии?
– Прости, пожалуйста, но я не понимаю…
– Ну что же здесь непонятного, тетя!.. Ведь он пионер!.. Скоро в комсомол! – в отчаянии заговорила Елена. – Ну что у него за предки!.. Какие-то дореволюционные профессора, генералы, Бог знает кто! Это может мальчику навредить, как вы не понимаете! Его же могут спросить о родственниках, что он скажет?..
Клавдия Петровна ничего не ответила, потом достала злополучный альбом и положила его перед Еленой.
– Ну, если ты так стыдишься своих предков, возьми и сожги. Меня уже, слава Богу, скоро не станет, а тебе они будут только мешать.
– Я не стыжусь… – мучительно проговорила Елена. – Я боюсь…
– Что ж, это понятно, – согласилась Клавдия Петровна. – У страха глаза велики.
– Я не за себя боюсь, – тихо сказала Елена. – Я за Юру боюсь. Ему жить…
– Ему жить, – снова согласилась Клавдия Петровна. – Иваном, не помнящим родства.
– Тетя… – умоляюще начала Елена.
– Да, Леночка.
– Простите меня, тетя… – Она заплакала. – Если б вы знали, сколько я пережила!.. За родителей… за мужа… за Анатолия Викторовича… Всю свою жизнь дрожу… дрожу, как осиновый лист! О Господи!..
– Кто это Анатолий Викторович? – спросила тетя.
– Это… это отец Юры, – совсем тихо после паузы проговорила Елена. – Мы встретились во время войны в госпитале… Он был тяжело ранен… Он намного старше, но… Воевал на Первой мировой, потом… у Врангеля, – добавила она едва слышно. – Его фамилия Шабельский.
– Шабельский… – задумчиво повторила Клавдия Петровна. – Я знала одного Шабельского. В пятнадцатом году за поручика Шабельского вышла замуж моя кузина Танечка Винер. Но его звали Александр. Очень красивый молодой офицер. Кажется, им удалось эмигрировать… А Анатолий Викторович жив?
Елена покачала головой.
– Не знаю… нет. Если бы он остался жив, он бы вернулся… Я получила от него четыре письма, последнее – в декабре сорок четвертого… После войны я хотела его разыскать, но я… я боялась… Я боялась, что они вспомнят моих родителей, вспомнят, кто такой Анатолий Викторович, узнают, что Юра его сын! Нет!.. Нет, пусть лучше так!.. Пускай я одна… страдаю. Юра не должен ничего знать! Никто не должен ничего знать, слышите, тетя? Никто ничего! Иначе я погибну!..
– Успокойся, Леночка. Разве ты не видишь, другие времена. Многие возвращаются…
– Я им не верю! Слышите, тетя? Не верю! – горячо заговорила Елена. – Вон у нас на работе… парторг! Знаете, как он на меня смотрит? Прямо ест глазами!
– Леночка, – рассмеялась Клавдия Петровна, – так это он, наверное, в тебя влюбился.
– Нет, тетечка, мне не до шуток. Так не влюбляются.
– Ну полно. Полно, Леночка. Так ведь можно со страху и умом повредиться. А у тебя сын. Ты еще долго будешь ему нужна. Всё! – решительно хлопнула по столу Клавдия Петровна. – Отныне и навеки я запрещаю тебе бояться! Ясно? А чему быть, того не миновать! Помнишь Евангелие? Ни один волос не упадет без воли Божией. Стало быть, надо Богу доверять. Ну а уж коли Он попустит пострадать, значит, пострадаем. Эх, мало в нас веры, оттого и дрожим всю жизнь как осиновый лист! – Она с ласковой снисходительностью посмотрела на Леночку и поцеловала ее в лоб. – А что, есть у тебя фотография Анатолия Викторовича?
Елена снова на мгновение застыла.
– Да не бойся, в МГБ не снесу.
– Есть, – вымолвила наконец Леночка. – Только она далеко… спрятана.
– А ты достань. Я хочу на него посмотреть, слышишь? Да и сама лишний раз полюбуешься.
Елена вытащила из-под кровати большой коричневый чемодан и долго в нем рылась, перебирая какие-то вещи и бумаги, наконец достала старый потертый конверт. В нем лежали четыре письма Анатолия Викторовича и его маленькая военная фотография.
– Вот… – протянула она Клавдии Петровне карточку.
Тетушка долго и, как показалось Елене, любовно рассматривала фотографию, потом раздумчиво произнесла:
– Хороший… – И повторила: – Хороший… Трудно, конечно, сказать насчет схожести с тем Шабельским, с Александром, того я знала молодым, а этому, должно быть, уже за сорок… А может, он остался за границей? Некоторым это удавалось…
– Нет! – болезненно вскрикнула Елена. – Нет! Этого не может быть!
– Ты так уверена?
– Никогда! Никогда он не остался бы за границей! Никогда! Вы его не знаете, тетя! Никогда! – твердила Елена как заклинание. – Он погиб! Погиб!.. Но я вас умоляю, тетя, не говорите ничего Юрочке, он ничего не должен знать, я вас умоляю!..
Через год Клавдия Петровна Соваж умерла. Ее похоронили на Смоленском кладбище, в могиле ее матери, погибшей в девятнадцатом году не столько от свирепствующего тогда голода, сколько от безнадежной тоски ввиду свершавшегося на их глазах светопреставления.
После смерти тетушки Елена собрала все компрометирующие ее с сыном фотографии из старинного альбома, всех этих представительных генералов и профессоров, нарядных кузин и кузенов, старых дедушек и бабушек, добродушных тетушек и дядюшек – многочисленной в прошлом родни – и сожгла все это богатство во все еще действующей кафельной печи. Большой масляный портрет дедушки был разрезан на маленькие кусочки и последовал в печь вслед за фотографиями.
Придя из школы домой и увидев пустую раму с лохмотьями вырезанного по краям холста, Юра остолбенело спросил:
– А где прадедушка?
– Какой прадедушка? – сделав вид, что не поняла Юриного вопроса, сказала Елена.
– Как это какой? Мой! Мой прадедушка! Николай Федорович Кокорин! Вот какой! – закричал Юра.
Елена, ничего не отвечая, вертела в руках коробок спичек. Вдруг Юра судорожно вдохнул воздух и бросился к печи, открыл дверцу – пахнуло дымом, в печи тихо догорало.
– З-зачем… з-зачем ты это… сделала? Зачем?!. – дрожащим голосом проговорил Юра.
Но Елена по-прежнему молчала, и только руки ее тихо вздрагивали, а глаза испуганно смотрели куда-то поверх Юриной головы.
Схватив курточку, Юра выбежал из дома и до ночи бродил по городу, а потом еще долго не разговаривал с матерью, не в силах понять и простить ей непонятно для чего нанесенную ему обиду.
13