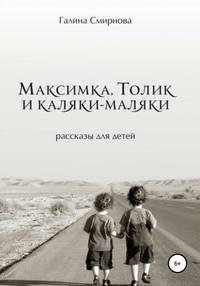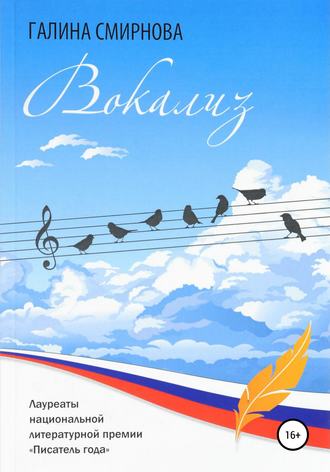 полная версия
полная версияВокализ
Незнакомец, заметив пристально-удивлённый взгляд Марины, представился:
– Феликс Эммануилович.
Марина даже закашлялась, чтобы не рассмеяться:
«Почти Феликс Эдмундович… ну тот, который Дзержинский».
– Марина.
Феликс Эммануилович что-то долго рассказывал Балдырган, поглаживая свою бородку и поглядывая на Марину, сверкала серьга в ухе, виднелась золотая цепочка на шее. Балдырган отвечала двумя-тремя фразами, больше молчала и как будто не слушала гостя. А Феликс Эдмундович… то есть, Эммануилович всё говорил, говорил, наконец, странный гость ушёл.
Когда Балдырган была в душе, Марина спросила бабу Лену:
– Кто этот мужчина для Балдырган, он старше её намного.
– Он вроде бы её гражданский муж, – отвтила баба Лена, – она живёт с ним, не работает. А он какой-то учёный.
– Странная пара, – задумчиво произнесла Марина.
– Чудная, чудная пара, Мариночка, соглашусь с тобой.
День за днём проходили незаметно, утром операции, перевязки, процедуры. Обед. Тихий час. Родственники. Как-то, гуляя по переходу, Марина разговорилась с молодым парнем лет двадцати, у него тоже были перевязаны ноги.
– Такой молодой, как же ты здесь?
– Я играю в молодёжной сборной по футболу. Нагрузки большие на ноги, и, видно, ещё предрасположенность есть.
– Как звать-то?
– Женя.
– Ну, выздоравливай, Женечка! Не попадай сюда больше. Рекомендации знаешь?
– Знаю, спасибо.
Долго вместе «расхаживали» ноги, разговаривали. Однажды вечером Марина с Полиной гуляли по переходу, вспомнили Балдырган и её гражданского мужа.
– Мезальянс настоящий, но не нам судить.
– Да, Марина, мезальянс, конечно, и дело не в возрасте, сама понимаешь… А у неё есть пятнадцатилетняя дочь, баба Лена сказала, живёт с бабушкой на съёмной квартире.
– Полина, ты видела, он крест на шее всё время старается показать… как будто оправдывается в чём-то. А ведь получается всё наоборот.
– Видела. Странный мужчина.
– Очень странный.
Через два дня Марина провожала сына с невесткой, попрощалась, вошла в лифт и услышала:
– Подождите, спасибо.
Вошёл Феликс Эммануилович. Лифт медленно поднимался и вдруг встал. «Не хватает ещё, чтобы свет погас», – мелькнуло у Марины в голове. И свет погас. Молчали. Неожиданно Феликс Эммануилович одной рукой крепко прижал Марину к себе, а другой начал трогать её грудь. Она задохнулась от негодования и оттолкнула его, зажёгся свет. Марина размахнулась и со всей силой влепила пощечину этому холёному гладенькому господинчику, попала в ухо, что-то упало на пол. Лифт стоял.
– Ах, моя серёжка, как же я без неё, как, – запричитал, заохал Феликс Эммануилович.
– Я постараюсь найти, – Марина наклонилась, стала внимательно рассматривать пол.
«Странный Феликс», как назвала его Марина, тоже наклонился, они столкнулись лбами. Больше не искали. Лифт поехал. Выходя, Марина сказала:
– Успокойтесь, верну вам серёжку.
Позвонила сыну, рассказала в общих чертах, попросила купить золотую серёжку, объяснила, как выглядит. На следующий день Феликс Эммануилович был у Балдырган, она молчала как обычно. Вскоре к Марине приехал старший сын, подошёл к «странному Феликсу» и протянул коробочку:
– Возьмите, вам очень идут серьги.
Приближалась выписка Марины, позади операция и семь дней в больнице. Ушёл футболист Женя, через два дня будет дома Полина, а Марина завтра. Вечером пришёл муж и принёс одну красную розу, вазы не было. Марина обрезала сверху высокий картонный пакет из-под кефира, налила в него воды и поставила розу. Ах, как красиво! Позже, проходя мимо соседней палаты, где была Тамара – Катерина Матвеевна, Марина увидела на её тумбочке пышный, яркий букет сирени, не выдержала:
– Можно понюхать?
– Ну конечно.
– Какой аромат! А ведь только февраль, Тамарочка. Смог достать для любимой!
– Смог, Марина.
На следующий день Марину выписали из больницы, а красную розу в пакете из-под кефира она поставила на подоконник, рядом с бабушкой Леной.
Панацея
– Наш препарат «Идеал» обладает уникальными лечебными свойствами, – привычно тараторила Наташа, делая ударение на слове «уникальный», – он оказывает общеукрепляющее, очищающее, противовоспалительное и восстановительное действие, он укрепляет сердце и сосуды, улучшает память, нормализует работу почек, кишечника… он способствует… он улучшает… он просто незаменим и широко применяется…
– Где применяется? – тихо переспросил глухой женский голос на другом конце провода.
«Похоже, старушка», – подумала Наташа. Она не любила, когда её перебивали клиенты.
– Применяется в кардиологии, пульмонологии, эндокринологии, гинекологии, урологии и… – Наташа запнулась – блокнот с текстом упал на пол, она подняла его, нашла нужное предложение и бодро закончила, – и в геронтологии.
– Дочка, ты мне скажи про последнее слово – герон…
– Геронтология, – подсказала Наташа.
– Вот-вот, что-то знакомое, напомни, милая.
– Геронтология – это раздел медицины, занимающийся болезнями пожилого возраста, если по-простому говорить.
– Как раз то, что нужно, мне ведь восьмой десяток пошёл.
– Я поняла. Для вас скидка на препарат. Вы знаете, – Наташа изобразила радостно-удивлённую интонацию, – вы знаете, как раз в данный момент действует дополнительная скидка десять процентов, и ещё, – она сделала небольшую паузу, – и ещё именно сейчас вас может проконсультировать по телефону профессор, доктор медицинских наук. Желаете?
– А как же, дочка, желаю, конечно, желаю, если профессор.
– Хорошо. Вас звать Анна Матвеевна?
– Да-да, милая.
– Анна Матвеевна, ждите звонка.
Наташа положила трубку телефона, встала, засыпала в чашку кофе, залила кипятком, помешала, вдыхая ароматный запах.
– Натусик, – обратилась к ней подошедшая подруга и коллега по работе Таня, – сделай и мне кофейку, я шарлотку принесла, вчера пекла с курагой, представляешь.
– Я обычно с яблоками делаю, тоже хорошо, бабушка научила, – Наташа готовила кофе для подруги.
– У меня хорошая сделка только что прошла, бабулька купила препарат на четыре месяца и деньги сразу все перечислила, вот молодец.
– А что у неё? – почему-то спросила Наташа, хотя обычно её это не интересовало.
– Говорит, суставы замучили, особенно коленные, говорит мозжит… слово какое-то чудное «мозжит».
– Мозжит, – повторила Наташа, и это странное слово откликнулось в её душе, где-то она его слышала и, кажется, не раз.
В свой кофейный перерыв девушкам не хотелось говорить о работе.
– Как у тебя с Максимом? – спросила Таня.
Наташа вытащила из воздушной шарлотки оранжевую дольку кураги, глотнула кофе.
– Всё хорошо, собираемся…
– Собираемся трудиться, – около них стоял шеф Феликс Казимирович, – недавно в СМИ прошла наша реклама, спрос на препарат значительно увеличился. Что у вас сегодня?
– У меня уже четыре сделки, – Наташа посмотрела на монитор, – нет, пять, все клиенты купили препарат на три-четыре месяца и внесли деньги.
– У меня шесть сделок, – добавила Таня.
– Молодцы, девочки, – улыбнулся Феликс Казимирович.
– Здравствуйте, это Зинаида Михайловна? – спросила Наташа.
– Да, это я.
– Меня звать Ангелина Осиповна, я профессор, доктор медицинских наук, могу проконсультировать вас в связи с приемом препарата «Идеал». Так что вас беспокоит, Зинаида Михайловна?
Следовали торопливые сбивчивые жалобы, в общем-то, почти одинаковые у всех не очень молодых людей. На этом этапе продвижения препарата клиентов старались запугать имеющимися у них заболеваниями, а потом, конечно же, говорили, что «увы, сами понимаете – без нашего препарата просто невозможно… да, лучше курсовая терапия».
– Наш препарат «Идеал», уважаемая Зинаида Михайловна, это панацея.
– Что, милая? Я слышу плохо.
– Панацея, – громко повторила Наташа, – это чудодейственное средство от всех болезней.
Наташа познакомилась с Максимом около полугода назад в раздевалке университета, она потеряла номерок от пальто, стояла растерянная, взлохмаченная, а тут:
– Это ваш номерок, девушка?
Высокий, худой, чёрные волосы собраны в хвост, очки, джинсы и взгляд просто невозможный какой-то, то ли азартный, то ли вдохновенный, это потом Наташа поймёт, что увидела глаза человека, чем-то очень увлечённого и не забывающего предмет своей любви. Уже на второй день они целовались, а через две недели Максим стал жить у Наташи… потому что жила она одна.
Её родители умерли два года назад как-то неожиданно и чудовищно быстро, почти вместе, сначала папа – острая сердечная недостаточность, а потом и мама – от того же, хотя она никогда не жаловалась на сердце, никогда.
«Она умерла от тоски», – решила Наташа, родители были вместе всю жизнь.
Наташа и Максим учились в одном университете на четвёртом курсе, она на историческом, он на математическом факультете, и если Наташа относилась к учёбе спокойно-добросовестно, без особого энтузиазма, то Максим был полностью поглощён своей прикладной математикой. Жить на стипендию было невозможно, и они подрабатывали, Макс писал программы для какой-то компьютерной фирмы, а Наташа…
«Моя работа связана с рекламой», – говорила она обычно, а что за реклама, не распространялась, да это и не интересовало никого. Но где-то в глубине души Наташа чувствовала и понимала, что этот ужасно дорогой, чудодейственный, волшебный препарат – не совсем панацея, мягко говоря… но об этом она молчала.
У Наташи была бабушка, которая жила в маленькой квартире с котом Тишкой, и была она ещё бодрой и активной, следила за здоровьем, питанием, пила витамины, читала популярные журналы о здоровом образе жизни и выполняла отдельные, понравившиеся ей советы. Жила бабушка недалеко – всего-то сорок минут на трамвае, но видела внучку нечасто. Жизнь Наташи летела не со сверхзвуковой скоростью, а быстрее – со скоростью света – учёба, работа, Максим. В последнее время работы было много, препарат успешно продавался, руководство торопилось.
В тот день Наташа задержалась на работе, ехала домой на автобусе и смотрела в окно на вечерний город.
«В этом парке часто гуляла с мамой, когда маленькая была, как выросли деревья, вот моя школа, помню, бабушка водила меня в первый класс, провожала, встречала, мамочка работала, а бабушка была дома и приводила к себе, запеканку творожную готовила часто – я любила, приду к бабуле и этот запах ванили, творога, изюма…»
Рядом вдруг тихо зазвучала старая песня «В городском саду играет духовой оркестр…» Наташа оглянулась – пожилая пара, сидящая сзади, включила маленький приёмник.
«Бабушке эта песня нравилась, надо позвонить ей, а лучше съездить. Когда я была у неё? Давно. Кажется, на старый Новый год приезжали с Максом, а сейчас уже апрель… в эту субботу приеду… обязательно».
Выходя из автобуса, Наташа услышала звонок мобильного телефона, посмотрела, увидела номер бабушки, подумала: «Дома перезвоню». Но она не перезвонила.
…она вихрем поднялась на второй этаж, открыла дверь… пахло лекарствами и бедой… в распахнутом окне трепетала занавеска… К Наташе подбежал Тишка, потёрся о ноги, замурлыкал беспокойно, не отходил… Вошла соседка.
– Скорая была, врачи, что могли, всё сделали, – она вытерла платком покрасневшие глаза. – Бабушка твоя, Наташенька, так следила за собой, так следила… уж очень ей хотелось правнуков увидеть, понянчить, а последние три месяца она препарат дорогой пила, от всех своих лекарств отказалась, да вот же он, на столе.
Наташа взяла тёмный флакон, на его этикетке было написано «Идеал», а внизу старческой рукой коряво приписано – панацея.
Англичанка
В этой реальной истории изменены только имена.
Софья Михайловна ехала в Москву на самой ранней электричке. Чтобы успеть на неё, нужно было сесть на первый автобус. Пятьдесят минут автобус, два часа электричка, потом метро, дорога занимала четыре часа в одну сторону. Софья Михайловна должна была приехать к девяти часам на курсы английского языка. Ей было шестьдесят пять лет.
Она уехала вместе с сыном из Казахстана в конце 90-х, в трудные девяностые, как потом стали говорить. Уехала сразу, как пошла на пенсию, оставив ставший родным город, потеряв работу, продав за бесценок квартиру и надеясь только на себя в новой, незнакомой жизни в России, где она и сын Алексей оказались в небольшом посёлке в двухстах километрах от Москвы. Алексею исполнилось тридцать восемь, он был разведён, имел семилетнюю дочь, которая вместе с мамой, казашкой по национальности, осталась в Казахстане.
В новом месте мать с сыном освоились быстро. Денег, вырученных от продажи трёхкомнатной квартиры, хватило на покупку небольшой двухкомнатной, но зато комнаты были не смежные, а изолированные. Они сами сделали ремонт, купили недорогую мебель, повесили на окна нарядные шторы и тюлевые занавески, украсили подоконники геранью и столетником, завели волнистого попугайчика Кешу, который вскоре научился говорить «привет, привет», в общем, жизнь началась.
Алексей нашёл работу быстро, он и в Казахстане был водителем грузовиков на металлургическом комбинате, а на новом месте стал работать шофёром на скорой помощи. А Софья Михайловна мучилась, с работой было трудно. В советское время она закончила технический вуз и по специальности была инженером-металлургом. В посёлке же даже фабрики не было. Вернее, уже не было, так как текстильную фабрику, бывшее градообразующее предприятие, сначала приватизировали ловкие люди, потом они же обанкротили, и они же продали. Известная схема. Теперь в бывших цехах фабрики размещались непонятные склады, суетились немногословные черноглазые рабочие, отъезжали и приезжали фуры. Местные на этих складах не трудились, на работу ездили в райцентр, а то и дальше, в Москву, где освоили не от хорошей жизни вахтовый метод – неделю-две работаешь, неделю-две дома. Такой стала реальность.
Пенсия Софьи Михайловны была скромной, зарплата сына небольшой, а квартплата приличная, поэтому сидеть дома она не могла, да и скучно было, вот если бы внучка была с ней… Она начала работать, вначале уборщицей в аптеке, потом продавцом на рынке, потом кассиром в магазине.
Однажды соседка рассказала Софье Михайловне, что в школе, где учился её внук, нет учителя английского языка, и как это плохо, что дети не учат иностранный, что «язык так важен, так нужен в наше непростое время».
«Так важен, так нужен», – Софья Михайловна вспоминала слова соседки вновь и вновь. Какое-то смутное желание зародилось у неё, оно росло, и пришёл день, когда ей стало понятно – она выучит английский, и может быть… может быть, её знания будут нужны кому-то.
Ей было тогда пятьдесят восемь лет. Она любила учиться, школу закончила с серебряной медалью, институт с красным дипломом, работая инженером, регулярно повышала свою квалификацию на курсах, она любила читать, узнавать что-то новое, интересное, она, несмотря на возраст, сохранила и живость ума, и любознательность. Когда-то в школе Софья Михайловна учила английский, в институте он был только в виде переводов специальной технической литературы, а в её трудовой жизни English и вовсе не требовался.
Нужно было начинать с нуля. Она купила несколько учебников, купила большие словари, купила аудиозаписи обучающих программ и учебники английского языка для всех классов средней школы. Теперь всё свободное время она посвящала волшебному слову English. Вначале было трудно, но потом пришла привычка, а вслед за ней и потребность в учёбе.
Её пытливый логический ум легко справлялся с грамматикой, сложнее было запоминать слова и выражения, но она стала записывать крупными буквами по десять слов на листе бумаги, который прикрепляла к холодильнику, и который открепляла только тогда, когда твердо запоминала… apple, table, husband, grandmother, grandfather, holiday, happiness, love, dream, music…
Сын, поначалу крайне удивлённый и ошеломлённый столь странным увлечением матери, вскоре привык, а потом постепенно и сам стал говорить good morning, goodbye, how areyou, give me the salt, the sugar и шутил, что скоро и Кеша станет англичанином. Теперь вместо радио и телевизора в квартире звучали уроки английского и песни, in English, of course, а некоторые, особенно полюбившиеся, Софья Михайловна старалась запомнить и потом часто напевала.
В трудах, хлопотах, учёбе время летело стремительно, и незаметно прошёл год, за это время Софья Михайловна освоила школьную программу по английскому языку. Наступил день, когда она решилась пойти к директору школы Петру Максимовичу, чтобы…
«…чтобы просто рассказать о себе, о работе, о том, как уехала из Казахстана, где прошло полжизни, как оказалась в этом посёлке, а потом… потом вот случилось… Пётр Максимович, я честно учила английский целый год, всё свободное время… меня ведь никто не заставлял… выучила всю школьную программу… да, Пётр Максимович, наизусть её знаю… и я полюбила английский язык…»
Так, приблизительно так или иначе говорила Софья Михайловна с директором школы, никто не знает, но пришла она после того разговора совершенно потрясённая, с горящими глазами, пылающими щеками, дома весь вечер пила то чай с мёдом, то сердечные капли, потом взяла альбом с фотографиями и долго смотрела старые, пожелтевшие чёрно-белые снимки, вытирала глаза, хлюпала носом и снова пила то чай с мёдом, то сердечные капли…
Утром она поехала в райцентр, купила себе юбку, две блузки, жилет и туфли. А через день, в новых нарядах, ушла в школу. Вернулась взволнованная и счастливая, а сыну сказала только два слова: «Всё хорошо». Так Софья Михайловна стала учителем английского языка. К занятиям она готовилась тщательно и добросовестно, со временем пришло уважение и учеников, и родителей, но, главное, она любила детей, они это чувствовали и называли ее «англичанка».
Прошло шесть лет. Новость о том, что ей необходимо получить документ, подтверждающий учёбу и окончание курсов английского языка, Софья Михайловна восприняла как должное и необходимое. Достойные, по её мнению, курсы были только в Москве. Свои силы Софья Михайловна оценивала объективно. Грамматику она знала хорошо, понимала структуру образования слов, предложений, частей речи, а запас слов у неё был вполне приличный. Ей не хватало свободы разговорной речи, и она надеялась на курсы. Они располагались в самом центре Москвы, на Тверской, недалеко от памятника Пушкину.
В группе было двенадцать студентов, но многие пропускали занятия, так что обычно присутствовало семь-восемь человек, из них четверо были постоянно, Софья Михайловна в том числе. Это были студенты и аспиранты московских вузов и те, кому требовался в работе английский. Преподавателем была молодая женщина, армянка, с необычным и каким-то «птичьим» именем Кнарик. Маленькая, с выразительными чёрными глазами, тёмными, всегда распущенными волосами, она действительно была похожа на экзотическую птичку и даже одежду носила только ярких цветов, что-то красное, жёлтое, зелёное… Английский Кнарик знала превосходно, свободно, с хорошим произношением говорила и вела занятия только на иностранном языке, лишь изредка, обычно объясняя грамматику, переходя на русский.
На курсах Софья Михайловна подружилась с аспиранткой Олей, которой было двадцать два и которая по возрасту годилась ей во внучки. После занятий они обычно спускались на первый этаж, где была небольшая столовая, покупали кофе, Софья Михайловна доставала приготовленные дома бутерброды, Оля сперва отказывалась, потом брала, «я только один, спасибо», а кофе был горячий, крепкий и сладкий. Потом шли по Тверской, в хорошую погоду задерживались – сидели на скамейке перед памятником Пушкину и болтали, рядом назначали свидания, встречались, расставались, спешили куда-то, а суетливые голуби всё подбирали хлебные крошки.
Наступил март, и курсы, начавшиеся в октябре, заканчивались. Когда Софья Михайловна пропустила два занятия подряд, Оля позвонила ей.
– Что случилось, Софья Михайловна?
– Я буду, Оленька, я приду.
На следующем занятии Софья Михайловна выглядела озабоченной и печальной. Она рассказала Оле, что в соседнем подъезде её дома поселилась новая семья – муж, жена и сын, а жена была… учителем английского языка, окончила педагогический институт и собиралась работать в школе, единственной школе посёлка. Второй учитель английского языка не требовался.
– Вы думаете, вам предложат уйти?
– Думаю, да, Оленька.
– И как же?
– Не знаю.
Весь последний месяц Софья Михайловна была грустна, рассеяна, задумчива. В начале апреля она получила заветный диплом. Жаркое лето с удушливыми подмосковными лесными пожарами пролетело, и наступила благодатная осень, радующая прохладой и ясными солнечными днями, Москва жила своей обычной шумной и беспокойной жизнью.
Оля продолжила обучение на курсах английского языка и, возвращаясь домой после первого занятия, позвонила Софье Михайловне:
– Как вы, что нового?
– Всё хорошо, Оленька.
– В школе работаете по-прежнему?
– Нет.
– А как же?
– Я ушла из школы, езжу в райцентр, это недалеко, всего пятьдесят минут автобусом, веду два раза в неделю кружок английского языка в Доме пионеров бесплатно, Оленька, на общественных началах.
– Как же вы живёте? Пенсия…
– Ничего, ничего, сыну зарплату прибавили, нам хватает. А без английского, без детей я уже не могу.
– Софья Михайловна, а я снова хожу на курсы английского, на следующий уровень. Может быть, и вы продолжите?
Софья Михайловна улыбнулась. Может быть…
Череп
– Череп получите в библиотеке, – закончил занятие преподаватель анатомии.
И тотчас вся группа второкурсников, не снимая белых халатов, вобравших в себя весьма специфический запах анатомички, помчалась в библиотеку. Маринка с подругой Валей стояли в очереди за своим черепом.
– Представляешь, целый семестр по анатомии только строение черепа, ну я не знаю, Марин, ну что там можно зубрить полгода!
Библиотекарь между тем выдавала подошедшим студентам черепа, как выдавала книги, учебники, атласы или словари.
Костя Ивашов, получив череп, накинул на него большой носовой платок как косынку и, держа в руке и сделав страшное лицо, стал подносить череп к студенткам:
– У-у-у!
– Что ты нас пугаешь, Костик! Нам после анатомички уже ничего не страшно.
– Ошибаетесь, девочки! – Вступил в разговор незнакомый студент, стоящий рядом. – На пятом курсе будет судебная медицина, там, знаете ли, трупы будут несколько другие.
– Правда? – с тревогой спросила Маринка.
– Правда. И вскрытие, милые коллеги, будете делать сами – от и до, и не одно вскрытие, без этого зачёт не поставят и к сессии не допустят.
– А вы на каком курсе? – хором спросили Валя и Марина.
– На шестом, – студент улыбнулся и подмигнул: – Ничего, осилим, девчонки!
Подруги замолчали, представляя себе, каждая по-своему, что же ждёт их на судебной медицине…
Маринка внимательно осматривала полученный череп, он был небольшой, аккуратный, отшлифованный до блеска руками десятков студентов, пытающихся запомнить это отверстие, этот отросток, и впадину, и узелок, и бугорок, дугу, борозду, бороздку… правую, левую, большую, малую, переднюю, заднюю… и всё по-латыни… нет, ну это просто невозможно!
– Маринка, во что бы завернуть наши черепа? Слушай, только в шапочки.
Подруги сняли с головы белые медицинские шапочки, надели их на черепа, взглянули со стороны, ужаснулись, улыбнулись и аккуратно положили в портфели.
– Придётся мешок для него сшить, чтобы на занятия носить.
– Да нет, Маринка, я буду в платок большой заворачивать.
– Правильно, и я тоже.
Осень в тот год была прохладной, дождливой, не баловала тёплыми солнечными днями, а в доме, где жила Маринка, как назло, что-то случилось с батареями – их всё никак не могли починить, и в квартире было не просто холодно, а ужасно холодно. Спать приходилось под двумя одеялами, в платке, а готовиться к занятиям – учить уроки, как говорила Маринка, она шла на кухню. Варила себе чёрный кофе, доставала любимые мятные пряники, надевала валенки, бросала на пол подушку, садилась на неё, прижавшись спиной к едва тёплой батарее у окна, рядом на табуретку ставила настольную лампу с зелёным стеклянным абажуром, на кухонный стол водружался тяжеленный том Синельникова «Атлас анатомии человека» и рядом череп.
Сгущались сумерки, наступал вечер, и приходила тишина, только стучал в окно неуютный осенний дождь, только свет лампы в полумраке кухни освещал и череп, и валенки, и подушку у батареи, и чашку чёрного кофе с мятным пряником, и атлас… потом, потом, во взрослой жизни вставала перед глазами Марины эта картина, и ей казалось, что это кадры из старого чёрно-белого фильма, такого знакомого, но вот почему-то не вспомнить никак…
В тот день в институте было две лекции подряд, а потом практические занятия в больнице. Подруги перекусили в столовой и бегом, бегом на трамвай, областная больница находилась на окраине, почти за чертой города.