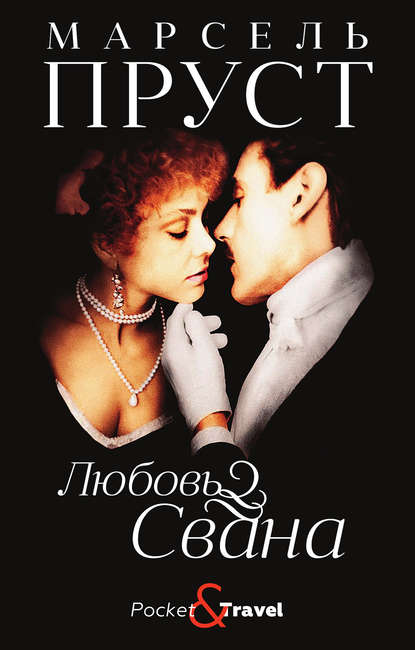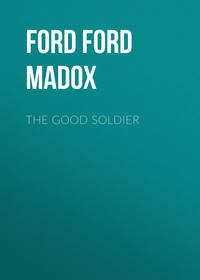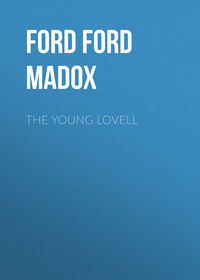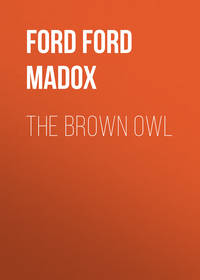Полная версия
Конец парада. Каждому свое
И все же… Бывали случаи, когда Макмастера безумно и невыносимо, почти до потери дара речи, влекло к каким-нибудь смешливым, пышногрудым, румяным продавщицам. И только Титженс спасал его от этих крайне сомнительных интрижек.
– Ну же, остынь, – говорил Титженс. – Не стоит иметь дела с этой развратницей. Ты только и сможешь, что устроить ее в табачный магазин, а она тебе всю бороду вырвет. Не говоря уже о том, что у тебя не хватит на нее средств.
И Макмастер, который уже успел очароваться милой толстушкой, словно она была прекрасной Мэри из известной песни на стихи Роберта Бёрнса, потом еще целый день всячески поносил Титженса за эту возмутительную грубость. Но теперь он благодарил небеса за то, что у него есть такой друг. Макмастеру было почти тридцать, и до сих ему удавалось уберечься от горя, болезней и несчастной любви.
С глубоким сочувствием и тревогой он взглянул на своего замечательного друга, который не смог спасти самого себя. Титженс попал в настоящую ловушку, в самую жестокую из ловушек, уготованную для него подлейшей из женщин.
Внезапно Макмастер осознал, что не испытывает никакого наслаждения от чтения собственной книги, вопреки своим ожиданиям. Он решительно начал перечитывать аккуратно отпечатанный на странице абзац с самого начала… Вне всяких сомнений, свое дело издатели знали превосходно.
«Кем бы мы ни считали этого человека – создателем таинственных, чувственных, безупречных, пластичных образов; талантливым автором, умеющим жонглировать звучными, живыми и полнокровными строками и словами, преисполненными цветом, как и его картины; или глубоким философом, черпающим прозрения из сфер таинственных, не менее загадочных, чем он сам, – Данте Габриэлю Россетти, герою нашей небольшой монографии, стоит отдать должное как человеку, сделавшему существенный вклад в живопись, в людское общение, в жизнь высокоразвитого общества, которое мы сегодня составляем».
Дочитав до этого места, Макмастер осознал, что не испытывает той радости, какой ожидал, и перешел к абзацу посередине третьей страницы, сразу после окончания предисловия. Его взгляд рассеянно заскользил по новой строке:
«Герой нашей книги родился на востоке Англии, в…»
Слова будто не несли в себе никакого смысла. Видимо, он еще не отошел от утренних событий.
Он поднял взгляд от чашки кофе, которую держал в руках, на сероватый лист бумаги, зажатый в пальцах Титженса, дрожащий, исписанный крупным, размашистым почерком этой злобной ведьмы. А сам Титженс смотрел ему, Макмастеру, в глаза не мигая, будто бешеная лошадь! Что за лицо у него! Помрачнело! Осунулось! Нос выделялся бледным треугольником! И это лицо Титженса, его друга…
У Макмастера было такое чувство, словно его резко и сильно ударили в живот. Он подумал, что Титженс сходит с ума, что он уже лишился рассудка. Но все прошло. Титженс вновь надел маску пассивности и деланного безразличия. Позже, в департаменте, Титженс прочтет сэру Реджинальду убедительную, но довольно резкую лекцию о том, почему он не согласен с официальными данными о притоке населения к западным колониям. Сэр Реджинальд останется под сильным впечатлением. Данные требовались для составления доклада министра по делам колоний или для ответов на возможные вопросы, и сэр Реджинальд обещал изложить высокопоставленному чиновнику соображения Титженса по данной теме. Такой поворот событий обыкновенно был на руку молодому служащему, потому что повышал репутацию всего департамента. Они работали с данными, предоставленными правительством колоний, и обнаружение ошибок в этих сведениях было весьма похвально.
Но в ту минуту он сидел перед Макмастером в своем сером костюме, широко расставив ноги, такой неуклюжий, нескладный; его большие «интеллигентские» руки безвольно висели между ног, а взгляд был прикован к цветной фотографии порта Булонь-сюр-Мер, висевшей у зеркала под багажной полкой. Невозможно было сказать, о чем думает этот светловолосый, румяный, погруженный в себя человек. Возможно, о какой-то математической теории или о недочетах в чьей-нибудь статье об арминианстве. Хоть это и казалось абсурдным, но Макмастер сознавал, что ему почти ничего не известно о чувствах друга. Титженс редко откровенничал с ним о жене. Макмастер припомнил только два таких случая.
Накануне отъезда в Париж, где Титженс собирался жениться, он сказал:
– Винни, дружище, теперь свадьба – единственный выход. Она обвела меня вокруг пальца.
И уже гораздо позже добавил:
– Черт возьми, а я ведь даже не знаю, мой ли это ребенок!
Последнее признание поразило Макмастера до глубины души – ребенку тогда было только семь месяцев, он часто болел, и неуклюжая нежность Титженса по отношению к сыну сама по себе казалась Макмастеру удивительной, даже когда он еще не слышал этих кошмарных слов; теперь же признание друга так сильно его ранило и привело в такой ужас, что он едва не счел эту новость личным оскорблением. Такими откровениями редко делятся с себе равными – разве что с адвокатами, врачами или со священниками, которые занимают особое положение. Так или иначе, подобные признания обычно высказываются для того, чтобы разжалобить ближнего, а Титженс однозначно не нуждался в сочувствии. Чуть позже он язвительно сказал:
– Она великодушно дает мне все основания для подозрений. И не только мне, но и Марчент. – Так звали старую няню Титженса.
Внезапно – словно на миг потеряв рассудок – Макмастер воскликнул:
– И все-таки это был настоящий поэт, напрасно ты с этим споришь!
Это замечание вырвалось у него невольно, когда в ярком освещении купе он вдруг заметил серебристо-белую прядь, упавшую на лоб, и круглое седое пятно над виском. Возможно, Титженс поседел уже давно, ведь бывает такое, что живешь с человеком рядом и не замечаешь перемен, происходящих с ним. Йоркширцы, румяные и светловолосые, часто седеют в юности; первые серебристые волоски появились у Титженса уже лет в четырнадцать; и это было особенно заметно на солнце, когда он снимал шляпу и кланялся. Но Макмастер с ужасом сделал вывод о том, что друг поседел из-за письма жены – всего за четыре часа! А это значило, что он страшно страдает и что его нужно во что бы то ни стало отвлечь.
Макмастер не успел как следует обдумать это свое предположение. По размышлении здравом он ни за что не стал бы сейчас заговаривать о знаменитом художнике и поэте.
– Что-то не припомню, чтобы я это оспаривал, – проговорил Титженс с упрямством, которое тут же передалось Макмастеру, и он продекламировал одно из стихотворений Россетти:
И вот со мною рядом ты,Коснуться бы руки.О, лучше б были мы с тобойБезмерно далеки.Так пусть теперь разлучит жизньНавек друг с другом нас:Нет ничего больней, чем взглядТвоих любимых глаз.– Не будешь же ты отрицать, что это поэзия. Великая поэзия, – проговорил он.
– Не буду, – небрежно бросил Титженс. – Я поэзию вообще не читаю, только Байрона. Но та мерзкая картина…
Макмастер неуверенно сказал:
– Не понимаю, о какой картине речь. О той, что находится в Чикаго?
– Нет, той картины, о которой я говорю, вообще не существует. Но я отчетливо ее вижу, – сказал Титженс, а потом с неожиданной яростью добавил: – Проклятие! Зачем так усердно оправдывать блуд? Англию просто с ума свели эти странные попытки. Есть же эти ваши Джордж Стюарт Милль и Джордж Элиот – самое то для высшего класса. А всех остальных оставьте в покое. Или хотя бы меня. Я с отвращением думаю об этом толстом потном мужчине, который никогда не моется, в заляпанном жиром халате и в нижнем белье, в котором он спал, представляю, как он стоит рядом с натурщицей с завитыми волосами, которая получит за все про все пять шиллингов, или со знаменитой Миссис Такой-То, и они, воркуя о страсти, смотрят в зеркало, где отражаются их зловонные фигуры, статуэтки, абажуры и тарелки, на которых лежат горы остывшего, жирного мяса.
Макмастер побледнел. Его бородка встала дыбом.
– Ты не имеешь… Ты не имеешь права говорить в таком тоне! – воскликнул он, заикаясь.
– Имею! – воскликнул Титженс. – Но не… не с тобой! Согласен. Но и тебе не стоит заводить со мной таких разговоров. Они оскорбляют мой ум.
– Само собой, – сухо сказал Макмастер. – Я выбрал неудачный момент.
– Не вполне понимаю, о чем ты, – проговорил Титженс. – О таком вообще лучше не говорить. Сойдемся на том, что строить карьеру – дело грязное и в моем, и в твоем случае. Но, как известно, хорошие прорицатели всегда ухмыляются под своими масками. И не поучают друг друга.
– Что-то ты увлекся эзотерикой, – тихо заметил Макмастер.
– Обращаю твое внимание, – продолжил Титженс, – на то, что я прекрасно понимаю, что тебе важно расположение миссис Кресси и миссис де Лимо! Ведь к ним прислушивается сам старина дон Инглби.
– Проклятие! – воскликнул Макмастер.
– И я с этим не спорю, – продолжал Титженс. – Я с этим соглашаюсь. Это ведь игра, и давняя. Она вошла в традицию, так что все справедливо. Она существует еще со времен Мольера – вспомни его комедию «Смешные жеманницы».
– Умеешь же ты подбирать точные слова, – заметил Макмастер.
– На самом деле нет, – сказал Титженс. – И именно поэтому мои слова и остаются в памяти таких, как ты, писателей, которые вечно охотятся за меткими выражениями. Но вот главное, что я хочу сказать: я всецело за моногамию.
– Ты! – воскликнул Макмастер и ахнул.
На что Титженс ответил небрежным «Я!» и продолжил:
– Я за моногамию и целомудрие. И за то, чтобы не говорить об этом. Само собой, если мужчина чувствует себя мужчиной и его тянет к женщине, он волен провести с ней ночь. И опять же, не стоит о том говорить. Ему от этого станет лучше, но еще лучше будет, если он все же воздержится. Это все равно что воздержаться от лишнего бокала виски.
– И это ты называешь моногамией и целомудрием! – прервал его Макмастер.
– Да, – сказал Титженс. – И не исключено, что я прав, во всяком случае, здесь все предельно ясно. А вот все эти ваши лапанья женщин под юбками и многословные оправдания любовью – это просто омерзительно. Ты уважаешь слезливую полигамию. В этом нет ничего страшного, если твои сторонники все же начнут жить иначе.
– Тебя не поймешь, – сказал Макмастер. – Ты говоришь очень неприятные вещи. По сути, ты оправдываешь беспорядочные связи. Мне это не нравится.
– Вероятно, я действительно говорю очень неприятные вещи, – согласился Титженс. – Как и все пессимисты. Но надо бы запретить разговоры о показной морали лет на двадцать. Эти ваши Паоло и Франческа, нарисованные этим вашим Данте Габриэлем и описанные Данте Алигьери, уже давно в аду, где им и место, и это даже не обсуждается. И Данте нет нужды их оправдывать. И он скулит о том, как хочет попасть на Небеса…
– Неправда! – воскликнул Макмастер, а Титженс невозмутимо продолжил:
– Бывают еще романисты, которые пишут книгу всякий раз, когда хотят оправдаться после каждого десятого, а то и пятого совращения наивных и совершенно обычных девушек…
– Тут ты прав, Бриггс перегибает палку, – согласился Макмастер. – Я только в минувший четверг у миссис Лимо говорил ему…
– Я не говорю ни о ком конкретно, – сказал Титженс. – Я не читаю романов. Я лишь изобретаю примеры. И тут все гораздо прозрачнее, чем у твоих мерзких прерафаэлитов! Нет! Я не читаю романов, но слежу за общественными настроениями. И если мужчина решает оправдать соблазнения скучных, но симпатичных девушек, поскольку он свободен и имеет на это право, это, можно сказать, похвально в глазах других. И ладно бы он хвастался своими похождениями прямо, без обиняков. Однако…
– Иногда в своих шутках ты чересчур далеко заходишь, – сказал Макмастер. – А ведь я же тебя предупреждал.
– Я сама серьезность, – сказал Титженс. – Низшие классы наконец подали голос. Собственно, почему бы и нет? Только они в этой стране и мыслят здраво. Если Англию можно спасти, ее спасут именно низшие классы.
– И ты еще считаешь себя тори! – воскликнул Макмастер.
– Те представители низших классов, – хладнокровно продолжил Титженс, – которые успешно окончили среднюю школу, предпочитают беспорядочные и довольно кратковременные связи. В каникулы они отправляются в путешествие по Швейцарии и другим живописным местам. Промозглые дни они проводят в ванных, хохочут, шлепают друг друга, брызгаются…
– А говоришь, что не читаешь романов. Я ведь узнал аллюзию, – сказал Макмастер.
– Я не читаю романов, – повторил Титженс. – Но имею представление, о чем они. Ничего достойного не писалось на английском языке с восемнадцатого века, разве что женщинами… Но эти твои любители банных процедур, естественно, стремятся приобщиться к многообразному миру литературы. А почему бы и нет? Здоровое, очень понятное желание; а сегодня, когда печать и бумага стоят не так уж дорого, его вполне можно исполнить. Здоровое желание, говорю тебе. Куда здоровее, чем… – Тут он осекся.
– Чем что? – спросил Макмастер.
– Я думаю, – сказал Титженс. – Думаю, как бы сказать помягче.
– Ты хочешь оскорбить, – с горечью сказал Макмастер, – людей, которые ведут жизнь созерцательную… размеренную…
– Именно так, – сказал Титженс. И продекламировал:
Она идет, моя мечта,Пастушка на пастьбе,Так осторожна и чиста,И мысли – при себе[4].– С ума сойти, Крисси! И все-то ты знаешь! – воскликнул Макмастер.
– Да… – задумчиво сказал Титженс. – Думаю, неудивительно, что мне так хочется ее оскорбить. Но это не значит, что у меня есть такое право. Я уж точно не стал бы этого делать, будь она симпатичной. Или будь она твоей пассией. За это не беспокойся.
Макмастер тут же представил большую, неуклюжую фигуру Титженса рядом с его, Макмастера, возлюбленной, когда он наконец встретит ее, – представил, как они идут вместе вдоль оврага, среди высокой травы и маков, и жарко спорят о Тассо и Чимабуэ. Как бы там ни было, Макмастеру представлялось, что его любимой Титженс не понравится. Как правило, он не нравился женщинам. Их тревожили его тяжелые взгляды и молчаливость. Они либо терпеть его не могли, либо души в нем не чаяли. И Макмастер примирительно сказал:
– Да уж, пожалуй, об этом мне тревожиться не стоит. – А потом добавил: – И в то же время неудивительно, что…
Он хотел сказать: «Неудивительно, что Сильвия говорит о твоей аморальности». Жена Титженса считала своего супруга мерзким. По ее словам, он изводил ее молчанием, а когда высказывался, безнравственность его взглядов выводила ее из себя. Но Макмастер не успел закончить свою мысль – Титженс продолжал свою речь:
– В любом случае, когда начнется война, Англию спасут эти маленькие снобы, потому что им хватит храбрости на то, чтобы понять и высказать, чего они хотят.
Макмастер высокомерно проговорил:
– Временами ты удивительно старомоден, Крисси. Тебе, как и мне, прекрасно известно, что война невозможна – во всяком случае, мы в ней участвовать не будем. Просто потому что… – Он засомневался было, но потом уверенно продолжил: – Потому что мы, представители благоразумного – да-да, благоразумного – класса, убережем свой народ от беды.
– Мой дорогой друг, война неизбежна, – сказал Титженс. Поезд стал сбавлять скорость, подъезжая к Ашфорду. – И наша страна окажется в самом ее эпицентре. Просто потому что твои приятели – подлые лицемеры. Ни одна страна в мире нам не доверяет. Мы постоянно, что раньше, что теперь, предаем истину, говоря о Небесах, совсем как твой приятель. – Он снова намекнул на содержание монографии, написанной Макмастером.
– Он никогда, никогда не скулил о том, как хочет попасть на Небеса! – воскликнул Макмастер, едва не начиная заикаться снова.
– А вот и неправда, – сказал Титженс. – То кошмарное стихотворение, которое ты цитировал, заканчивается так:
Так пусть теперь разлучит жизньНавек друг с другом нас.Я верю, что на НебесахМы встретимся не раз.И Макмастер, боявшийся этого удара, ибо никогда нельзя было предсказать, насколько большой – или маленький – фрагмент стихотворения его друг помнит наизусть, начал судорожно снимать свои баулы и клюшки с полки, хотя обычно поручал это носильщику. А вот Титженс, несмотря на то что поезд уже замедлял ход, прибывая на нужную им станцию, сидел неподвижно, пока вагон не остановился, а потом сказал:
– И все-таки война неизбежна. Во-первых, есть эти твои приятели, которым нельзя доверять. К тому же есть еще великое множество любителей банных процедур, о которых я уже говорил. Их миллионы, и они рассеяны по всему миру. Не только по Англии. Но даже всех ванных мира им мало. Это примерно как у вас, любителей полигамии. Во всем мире не хватит женщин, чтобы удовлетворить ваши аппетиты. Но в мире не хватит и мужчин на каждую женщину. А большинство женщин ведь жаждет внимания не одного, а нескольких мужчин. Отсюда разводы. Полагаю, ты не скажешь, что из-за того, что вы все такие правильные и осмотрительные, больше не будет никаких разводов? Война так же неизбежна, как развод…
Макмастер высунул голову в окно купе и принялся звать носильщика.
По платформе к поезду до Рая под водительством рослого, нагруженного багажом лакея спешили несколько женщин в милых соболиных шубках, с фиолетовыми и красными саквояжиками в руках, в прозрачных шелковых платках, развевающихся на ветру. Две из них кивнули Титженсу.
Макмастер считал, что непременно нужно соблюдать опрятность в одежде: никогда не знаешь, кого встретишь в поездке. Это разительно отличало его от Титженса, который ни капли не стеснялся того, что выглядит, как трубочист.
К Титженсу, собиравшемуся было войти в вагон для проводников, подскочил высокий мужчина с румяными щеками, светлыми волосами и бородой. Он хлопнул молодого человека по плечу и сказал:
– Приветствую! Как поживает ваша теща? Леди Клод очень интересуется, как у нее дела. Передает, чтоб вы непременно зашли в гости, если будете в Рае.
У мужчины были удивительно синие, невинные глаза.
Титженс сказал:
– Приветствую, генерал. Полагаю, ей уже гораздо лучше. Она много отдыхает. А это Макмастер. Думаю, скоро уеду на пару дней за супругой. Они обе сейчас в Лобшайде… Это немецкий курорт.
– Очень хорошо. Молодому мужчине одиночество только во вред. Поцелуйте Сильвии руку, скажите, я попросил. Она у вас восхитительная. Вы везунчик! – А после с тревогой поинтересовался: – А что же с завтрашней игрой? Пол Сэндбах не придет. Его тоже всего скрючило, как и меня. Игроков явно не хватает.
– Вы сами виноваты, – сказал Титженс. – Надо было пойти к моему костоправу. Обсудите все это с Макмастером, хорошо? – И он заскочил в темный вагон для проводников.
Генерал окинул Макмастера быстрым, проницательным взглядом.
– Так это вы – Макмастер? – поинтересовался он. – Видимо, так, раз ждете Крисси.
И тут кто-то позвал высоким голосом:
– Генерал! Генерал!
– Мне нужно с вами поговорить, – сказал генерал. – О цифрах из вашей статьи о юге Африки. Цифры верные. Но мы ведь лишимся этой проклятой страны, если… Но обсудим все сегодня за ужином. Вы же придете к леди Клод?
Макмастер порадовался, что опрятно одет. Это Титженсу к лицу наряд трубочиста, ведь он ни к чему не стремится. А вот он, Макмастер, совсем другой. Он желает стать уважаемым человеком, а уважаемые люди носят на галстуках золотые зажимы и предпочитают одежду из тонкого сукна. У генерала лорда Эдварда Кэмпиона есть сын, временный глава Казначейства, от которого зависят жалованье и карьерный рост всех остальных служащих.
Титженсу пришлось бежать, чтобы успеть на поезд. Сумку он забросил в окно купе, а сам заскочил на подножку. Макмастер подумал о том, что если бы так сделал он сам, то полплатформы завопило бы: «А ну, слезай!»
Но за Титженсом бросился начальник вокзала, открыл ему дверь в купе и широко улыбнулся.
– Отличный бросок, сэр! – прозвучала похвала, ведь в этом графстве особенно любили играть в крикет.
«Вот уж точно», – подумал Макмастер, и ему на ум пришли такие строки:
Любим удачей кто, а кто лишен ее:Даруют боги каждому свое.II
Миссис Саттертуэйт со своей служанкой-француженкой, знакомым священником и мистером Бейлиссом, дружба с которым значительно портила ее репутацию, остановилась в Лобшайде – на этом малоизвестном и немноголюдном курорте в сосновых лесах Таунуса. Миссис Саттертуэйт была элегантной и хладнокровной женщиной, она выходила из себя, только если на ее глазах за столом кто-нибудь ел знаменитый виноград сорта «троллингер», не снимая кожицы с ягод. Отец Консетт поехал с ними, чтобы отдохнуть на славу от ливерпульских трущоб, воспользовавшись трехнедельным отпуском. Тощий как скелет мистер Бейлисс – синий сержевый костюм, золотистые волосы и розоватое лицо – так страдал от туберкулеза, безденежья и высоких цен, что безропотно молчал как рыба, выпивал по шесть пинт молока в день и старался вести себя прилично. По правде сказать, в его обязанности входило в первую очередь ведение корреспонденции миссис Саттертуэйт, но та никогда не пускала его к себе в комнату – боялась инфекции. Так что Бейлиссу только и оставалось, что проникаться все большим уважением к отцу Консетту. Отец Консетт – широкое лицо, никогда не отличавшееся особой чистотой, большой рот, высокие скулы, растрепанные черные волосы и подвижные, вечно грязные руки – ни секунды не сидел на месте и говорил с тем акцентом, который часто упоминается в старомодных английских романах об ирландской жизни, но теперь такой услышишь не часто. Он то и дело посмеивался, и смех этот напоминал скрип карусели. Святой человек, и мистер Бейлисс знал это, хотя и не понимал откуда. При финансовой поддержке со стороны миссис Саттертуэйт мистер Бейлисс стал ведать раздачей милостыни при отце Консетте, вступил в Общество святого Викентия де Поля и сочинил несколько замечательных и витиеватых стихотворений на религиозную тему.
Компания подобралась приятная и весьма невинная. Миссис Саттертуэйт живо интересовалась (надо сказать, это был единственный ее интерес) симпатичными, статными молодыми людьми с удивительно плохой репутацией. Она либо сама ждала их у ворот тюрьмы, либо посылала за ними кэб. Она охотно обновляла их гардероб и давала денег на приятное времяпрепровождение. И когда, вопреки всем ожиданиям, из них получались нормальные люди – а чаще всего так и происходило, – миссис Саттертуэйт лениво радовалась удаче. Порой она отправляла своих протеже в какое-нибудь путешествие вместе со священником, которому требовался отдых, а порой приглашала к себе, на запад Англии.
Итак, общество собралось весьма приятное, и все его члены были счастливы. Лобшайд состоял из пустой гостиницы с большими верандами и нескольких квадратных домиков: белых, с серыми стропилами, разрисованных букетами из синих и желтых цветов или бордовыми охотниками, стреляющими по пурпурным оленям. Казалось, эти милые домики из картона и их кто-то расставил среди высокой травы. А за ними виднелись сосновые леса – мрачные, коричневатые, аккуратные, – они тянулись на несколько миль и шли то под гору, то в гору. Служанки носили здесь черные бархатные безрукавки, платья с белыми корсажами, бесчисленное множество нижних юбок и смешные прически с разноцветными лентами; размером и формой эти прически напоминали дешевые булочки. Девушки ходили рядами по четыре – шесть человек, медленно, выделывая танцевальные па ногами в белых чулках, торжественно покачивая прическами; а юноши носили голубые рубашки, бриджи, а по воскресеньям и треуголки, и ходили за девушками по пятам, хором распевая песни.
Французская служанка, которую миссис Саттертуэйт выменяла у графини де Карбон Шате-Эро на свою прежнюю горничную, сначала считала это место довольно maussade[5]. Но потом закрутила страстный роман с симпатичным, высоким, светловолосым парнем, у которого были пистолет, длинный охотничий нож с позолотой, серо-зеленый костюм с золотыми пуговицами и бляхой, и смирилась со своей долей. Когда юный лесничий попытался ее застрелить – по ее же собственным словам, et pour cause[6], – она пришла в восторг, а миссис Саттертуэйт лениво порадовалась.
Миссис Саттертуэйт, отец Консетт и мистер Бейлисс играли в бридж в большой, тенистой столовой. Юный, светловолосый, преисполненный подобострастия младший лейтенант, для которого пребывание здесь было последним шансом вылечить правое легкое и спасти свою карьеру, и бородатый курортный врач тоже включились в игру. Отец Консетт, тяжело дыша и то и дело поглядывая на свои часы, выкладывал карты торопливо и часто восклицал:
– Живее, живее, уже почти двенадцать! Ну же, ну же!
Заметив, что мистер Бейлисс жульничает, он воскликнул:
– Тройка – не козырь! Мой ход! А вы пока принесите мне виски, да побыстрее, только с содовой не переборщите…
Поразительно проворно выложив три последние карты, он воскликнул:
– Ох! Ну что за проклятие! Объявляю ренонс! – Тут он допил свой виски с содовой, посмотрел на часы и сказал: – Минута в минуту! Доктор, жму вам руку, закончите, пожалуйста, сами со всей этой чепухой.