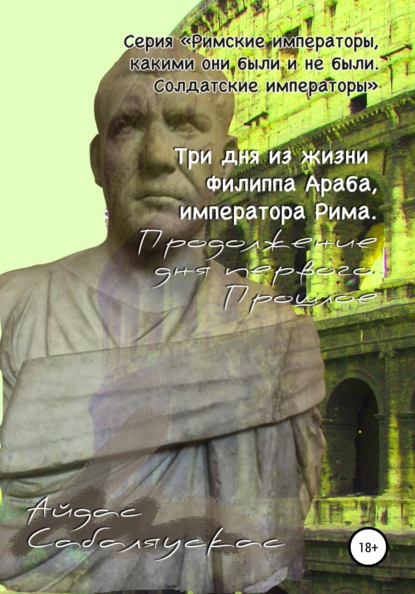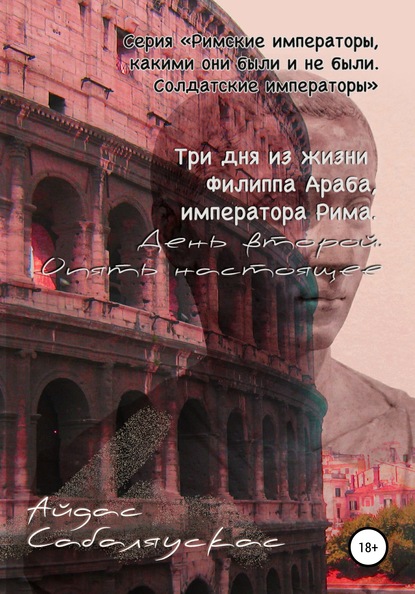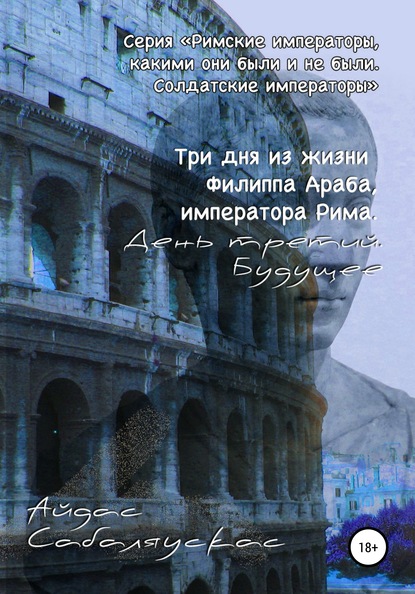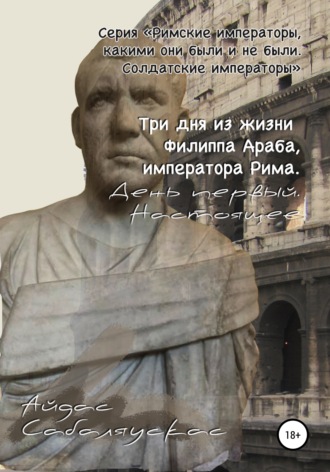
Полная версия
Три дня из жизни Филиппа Араба, императора Рима. День первый. Настоящее
Римская нация, словно чёрной тучей, надвинулась, сплотившись, на новую, если не укрепившуюся на своём Олимпе, вертикаль власти.
До императора, наконец-то, дошло: он вспомнил, что где-то далёко на озере Чад изысканный бродит жираф.
«Я вовсе не длинношеее животное! Для начала откуплюсь от черни дармовой жратвой, раз она привыкла к халве… эээ… к халяве и клянчит-попрошайничает! Ах, да —традиция, которую надо чтить!» – подумал Филипп Араб и тут же, не отходя от кассы, отдал недвусмысленный приказ изъять из державных и частных закромов не только чёрный хлеб самого низшего пошиба (panis plebeius), как раз и предназначенный для бесплатной раздачи римской бедноте и голытьбе, и даже не только абы какой белый хлеб второго и третьего сортов (panis secundarius), но и белый высшего качества (panis candidus) – тот самый, которым питались избалованные и изнеженные римские верхи.
– Да-да! Всё отовсюду реквизировать и раздать моему народу! Выполнять! Не возражать! – повелел Филипп. – Государство – это я, а потому частникам и инвесторам, сейчас вкладывающим в социальные проекты, всё потом возмещу деньгами из державной казны, никого сестерцием не обижу. Не обделю… лишним сестерцием! Надеюсь, мои предшественники не успели пустить всю казну на ветер или по миру! Если не успели, то всем всё компенсирую!.. Я знаю, что при Юлии Цезаре в Риме было… эээ… много пекарен… ну, не столь много, сколь будет при мне… с сего момента и вовеки веков! Радуйтесь, люди, каждому дню… моего правления!
К императору на интеллектуальную подмогу тут же ринулся и к его уху прильнул штатный знаток-наушник.
– При Юлии Цезаре в Риме было двести тысяч пекарен! – выслушав шепоток, ещё громче огласил римский властитель.
Уста наушника опять слились воедино с ушной раковиной римского государя, словно эти губы и ухо с детства были неразлучными друзьями.
Император внимательно выслушал знатока и шлёпнул его по губам: мол, чересчур-то не зарывайся, парень, не заговаривайся и государево ухо без нужды не терзай, а тем паче не кусай!
– Двести пятьдесят пекарен! То бишь к двум сотням надо прибавить пять десятков, но без тысяч! – поправился Филипп и, выдержав паузу, как ни в чём не бывало продолжил: – Слушайте меня, свободные граждане Рима! Слушайте и не говорите, что не слышали! При моём благословенном правлении выпекать хлеб в столице будет пятьсот пекарен… или пятьсот тысяч! Статистика сроду не лгала: ни в один из веков. Так было, так есть и так будет!
Десятки и сотни глашатаев, прибывших вместе с императором с азиатского Востока, эхом разнесли эту весть по всему Риму: уже никто не разобрал, да и значения не имело, на вульгаризированной ли латыни или на чистой державной мове.
– Мой народ! Я также ведаю, что при Юлии Цезаре бесплатный хлеб в Риме никогда не лежал в мышеловках, ибо это не сыр. Хлеб прямо со складов отгружали… эээ… получали… эээ… – император будто замялся, а может, в очередной раз выдерживал паузу, чтобы его последующие слова прозвучали весомей, грубей и зримей и произвели эффект разорвавшегося греческого огня.
К государеву уху тут же услужливо склонился знаток-наушник, теперь много о себе возомнивший и завитавший в облаках: представлял, какая стремительная и блестящая карьера эффективного державного менеджера ожидает его, начиная прямо с завтрашнего утра.
– При Юлии Цезаре бесплатный хлеб получали триста тысяч граждан Рима, – прогромогласил Филипп Араб, дослушав шепотливый бубнёж.
Всплеснув руками, скривившись и изобразив недовольную гримасу, уха римского владыки снова коснулся знаток-наушник. В этот раз именно коснулся, а хотелось если не оттяпать совсем, то укусить – и побольней.
– Триста двадцать тысяч! – поправился властитель после очередного шёпота, но шестым чувством прочухал, что если и дальше будет путаться в цифрах, фактах и показаниях, то граждане Рима засомневаются в его императорских компетенциях, а потому резко сменил тему: – А завтра… завтра… завтра устроим гладиаторские бои в Колизее! С морским боем и охотой людей на хищников. И наоборот: зверей на человеков. Организуем поединки и мужчин, и женщин… эээ… они не друг с дружкой драться будут, а меж собой!
– В том смысле, что масло масляное? – невежливо полюбопытствовал кто-то из толпы.
– Каждый гладиатор и всякая гладиаторша будут рубиться внутри своей весовой… эээ… гендерной категории, не выходя за границы приличий и дозволенного! А в дружеском союзе оба пола по одну сторону баррикад станут биться со львами и крокодилами!.. Бойцы потом годами и долгими зимними вечерами будут вспоминать минувшие дни, где вместе рубились и бились они! Праздник пройдёт на ура, с песнями и плясками… в честь меня. Делу – время; потехе – весь завтрашний день с утра до позднего вечера!
– Зрелищ!!! – взревела благодарная публика, не успев пока даже покормиться.
На голодный желудок взревела.
Император заставил себя улыбнуться, дивясь простому здравомыслию и живой оригинальности простых неграмотных горожан.
– Это ещё не всё! – перекрикивая толпу, внезапно возопил штатный знаток-наушник, с перекошенного лица которого так и не сползло недовольство. – Только я ведаю, что ещё хотел сказать наш величайший император! И я поделюсь с вами этим сокровенным и сакральным знанием! Император назначил меня любимой женой… эээ… император доверяет мне, как себе самому!
«То, что я желаю сказать, и произносить имею право лишь я сам! Только своими устами и языком! Даже если пересказанные мной знания будут чужими!» – недовольно поморщился владыка Рима, мысленно решив судьбу наушника, вернее, уже уготовав ему незавидную участь. И ещё точнее, оставлял его в живых до поры до времени, намереваясь истребить при более верной оказии.
Приглашение на казнь
«Я не могу найти цветов расцветшей сливы,
Что другу показать хотела я:
Здесь выпал снег —
И я узнать не в силах,
Где сливы тут, где снега белизна?»
Ямабэ Акахито
Знаток-наушник, однако, фишку не словил и продолжил, словно главарь, горланить и горлопанить:
– До объявления зрелищ наш император хотел известить всех о следующем. Помимо испечённого хлеба всем римским жителям города, имеющим постоянную прописку, будет впрок роздана мука и немолотое зерно, кто какое пожелает: пшеница, ячмень, рожь, рис, греча, кукуруза, горох, просо. И даже овёс! А кому… эээ… просто силоса, пусть это и не зерно? Кто позарится? Никто? Тогда без силоса обойдёмся! По десять… нет, не по десять, а по двадцать мер злаковых и незлаковых! И дополнительно по десять… нет, не по десять, а по двадцать фунтов масла! Чтобы всего было в два раза больше, нежели это делалось при невинно убиенном императоре Юлии Цезаре.
«Это он на что намекает? Уж не на то ли, что современный Брут со мной тоже дважды вот-вот сотворит? Или, напротив, что даже один раз никакой поножовщины не приключится?» – нервно отрефлексировал император, желая если и умножить, то не на два, а на ноль.
Наушник не унимался:
– Кроме того, под открытым небом на двадцать две тысячи столов будет дан грандиозный обед, фуршет и банкет в одном флаконе… Нет! Это у Цезаря было двадцать две тысячи столов, а у нашего уникального и щедрейшего императора будут все сорок четыре! Тысячи, разумеется, а не единицы. С фазанами, муреной, устрицами! С изысканными фалернским и хиосским винами…
«Надо бы запомнить марки вин. Зарубить их себе на носу!», – подумал Филипп Араб и, чтоб не забыть, несколько раз повторил их про себя: фалернское-хиосское, фадернское-хиосское, фалернское-хиосское. И в обратном порядке: хиосское-фалернское, хиосское-фалернское, хиосское-фалернское.
– А кто пожелает экзотики, тому поднесут даже импортную водку! – надрывался наушник. – Прямые поставки напитка из Гипербореи!
«Нет, этого я точно не запомню, потому даже пытаться не буду, а то и про фалернское-хиосское запамятую, – продолжил мыслить император. – За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь!»
– Во всех концах империи мы разовьём римскую деревообрабатывающую промышленность… эээ… мануфактуру! – совсем раздухарился наушник. – А между столами будут сновать тридцать пять тысяч одних курьеров!
– Да здравствует император! Ave Caesar! Ave Augustus! – бесновался римский люд. Государю вдруг на миг показалось, что это не великий народ, а просто грязная чернь.
– Не только у Юлия Цезаря был свой триумф, но и у нашего Филиппа Араба… эээ… Филиппа Величайшего! – никак не мог охрипнуть или заставить себя замолчать наушник императора.
– Когда?!! – кричал в ответ народ. И в лад, и невпопад, и хором, и вразнобой.
Не только матроны бросали в воздух свои чепчики, но все, на чьих затылках таковые гордо восседали или были по-простецки нахлобучены. Оба пола и даже (втайне) третий, науке ещё не известный.
– Что «когда»? – не понял знаток-наушник, утонув в собственном вдохновении и в лучах славы.
– Когда будет дан обед, фуршет и банкет?! – донеслось из народных гущ.
– Ах, это… Обещанного три года ждут!!!
– Через три года будет уже другой император! – воскликнул всё тот же вовремя не словленный мальчик из толпы (не пойман – не вор).
– Наш Филипп и через три на своём месте будет. Править ему уготовано целых пять лет! – поправил неразумного мальца грубоватый… тенор.
– По правде говоря, праздник желудка должен был случиться завтра, – публично признался наушник. – Но раз на завтра анонсированы уже Колизей, гладиаторы и звери, то я не могу ничего отменить. И прав переверстать программу у меня нет. Чтобы не рисковать, устроим всеримский сабантуй послезавтра!
«Вот наглец! – напрягся император. – Уже за меня решать начал! Не остановишь, так нараздаёт людям несбыточных обещаний, а я потом отвечай! Так однажды и пурпур мой на себя натянуть вздумает».
– Мы вместе с Филиппом Величайшим раздадим не только море еды и пития, но и денег! Юлий Цезарь выдал по двадцать четыре тысячи сестерциев только своим заслуженным ветеранам-легионерам. Мы же от щедрот своих каждой римской семье даруем по сорок восемь тысяч!.. И не только!.. – чуть не захлёбывался в собственной слюне оратор. – Будет и ещё! Всем и каждому! Всего и по многу! Не благодарите! Вернее, кричите ура!
– Ура!!! Ура!!! Ура!!!
«Неспроста Тиберий считал, что если отказаться от раздачи черни еды, вина и денег, то Римская держава рухнет. Слишком много лишних людей в империи наплодилось и накопилось! Бездельников, которые не пришей кобыле хвост! И это ещё Онегин, добрый мой приятель, Печорин, Бельтов, Рудин, Лаврецкий с Обломовым не народились! Ох, и споткнётся на таковых, как о порог, любое государство! Но… туда ему и дорога… после нас – хоть потоп!», – вздыхая, однако нимало не огорчаясь, подумал Филипп Араб.
– Римская империя никогда не рухнет! – продолжал харизматически духариться и пассионарно хорохориться знаток-наушник: публика, правда, не поняла, к чему и в какой привязке он упомянул о вечном житье-бытье империи. – Я и мой государь будем укреплять её двойным… размером всего и вся! И по многу! Если Октавиан Август выдавал по килограмму хлеба двустам тысячам римлян, то я… и мой император начнём отпускать со складов по два килограмма в зубы четырёхстам тысячам граждан! Если прежний Август шесть раз пожертвовал голытьбе… эээ… бедноте… ну, и голытьбе тоже, по сто денариев, то мы с другом Филиппом выдадим двенадцать раз по двести! То есть казна опустеет не на сто тридцать миллионов денариев, а на все двести шестьдесят! Я и император – это сила!!! Я и Филипп – мы оба спасём Рим от преждевременного падения! Рим не падёт раньше, чем ему это уготовано временем! Я слишком много знаю и, если что, всегда моему императору подскажу! Он ведь сам – словно дитя малое и неразумное, а потому многого не ведает! Чем смогу, всегда ему помогу!
Наушник то ли сошёл с ума от безнаказанности, то ли попросту забыл о том, что многия его знания – многия его же печали. Или просто отвлёкся и забылся.
– Уймите этого мужчину! Он лиходей и супостат! – вполголоса повелел император личной охране, взбугрив свои желваки. – Найдите лобное место, где его можно привести в чувство и быстро успокоить. До вечера тянуть не стоит! Желающие пусть посмотрят, полюбуются – любознательных не разгонять! До завтра не все смогут вытерпеть, пусть у кого-то и сегодня случатся маленькие человеческие радости!
Стража прихватила наушника под белы руки и утащила его, орущего, как оглашенный, что «Волк меняет шкуру, а не натуру!», в ближайшую подворотню – с глаз государя долой. Вслед за стражей и лиходеем-супостатом увязалась целая процессия, пожелавшая насладиться зрелищем раньше, чем наступит завтра: любопытные, толпящиеся рядом с плахой или крестом для распятия – штука естественная и обыденная не только для Древнего Рима, но и во все времена и при любых нравах.
– Ну, теперь в курию Юлия! В сенат! – махнул рукой император. – Поехали! Проводник, веди… эээ… не отставай!
И Филипп пришпорил коня.
В курию! К сенаторам! По делу! Срочно!
«Сто мужей именитых
Императорской свиты,
Верно, здесь, в Нигитацу,
На ладьях отплывали…
Нам неведомы эти далёкие годы…»
Ямабэ Акахито
«Как же ублажить эту свору собак… эээ… элитариев? Просто гаркнуть на них или сразу… пустить в расход? Гаркнуть – точно нельзя. Пугливые они, разбегутся кто куда по своим щелям и норам. Ищи их затем, свищи. И в расход нельзя – потом их костей не соберёшь, голосовать будет некому. А я хочу быть легитимным! Желаю, чтобы не только армия, но и весь сенат меня на царство помазал! Так сказать, всеримский Земский собор! Какие новые, но точные слова – Земский собор – ах, как кружится голова! Единогласие! Моя затея… эээ… моя идея!» – продвигаясь то впереди верного проводника, то вслед за ним к зданию сенатской курии, с упорством маньяка размышлял Филипп, вспоминая недавние наставления одного из своих более деликатных наушников, прежде тоже никогда в Риме не бывавшего, но человека если не начитанного, то набравшегося и вершков, и корешков. Нахватанного.
Что он там наговаривал?
Ах, да: мол, сенат как древний державный орган-институт то тайно, то явно, но до сих пор придерживается принципов, в последние годы республики озвученных и внедрённых в него ещё Помпеем, Цицероном и Катоном.
Что там ещё нашёптывал?
Ах, да: мол, сенат ни на шаг не отступал от этих принципов ни в периоды Цезаря или Октавиана Августа, ни при правлении иных Юлиев-Клавдиев, ни даже при Флавиях! Выдержал и эпохи просвещённого абсолютизма Траяна (однажды заявившего: «Я теперь скупее стал в желаньях…») и прочих разных Антонинов, поначалу смирившихся с возрождённым из античного пепла стоицизмом, а затем, пусть и поневоле, воспринявших его не просто как данность, а как свою внутреннюю сущность: императоры и людей покоряли, и сами идеям покорялись.
…Римские сенаторы меж тем уже спешно и вовсю сбегались и слетались, как мошкара, в курию Юлия – место их постоянных сборов, голосований, обсуждений, осуждений, словоблудий, тусовок, посиделок, чаепитий, а порой и пьянок-гулянок, когда всех подкашивала хмельная сила.
Вот сейчас очередная заря пришла – все устремлялись ей навстречу.
Во время пробежки многие думали: «Надо немедленно брать инициативу в свои руки везде, начиная с управления державой и кончая буфетом курии Юлия». Но чем ближе было здание сената, тем шустрее эти мысли покидали сенаторские головы. А внутри помещения – так вообще выветрились.
…Насмарку были думы. В зале заседаний осталась одна на всех: «Ты начальник – я дурак!»
*****
Курия располагалась примерно на том же самом месте, где третий легендарный царь Рима Тулл Гостилий восемьсот лет назад построил самую первую, названную в его честь: курией Гостилия. Не сам, конечно, построил, не своими руками (для этого рабы и прочие подневольные рукастые работяги под рукой имелись: рука ведь – она чья надо рука!), зато активно духовно наставничал: убеждал всех в наличии «исконных скреп».
В I веке до нашей эры в период диктаторства Суллы курия Гостилия была реконструирована и в метраже расширена, получив при этом новое название – курия Корнелия: Сулла ведь был не просто Суллой, а Луцием Корнелием Суллой. И преномен, и номен, и когномен – всё было при нём, как подобает коренному римлянину-патрицию.
Последняя курия в результате то ли гражданских, то ли внутригородских войн, то ли вообще понятийных бандитских разборок патрицианско-нобилитетско-плебейской знати через тридцать лет после своего апгрейда сгорела: а всего-то-навсего чернь разожгла на Форуме рядом с курией прощальный погребальный костерок для одного из своих лидеров, погибших в ходе этих войнушек. Вот здание, прихватив с собой за компанию ещё часть Рима, в пламени и сгинуло.
Но, как выяснилось, не навсегда.
Двести лет назад Юлий Цезарь за десятки миллионов сестерциев выкупил это место (если и не пепелище, то стопудово пожарище) вместе с большим участком прилегающей землицы. Приобрёл, так сказать, в личную собственность. Устроил там первый в истории Рима императорский Форум и начал возводить для сенаторов новую курию – надеялся заслужить этим их благодарность и благосклонность. Но не тут-то было! Прогадал, не заслужил. Достроить не успел – его убили. Только и успел воскликнуть на прощание сакральное: «Et tu, Brute?» – «И ты, Брут?!» (а Брут тем временем и был таков).
Довёл здание до ума и с помпой открыл его, торжественно перерезав красную ленточку, лишь внучатый племянник Цезаря и его официально усыновлённый наследник – Октавиан Август. Однако курия всё одно звалась одноимённо – курией Юлия, ибо Октавиан Август, как и все поистине великие люди, не был тщеславен: скромность всегда украшала мужчину, тем более этого…
Впрочем, император Домициан к зданию тоже свою руку приложил – его перестраивал. Но для потомков – тоже безымянно в названии.
*****
Вот сюда-то сенаторы и поспешали. Кто-то даже не торопясь.
Коли сидючи, поместиться в курии могло три сотни важных особ и тел (что, впрочем, было одним и тем же); а если стоя, как и положено стоикам, то помещение можно было набить ещё таким же числом правящего имперского класса. Ну, если не правящего, то синекурного.
…Надвигались великие события.
Сенатские хитросплетения
«Когда бы вишни дивные цветы
Средь распростёртых гор всегда благоухали
День изо дня,
Такой большой любви,
Такой тоски, наверно, мы б не знали!..»
Ямабэ Акахито
Филипп Араб не с луны свалился и (после наушничаний советников) знал, что один римский сенатор не только по весу и росту, но и по своему правовому статусу отнюдь не равен другому, а второй – третьему: сенат многослоен, как пирог у северных и северо-восточных варваров, а меж сенаторами вовсю процветают дедовщина, годковщина и землячество, не говоря уже о коррупции и борьбе за статус, за спецсинекурки и прочие места под солнцем и луной.
*****
Самыми-пресамыми взбитыми сливками, можно сказать, сметаной, а то и сливочным маслом, в сенаторской пирамиде по праву считались экс-цензоры и консуляры-проконсулы (это, во-первых, бывшие первые и вторые консулы: каждый годичный отрезок времени консулов в Риме для подстраховки должно было быть двое; а, во-вторых, бывшие консулы-суффекты – этих выбирали, если один из двух оригинальных ординарных консулов по какой-то причине из игры выбывал: всякое бренное тело не вечно…)
Впрочем, о существовании цензоров за минувшие век-полтора все уже изрядно подзабыли: когда-то, после краха республики, их функции лёгким движением руки перетянули на себя первые императоры-принцепсы, а потом статусы сии… словно повымерли – пропали, будто вовсе не бывали. Последним пожизненным цензором был, кажется, император Домициан из династии Флавиев, и было это сто пятьдесят лет назад. А теперь… теперь… Мисюсь, где ты? Туман. Дымка. Нет никакой Мисюси-пуси…
Первыми консулами уже почти двести лет подряд тоже предпочитали становиться сами императоры, причём многократно, ежегодно, пожизненно, хотя чин издревле положено было носить (не в кармане, но как штандарт – над головой) лишь по двенадцать месяцев. Другое дело, что не всегда у императоров «пожизненность» задавалась: то перевороты, то смутные времена, то междоусобицы, то междуцарствия, то понос, то золотуха, то скромность мужчину украшала.
Сейчас в сенате заседало несколько прежних консулов-неимператоров – и тех, кто был первым, и тех, кто побывал вторым: Пий, Понтиан, Атик, Помпеян, Арриан, Пап, Претекстат. Все мужчины знатные и деликатные, но с амбициями и со своими тараканами в головах.
*****
Второй эшелон сенаторов представляли претории (бывшие преторы-судьи), трибуниции (бывшие народные трибуны), эдилиции (бывшие эдилы: городские хозяйственники, державные снабженцы, проверяльщики, контролёры и надзорщики) и квестории (бывшие квесторы: бывшие помощники бывших консулов).
Нижний слой сенаторов – педарии – те, кто никогда не был магистратом, то есть совсем не состоял на государственной службе, но каким-то боком в сенат прошмыгнул, пронырнул или просочился: по блату ли, мытьём ли, катаньем, или просто мешок денег кому-то занёс. Короче, это была грязь под ногтями у верхнего эшелона. Этим положено было вечно молчать в тряпочку и в знак согласия кивать головами, как китайские болванчики, а то ведь и на улицу могли прогнать: получать всё интересное из первых уст и рук станет невозможно! Однако это была такая грязь, которая из своей среды выпускала порой не только пузыри, но и крутых князей. Настолько крутых, что, мама, не горюй!
В каждом из сенаторских слоёв-каст были собственные слои-подкасты, которые в свою очередь сегментировались на ещё более мелкие: стоит только быстро-быстро пошинковать (вжик-вжик-вжик…)
*****
Император миновал портик с белоснежными мраморными колоннами.
Створки массивных металлических ворот построенной из красного кирпича курии, будто бы сами собой, растворились, и новый владыка Рима в сопровождении группы верных варваров-телохранителей с тёмными непроницаемыми лицами и кривыми ногами шагнул внутрь помещения: помнил о судьбе Юлия Цезаря – во-первых, нельзя входить к сенаторам в одиночку, ибо курия была самой настоящей клеткой со львами, волками и гиенами, пусть и худо-бедно прирученными, а во-вторых, даже под туникой и тогой пурпуроносной вип-персоны должна была обязательно быть пододета защитная металлическая оболочка. Мощный каркас. Панцирь, латы или кольчужка. Бронь, одним словом. Доспех.
Железо или сталь под одеждой – вот она, гарантия долгой и счастливой жизни для всякого авторитарного или тиранического правителя.
Стражи императорского тела плотным кружком следовали подле своего властителя, словно слепцы за поводырём или как железные опилки за магнитом. Куда иголка – туда нитка, вернее, их клубок. Тоже своего рода образ. Пусть и банальный.
«Чего-то на фасаде здания не хватает, – зашуршало в голове императора. – Ну, точно: недостаёт мрамора! Надо облицевать всю курию лучшим арабским мрамором… или италийским?.. да-да, лучше италийским, он нынче в моде, в тренде и в мейнстриме даже в песках моей Аравии! Да, точно, пусть мрамор будет италийским, ведь у меня на родине его не добывают! Облицевать курию! Непременно завтра же этим делом и займусь. Организую! А не то кто-нибудь из будущих императоров умыкнёт мою авторскую затею… эээ… идею! Надо поторопиться, пока никто не догадался… до этого додуматься».
В курии приятно пахло… чем?.. Филипп никак не мог отыскать в памяти определение запаха, а потому порешил, что это… ладан или мирра. В крайнем случае – фимиам или… елей. В ещё более крайнем – аромат бахура и абсурда.
Правящий класс тоже у ног Филиппа Араба
«С далёких, далёких времён
Сохранилась престарая эта плотина.
Много лет ей минуло,
И берег пруда
Сплошь покрылся густою болотною тиной…»
Ямабэ Акахито
С царским достоинством вышагивая по пёстрой мраморной напольной плитке, изузоренной парой-тройкой повторяющихся орнаментов, Филипп через живой коридор (многим хоть одним глазком хотелось первыми взглянуть на нового государя, а ещё лучше до него дотронуться) следовал в конец зала – туда, где возвышалось изваяние Богини победы. Император шёл меж рядов и видел как юные пышущие здоровьем, так и дряблые морщинистые лбы, щёки и подбородки.