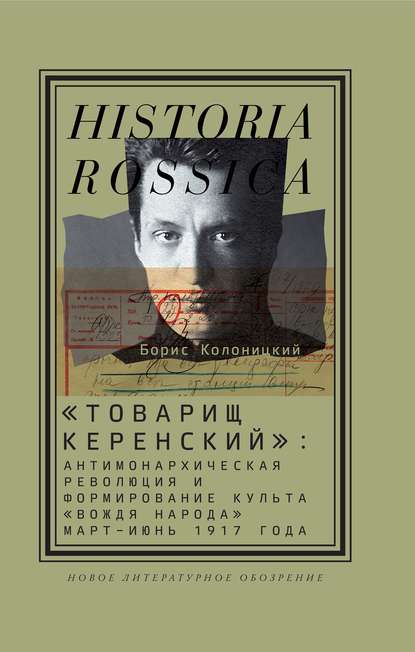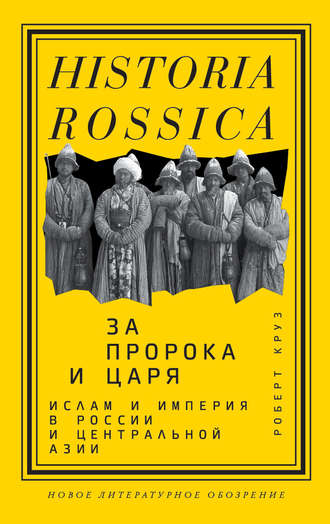
Полная версия
За пророка и царя. Ислам и империя в России и Центральной Азии
Эта модель экспансии в столь разнородные регионы, населенные мусульманами, породила другой парадокс империи. Царская элита понимала завоевание Кавказа, казахской степи и Центральной Азии как подтверждение имперской славы и европейской идентичности России, но также и признавала, что новые границы порождают новые уязвимые места. Лишь Черное море отделяло Крым от Османской империи. Экспансия за Кавказский хребет формировала растянутую границу и с Османским государством, и с каджарским Ираном. Протяженные общие границы с Афганистаном, Британской Индией и Китаем символизировали великодержавный статус России, но также усиливали настороженность властей по поводу распространения имперской власти на такое расстояние от столицы, заложенной Петром Великим. Вдоль южных границ империи от Крыма до Памира миллионы мусульман жили по обе стороны границы вдалеке от имперского центра. Перед царской властью вставала задача разорвать связи мусульман с их соседями-единоверцами, в том числе с их бывшими правителями в Стамбуле, Тегеране и при оазисных дворах ханов Трансоксианы.
К концу XIX в. мусульмане жили в восьмидесяти девяти губерниях и областях империи (а также в протекторатах – Бухаре и Хиве). По условиям жизни можно разделить эту территорию на семь различных зон компактного заселения: Крым, Северный Кавказ, Закавказье, Поволжье, Урал, Казахстан и Центральная Азия (Трансоксиана). Восьмая зона – северный пояс разбросанных диаспоральных общин – простиралась от Польши через Санкт-Петербург и Москву до Сибири. В 1897 г. первая всеобщая перепись населения всей империи официально зарегистрировала около четырнадцати миллионов мусульман, хотя организаторы переписи пришли к выводу, что они недосчитали мусульман, и оценили их истинное число примерно в двадцать миллионов. Более трех с половиной миллионов мусульман жили в губерниях так называемой «Европейской России». Более трех миллионов обитали на Кавказе, и самая большая группа, около семи миллионов человек, населяла Казахстан и Центральную Азию.
Помимо географического положения, демографии и исторического опыта отношений с российскими администраторами и поселенцами, гетерогенность мусульманских подданных царя проявлялась в культурных различиях. Согласно переписи 1897 г., мусульмане принадлежали более чем к дюжине языковых групп, подсчитанных властями. Более двенадцати миллионов говорили на языках «турецко-татарской» группы. Две следующие по величине группы были «кавказские горцы» (более миллиона носителей языков) и «восточные индоевропейцы» (более полумиллиона носителей); более десяти тысяч мусульман считали своим «родным языком» «русский»11. Кроме того, прежде чем царские институты связали воедино эти различные сообщества под имперской властью, они слабо контактировали друг с другом и, возможно, испытывали лишь самое абстрактное ощущение принадлежности к одной религиозной общине. Царский режим однажды выработал отдельные административные уложения для каждой местности и тем увековечил различия между ними. Мусульмане на Волге и в Крыму подчинялись гражданской администрации, а на Урале, Кавказе и в Центральной Азии – различным формам военного управления. Также на региональной основе государство назначало этим народам обязанности и привилегии, тем временем инкорпорируя их в более обширную сословную структуру империи.
Численность мусульманского населения, его распределение по территории и геополитическая важность сообществ последователей ислама ограничивали спектр управленческих возможностей российского государства. Начиная с XVI в. спорадические попытки обратить в православие мусульман Поволжья и Урала дали небольшое количество обращенных, но вызвали серьезное сопротивление. В XVIII в. мусульмане периодически поднимали вооруженные восстания против кампаний христианизации. Подобно тому как эти народы нельзя было массово обратить в православие, не угрожая стабильности империи, их нельзя было так просто и выселить за ее пределы. В отличие от правителей средневековой Испании, которые выселили (или обратили) мусульман и евреев, Романовы никогда не прибегали к тотальным изгнаниям ради однородности населения. Конечно, мусульмане южного пограничья России, примыкавшего к Османской империи, порой становились жертвами подобного государственного насилия. В ходе жестокого подчинения Кавказа царской армией при Николае I российские командиры хвалились тем, что обращали в бегство нелояльных мусульман. Несколько сотен тысяч мусульман покинули свои дома на Кавказе и в Крыму после Крымской войны (1853–1856) и поражения сопротивления на Северном Кавказе12.
Не следует, однако, на основе кровавой истории изгнания и бегства мусульман из южной зоны фронтира делать выводы о политике империи в отношении ислама в целом. Российская военная стратегия преследовала ограниченные, хотя и беспощадные цели. Власти не мечтали об очистке Северного Кавказа и Крыма от всех мусульман. Российские генералы долгое время обещали отвечать на нелояльность «истреблением», и войны с Османами демонстрировали, насколько все еще были важны эти регионы и лояльность их жителей. Но подобная стратегия никогда не запрещала кооптацию местных элит или даже наем перебежчиков.
Насилие царей не было и единственной причиной мусульманской эмиграции. Мусульманские военачальники вроде имама Шамиля, возглавлявшего антиимперское сопротивление в Дагестане и Чечне, насильственно переселяли общины, которые отказывались присоединиться к его джихаду против русских. Марк Мазовер привлек внимание к проблеме: как выявить сознательное намерение и отличить «изгнание от паники», и отметил, что «одно могло переплетаться с другим, как показывает случай немцев Восточной Пруссии в 1944–1945 гг.». На Кавказе и в Крыму играли роль и рекрутирование османами, и исламское право. Османские эмиссары ездили по региону, призывая к миграции от «неверного» правления в «Доме войны» (дар аль-харб), отвергая статус России как «Дома ислама» и обещая мусульманам помощь при переселении в «хорошо защищенные владения» султана. Их призывами подкреплялись суждения исламских религиозных авторитетов, которые требовали от единоверцев, мусульман-суннитов, бежать из-под власти христиан и селиться в государстве, управляемом суннитским мусульманским государем. Связь между геополитикой этих пограничных зон и политикой в отношении мусульман отражалась и в структуре обратной миграции мусульман в тот же период. После бегства суннитов с Кавказа шииты стали переходить на российскую территорию из Ирана, где шиизм был доминирующей религией. К 1860‐м гг. демографический баланс сдвинулся от примерного паритета между суннитами и шиитами к преобладанию шиитов в пропорции 2 к 1. В связи с нефтяным бумом в Баку и строительством железной дороги в Центральной Азии иранские мигранты хлынули в Российскую империю. В конце XIX – начале ХХ в. племена из Северного Ирана и Афганистана периодически просили разрешения стать российскими подданными13.
Царская власть хотела безопасных границ и внутреннего порядка, добивалась внутренней стабильности и, по возможности, более сильных политических позиций, чем у слабейших соседей. Элита никогда не санкционировала изгнания мусульманских крестьян, торговцев, ремесленников и солдат, которые играли такую важную роль в функционировании империи во внутренних губерниях. Напротив, империя Романовых продержалась так долго и смогла управлять столь обширным и неоднородным пространством, располагая сравнительно скромными ресурсами, по большей части потому, что ее элита была склонна к осторожности. Силы, скреплявшие империю, – царские генералы и полицейские – обладали чутьем в отношении и возможностей, и границ имперской власти. В XIX в. путь к имперской славе пролегал в Азии, особенно после поражения в Крымской войне, когда позиции России в Европе стали уязвимее. Власти признавали, что дальнейшая экспансия должна опираться на некоторое соглашение с мусульманами.
Мусульмане в своей реакции на русскую угрозу наталкивались на очень сходные ограничения. Перспектива стать подданными Российской империи была привлекательнее, чем подразумевала националистическая или исламистская риторика, а альтернативы обошлись бы гораздо дороже. Историки мусульман империи по большей части описывали их как сообщество, затронутое социальными и экономическими структурами империи, но в основном автономное в своей внутренней политике. На практике этот изоляционистский сценарий был доступен немногим людям того времени. Поучительный пример – опыт мусульман Дагестана и Чечни с конца 1820‐х по 1850‐е гг., хотя из‐за мифов о мусульманском сопротивлении российскому присутствию на Кавказе в это трудно поверить. Перед лицом угрозы российского завоевания местные мусульмане не смогли выработать стратегию объединения против царских войск, хотя историки долгое время трактовали этот период как эпоху «джихада», вдохновленного и организованного мусульманскими суфийскими братствами. Мусульмане сражались на обеих сторонах конфликта, за и против империи. Важнее, как показал Майкл Кемпер, что базовая модель сопротивления основывалась на дороссийских спорах в защиту исламского права против туземных, а не царских властей. С этой точки зрения для имама Шамиля и его предшественников «государство джихада» было не только средством «защиты» мусульман от «неверных»; их стремление насадить исламское право служило основой стратегии, направленной против других туземных правителей, и было важным компонентом государственного строительства за счет локальных элит, часть которых встала на сторону России14.
Для мусульман и христиан принять предложение царского режима о патронате над исламом означало забыть предшествовавшие насильственные завоевания. Они строили социальный мир и имперский порядок, опираясь на традицию поисков общего языка, не игнорируя религию, а используя ее. Со Средних веков мусульмане давали присягу на Коране, который для этой цели хранился в Кремле. Позже мусульмане в каждом завоеванном регионе приносили на этой священной книге клятву верности, за которой режим признавал связывающий авторитет. Для христиан и мусульман религиозные различия оставались важными, однако имея дело друг с другом, они учились ссылаться на то, что казалось их общей чертой, – повиновение единому Богу. Монотеизм, связывавший правителей и подданных, устанавливал рамки переговоров. Но это обстоятельство не было лишь отправной точкой. В бесчисленных актах взаимодействия между мусульманами и российскими властями с конца XVIII по начало ХХ в. предстояло выработать импликации подобных утверждений, причем каждая сторона пыталась управлять реакциями другой. Этот общий ориентир не стирал границ между исламом и царской религией. Он также не маскировал подчинения мусульманских подданных инструментам принуждения государства царей. Но он устанавливал рамки для поиска точек соприкосновения, которые помогли бы укрепить имперское правление по возможности без употребления силы. Как и в сценариях сношений между индейцами и белыми в Северной Америке, проанализированных Ричардом Уайтом, каждая сторона преследовала свои собственные цели, но оправдывала «свои действия в терминах, которые, с ее точки зрения, лежали в основе культуры другой стороны»15.
Не только русские придерживались такого подхода. Наполеон во время египетской кампании клялся в приверженности тому же Богу, которому поклоняются мусульмане. Подобные заявления, включая проведение параллелей между Иисусом и Мухаммедом, в качестве стратегического моста между христианами и мусульманами влияли на язык европейской дипломатии в сношениях с османами. Позже британские и французские администраторы искали исламской легитимации своей власти над африканскими и азиатскими колониями. Габсбурги создали в Боснии и Герцеговине исламскую иерархию для управления делами мусульман – и разорвали мусульманские связи со Стамбулом. В ХХ в. японцы объявили о своей особой связи с исламом в рамках более общей кампании подрыва влияния европейских империй в Азии и утверждения на их месте японской державы. Даже германский кайзер использовал эту стратегию. В 1898 г. Вильгельм II поклялся защищать триста миллионов мусульман, включая подданных британской, французской и российской держав. Во время Первой мировой войны он мечтал поднять «весь мусульманский мир на яростное восстание», джихад против врагов Германии16.
Но царский режим, выковывая свою империю, стремился к альянсу с мусульманами на более прочной основе, на более долгий срок и преуспел больше своих имперских соперников. И представление о том, что ислам особенно полезен для государства, даже если он не очень хорошо сочетается с официальной идеологией, пережило царей. Оно возрождалось эпизодически, но играло важную роль в совершенно иных условиях советского режима; оно пережило даже распад СССР и вновь возникло в проектах молодых постсоветских республик по приручению ислама ради укрепления претензий на политическую легитимность.
Многоконфессиональные царские элиты, подобно своим османским соперникам, находили ценных союзников в своем желании основать имперское правление на религиозном авторитете. Строительство подобного конфессионального государства требовало не только наличия религиозных элит, но также, в контексте царского режима, и мобилизации мирян17. Чтобы провозглашать полезность соединения светской власти с духовной для дела управления империей, режиму пришлось укрепить отдельные религиозные институты – мусульманские, католические и еврейские. Но в такой огромной многоязычной империи, простиравшейся от Балтики до Кавказа и Тихого океана, царские чиновники боролись за доступ к информации о внутренних механизмах религий, из которых они хотели извлечь пользу. Они прежде всего смотрели на «духовенство» каждой общины, даже в таких традициях, как ислам, исторически не признававших подобных социальных групп. Но в России XIX в., как и в Европе, препятствием для веротерпимости служил и антиклерикальный дух.
Царская бюрократия, ценя предполагаемое влияние религии на мораль и порядок, но не доверяя клирикам, создавала пространство для мирских инициатив, приветствуя вызовы клерикальному авторитету снизу. Как и в колониальной Индии, подозрительность в отношении туземных религиозных элит стимулировала официальный интерес к изучению текстов, которые позволили бы администраторам преодолеть зависимость от их посредничества. Российские власти во всех регионах империи привлекали на службу мусульманских переговорщиков, но бюрократия использовала разных информантов и тексты, и это означало, что официальные концепции ислама менялись со временем и различались в разных местах. Внутри царской элиты зачастую не было согласия в вопросе об оценке ислама. Когда казалось, что существует риск для православной церкви и ее неофитов, высказывались самые противоположные точки зрения. Несмотря на разнообразие официальных мнений и неоднородность самих мусульманских общин, обычно побеждали точки зрения той части элиты, которая отстаивала принципиальное положительное влияние ислама на стабильность империи, будь то в Санкт-Петербурге или на кавказских или центральноазиатских границах. Когда брали верх критики ислама – например, в Казахстане середины XIX в., – их победы бывали пирровыми. Государство оказывалось слабее всего, когда оно меньше всего связывалось с исламскими делами и когда мусульмане не могли использовать его мощь на благо религии.
Эта точка зрения, основанная на документах из центральных и местных государственных архивов, как и на различных мусульманских источниках, позволяет увидеть Российскую империю в новом свете. Долгое время ее описывали как «недоуправляемую» политию со слабыми связями между столицей и отдаленной периферией. Но в действительности империя занимала много места в умах мусульман и мусульманок – тех подданных царя, которых, как и евреев, обычно изображают наименее способными интегрироваться в имперскую среду18. Прошения, доносы, судебные протоколы, полицейские рапорты и многочисленные мусульманские источники показывают, каким образом мусульмане и мусульманки внутри более обширной структуры царской веротерпимости пришли к представлению об имперском государственном аппарате как об инструменте Божией воли. Подобно историкам судов и институтов управления в других обществах, я читал судебные протоколы, полицейские рапорты и другие источники, пытаясь извлечь из их языка информацию об идентичностях этих деятелей, о том, как они пытались адаптировать право для конкретных целей и, в данном контексте, формировали и исламскую традицию, и механизмы работы империи. Не всякая тема, связанная с исламом, проникала в имперские архивы. Но, как я стараюсь показать, государство царей стало важнейшим форумом для разрешения конфликтов между мусульманами. Некоторые мусульманские подданные царя, возможно, предпочитали избегать государства, но они не могли гарантировать, что другие мусульмане, в том числе их соседи и супруги, не привлекут их к суду или не обратятся в полицию. Это была империя, в которой управление, правосудие и благочестие были одновременно и семейным делом, и делом мусульманской общины и имперских институтов.
Задолго до того как современные мусульманские мыслители вообразили «исламское государство» как бюрократический инструмент по насаждению божественного права, мусульманские подданные династии Романовых стремились использовать институты империи для реализации религиозных обязанностей и прав. Читатель по опыту знакомства с другими колониальными системами мог бы ожидать историю мусульманского сопротивления давлению царской власти, особенно в таких областях, как семейная сфера. Мусульмане по-разному реагировали на Российскую империю. Но даже источники, созданные самими мусульманами за пределами государственных институтов, документируют разнообразные способы участия в работе институтов режима; мусульманские ученые, собиравшие биографии других видных религиозных деятелей, ссылались на судебные дела и прочие акты взаимодействия, даже если принижали роль подобных контактов, чтобы ни у кого не возникало мыслей о коррупции19.
Там, где царский режим учреждал администрацию, мусульмане прибегали к нему не только как к репрессивному инструменту, но как к средству поддержки истинной религии – способу направлять супругов, детей, родственников и других людей на верный путь к Богу, путь шариата. Мусульмане не изолировали женщин и семью от полицейских органов, а учились связывать государство с урегулированием семейных конфликтов и защитой прав, основанных на шариате. Таким образом государство глубоко проникало в общины мечетей империи. Прежде историки видели «недоуправление» там, куда не имела доступа конвенциональная, секулярная ветвь власти, но это неверное понимание связей между правителем и управляемым. И тот и другой разделяли мнение, сложившееся в XVIII в., о том, что имперский порядок опирается на религиозный авторитет и что агенты царя, наряду с каждым подданным, участвуют в строительстве мира, угодного Богу. Русскими владел страх перед народным возмущением, инспирированным религиозной рознью, как в их собственной церкви в XVII в., и здесь их интересы смыкались с интересами мусульманских ученых, защищавших традицию от «незаконных нововведений» (бид'а) в интерпретации религии. То, что задним числом может показаться «традиционными» религиозными практиками, в действительности было создано государством и его мусульманскими посредниками.
Эти убеждения, конечно, не означали, что каждая сторона всегда действовала так, как хотелось другой. Они давали широкий простор для непонимания, неверных расчетов и конфликтов. Екатерина Великая первой сформулировала модель веротерпимости, но многие из ее преемников относились к этой модели прохладно. Православная церковь оставалась ее непоколебимым противником и требовала эксклюзивной государственной поддержки. Она боролась не только против мусульман, которых подозревала в миссионерской деятельности среди христиан, но и против тех православных, которые восхваляли «нравственное учение Корана и находят, „что оно даже не уступает Евангельскому“» или исповедовали тот взгляд, что «будто бы все равно – быть христианином или магометанином, лишь бы только быть честным человеком». Кроме того, постоянные войны с османами воскрешали и поддерживали недоверие к мусульманам как в правительственных кругах, так и за их пределами. Ф. М. Достоевский испытывал отвращение к политике аккомодации. В 1877 г. в разгар очередной русско-турецкой войны он агитировал русскую публику против «превознесения мусульман за монотеизм», называя это «коньком очень многих любителей турок» в обществе, которое ошибочно считало ислам более просвещенным, нежели язычество поклоняющегося иконам русского крестьянина. С точки зрения Достоевского и других деятелей русской литературы и особенно оперы, русские, проникнутые национальным духом, должны были приветствовать владычество России на Востоке20. По мнению критиков, конфессиональная политика империи была слишком партикуляристской. Либералы ненавидели ее как помеху универсальному праву, а консервативные националисты видели в ней препятствие для однородности империи, где доминировала бы русская культура и этничность. Оба лагеря были не в состоянии понять, что систематически партикуляристская политика империи содействовала аккомодации разнообразия и в то же время укрепляла власть режима над этими народами. Сторонники более решительного подхода к исламу влияли на дух локальной политики на региональном уровне, но так и не смогли полностью переориентировать политику царского режима. С исключительной последовательностью императив управления империей торжествовал над националистическими (и либеральными) призывами к конфликту.
Интересы институтов тоже стояли на кону. Определив задачу «полиции предохранительной» в «благоустроенных государствах» как «охранение обрядов религии и обуздание расколов», царские власти последовали модели наполеоновского государства и учредили централизованный бюрократический орган для администрирования терпимых конфессий21. Он был создан в 1810 г. как Главное управление духовных дел иностранных исповеданий, в 1817 г. преобразован в Министерство духовных дел и просвещения, а в 1832 г. стал подразделением главной организации, назначенной поддерживать внутренний порядок в империи, – Министерства внутренних дел. Это министерство надзирало над официально признанными церковными структурами неправославных исповеданий, включая официальную исламскую иерархию, основанную Екатериной Великой на восточном степном фронтире в 1788 г., хотя ему приходилось конкурировать с другими учреждениями – в том числе с православной церковью – за влияние на царскую политику. Военное министерство управляло мусульманами на кавказском и степном пограничьях. Когда царская армия взяла на себя ответственность за управление мусульманами на территориях прикаспийских степей и Трансоксианы, аннексированных между 1860‐ми и 1880‐ми годами, ей удалось отобрать контроль над религиозными делами у МВД. Но в 1872 г. МВД вернуло себе часть полномочий, учредив исламскую иерархию для управления делами суннитов в Закавказье, и другую – для шиитских общин. При этом еще одно учреждение – Министерство иностранных дел – тоже участвовало в дебатах о политике. Его сотрудники, внимательные к мнениям мусульман, проживавших вблизи границ России, зачастую отстаивали широкую терпимость к исламу как средство подготовить путь для экспансии на территориях Османской империи, Персии, Трансоксианы, Афганистана, Индии и Китая. Но, в отличие от других министерств, оно было готово признать полезность тех эмигрантских групп, которые другие мусульмане считали «неортодоксальными», в частности исмаилитов и бахаи, воспринимая их как орудие против Персии и Британской империи22. Таким образом, царская политика творилась множеством институтов в условиях конкуренции между министерствами в столице и губернских городах, а также между разными официально поддерживаемыми мусульманскими авторитетами в Крыму, в городе Уфе на восточном степном фронтире, на Северном Кавказе и в Закавказье. Еще одной силой были миряне. Обращаясь к царскому правосудию и призывая к официальному вмешательству в конфликты с другими мусульманами, они зачастую направляли курс имперского государственного строительства на местах такими путями, которые Санкт-Петербург не мог ни предвидеть, ни контролировать.
Подобный мирской активизм проливает свет еще на одну малоизученную черту империи. Ученые долгое время следовали за русскими интеллектуалами, выделяя Европу как естественный образец для сравнения с Россией. Когда они сопоставляли Россию с империями Османов или Сефевидов, то лишь для того, чтобы подчеркнуть различия. Но в этой книге я указываю и на сходства между царским и османским режимами. Оба государства в XIX в. внесли решительные перемены в жизнь своих подданных, в то же время представляя свои расширяющиеся государственные аппараты консервативными стражами исламского благочестия. Симметрия между государственными указами об обязательном посещении мечетей – лишь один из примеров этой общности подходов23.
Альянсы между мусульманскими активистами и царскими чиновниками во имя «ортодоксального» ислама не укрепляли «неизменный» ислам, как предположили некоторые историки. Напротив, в этих взаимодействиях рождались новые способы понимания священного права. Российские мусульмане, как и их современники в Османской империи и Египте, воспринимали быструю экспансию государственных институтов и законодательства не как вытеснение шариата, а как дополнение к нему24. Мусульмане сопротивлялись некоторым нормам имперского права, которые воспринимали как нарушение законов Бога, но отвечали на экспансию царских законов и бюрократической практики тем, что адаптировали эти новые ресурсы к местным дискуссиям о шариате. В то же время перспектива государственной поддержки правовых норм, которые могли бы упрочить моральный фундамент империи, заставляла чиновников и мусульман предпринимать попытки упорядочения этого процесса. Как и в Британской Индии и Османской империи, на смену разнообразным локальным представлениям о шариате как некоем свыше предписанном пути стали приходить во многих кругах концепции шариата как однородного и статичного «закона», чей смысл был зафиксирован в текстах и кодексах25. Забота властей о согласованности и однородности пошла на пользу отдельным мусульманским деятелям, которые отстаивали определенный взгляд на ортодоксию, основанный на небольшой выборке ханафитских правовых текстов. Но государственная поддержка «буквы закона» могла работать и против мусульман, например когда государство присваивало себе землю, которой владели якобы в нарушение шариата. Эти взаимодействия придавали текучесть религиозному авторитету и связанному с ним процессу государственного строительства.