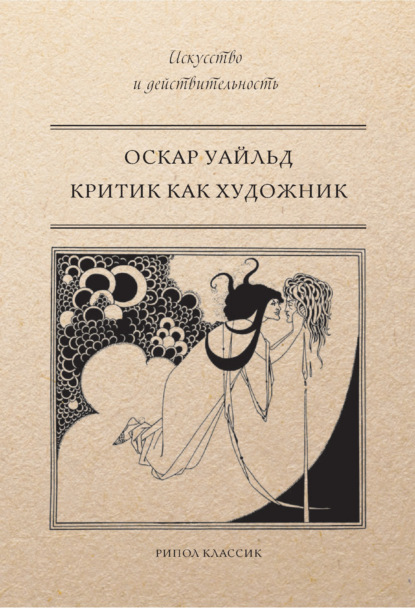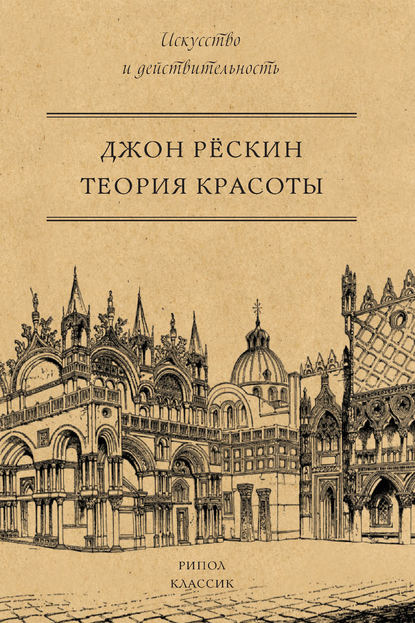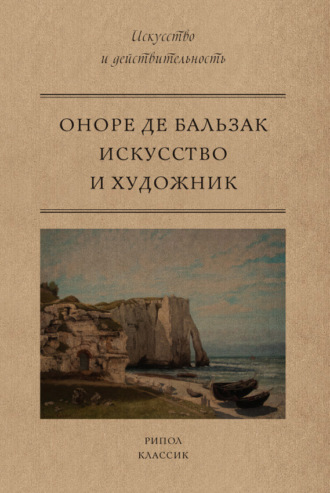
Полная версия
Искусство и художник
Творчество и специализация человеческих способностей
Талант и специальные качества ума. – Односторонний душевный склад гениальных натур.…С дарованиями нашего ума дело обстоит так же, как и со способностями тела. У танцора сила в ногах, у кузнеца – в руках, рыночный носильщик упражняется в ношении тяжестей, певец обрабатывает свою гортань, а пианист укрепляет кисть руки. Банкир привыкает комбинировать дела, разбираться в них, двигать прибыли, как водевилист выучивается комбинировать положения, разбираться в сюжетах, заставлять двигаться действующих лиц. Не надо требовать от барона де Нюсингена остроумного разговора, как и образов поэта от разумения математика. Много ли встречается в каждую эпоху поэтов, которые были бы одновременно прозаиками или остроумны в быту, наподобие г-жи Корнюэль? Бюффон был тяжелодум. Ньютон никогда не любил, лорд Байрон никого не любил, кроме себя. Руссо был мрачен и почти безумен, Лафонтен рассеян. Равномерно распределенная человеческая сила производит глупцов или сплошь посредственность; неравная, она рождает несоответствия, именуемые гениями, которые, если бы они были видимы, казались бы уродствами. Тот же закон управляет телом: совершенная красота почти всегда сопровождается холодностью или глупостью. Пускай Паскаль – великий геометр и одновременно великий писатель, Бомарше – крупный делец, Заме – тонкий царедворец; эти редкие исключения подтверждают правило о специальных качествах ума.
«Блеск и нищета куртизанок». Соч., X, 162–163.Талант и гений
Виды литературного таланта. – «Наблюдатель» и «поэт». – Отличие гения от таланта. – «Второе зрение». – Гений и дар духовного перевоплощения. – Материалистическое и спиритуалистическое объяснение гениальности.Однако, не входя в мелочное аристотельство, выдуманное каждым автором для своего творчества, каждым педантом в своей теории, автор надеется, что будет в согласии с любым умом, и высоким и низким, если составит литературное искусство из двух, совершенно отличных частей: наблюдение – выражение.
Многие выдающиеся люди одарены талантом наблюдать, не обладая даром придавать живую форму своим мыслям; другие же писатели одарены чудесным стилем, но лишены того проницательного и любознательного духа, что видит и отмечает все.
Оба эти умственных склада определяют, в известной мере, литературное зрение и осязание. Одному человеку – действие, другому – мысль; последний играет на лире, не рождая ни одной из тех возвышенных гармоний, что вызывают слезы или раздумье; первый, за неимением инструмента, сочиняет поэмы только для себя.
Единение обеих сил образует совершенного человека, но это редкое и счастливое сочетание не есть еще гений или, проще, не образует волю, порождающую произведение искусства.
Кроме этих двух необходимых для таланта условий, встречается среди подлинно философских поэтов или писателей необъяснимое, неслыханное нравственное явление, в котором наука с трудом может дать отчет. Это своего рода второе зрение, позволяющее им угадывать истину в любых возможных положениях; или, вернее, какая-то сила, переносящая их туда, где они должны или хотят быть. Они вымышляют правду по аналогии или видят описываемый предмет независимо от того, приходит ли предмет к ним, или сами они идут к предмету.
Автор довольствуется расстановкой членов уравнения, не стараясь решить его, ибо ему важно объяснение, а не выведение философской теории.
Итак, прежде чем писать книгу, писатель должен проанализировать все характеры, проникнуться всеми нравами, обежать весь земной шар, прочувствовать все страсти; или же страсти, страны, нравы, характеры, явления природы, явления морали – все должно пройти через его мысль. Он скуп или мгновенно постигает скупость, набрасывая портрет лорда Думбидикса. Он преступник, постигает преступление, или призывает и созерцает его, когда пишет Лару.
Мы не находим посредствующего члена этой физиолитературной задачи.
Но для тех, кто изучает человеческую природу, ясно, что гениальный человек владеет обеими силами.
Он мысленно шагает через пространства с такой легкостью, что все подмеченное им раньше с точностью в нем возрождается, прекрасное той прелестью или страшное тем ужасом, что поразили его при первом знакомстве. Он действительно видел мир, или душа интуитивно открыла его. Так, самый пылкий и точный поэт Флоренции никогда не был во Флоренции; так, некий писатель смог великолепно описать пустыню, ее пески, миражи и пальмы, не отправляясь из Дана в Сахару.
Обладают ли люди властью призывать мир в свой мозг или же их мозг это талисман, помогающий преступать законы времени и пространства?.. Наука долго будет колебаться в выборе между этими двумя тайнами, равно необъяснимыми. Воображение постоянно разворачивает перед поэтом бесчисленные преображения, подобные волшебным фантасмагориям наших снов. Сон, может быть, естественная игра этой странной силы в часы бездействия!..
Эти восхитительные способности, которыми люди справедливо восхищаются, бывают у автора более или менее обширны, в зависимости, может быть, от большей или меньшей степени совершенства или несовершенства его органов. Быть может также, творческий дар – это слабая искра, упавшая на человека с неба, а преклонение перед великими гениями – благородная и возвышенная молитва! Если бы это было не так, то почему бы наше уважение измерялось силой и напряжением сверкающего в них небесного луча? Или же восторг, охватывающий нас перед великими людьми, нужно измерять степенью доставленного нам удовольствия, большей или меньшей полезностью их произведений?.. Пусть каждый выбирает между материализмом и спиритуализмом!..
Предисловие к «Шагреневой коже».Oeuvres, XXII, 400–402.Талант и труд
Постоянный труд – закон искусства. – Поэзия и проза художественного творчества. – Пропасть между замыслом и произведением. – Тяжесть писательского труда. – Гибель таланта от праздности. – Случайности в творчестве. – «Брио».…Постоянный труд столь же является законом искусства, сколь и законом жизни, ибо искусство – идеализированное творчество. Поэтому великие художники, совершенные поэты не ожидают ни заказов, ни покупателей, они творят сегодня, завтра, всегда. Отсюда происходит эта привычка к труду, это вечное знакомство с трудностями, что и поддерживает их сожительство с Музой, со своими творческими силами. Канова проводил жизнь в своей мастерской, как Вольтер – в своем кабинете. Гомер и Фидий, должно быть, жили так же.
«Кузина Бетта». Соч., XI, 183.* * *Внутренняя работа, искания в высших умственных сферах являются одним из величайших стремлений человека. В Искусстве, понимая под этим словом все создания Мысли, особенно заслуживает славы выдержка – выдержка, о которой чернь не подозревает и которая, быть может, впервые разъясняется здесь. Под страшным гнетом нищеты, удерживаемой Беттой в положении лошади, которой надели шоры, препятствующие ей смотреть по сторонам, подстегиваемый старой девой, олицетворением Необходимости, этого низшего вида Судьбы, Венцеслав, рожденный поэтом и мечтателем, перешел от Замысла к Выполнению, преодолев неизмеримые бездны, разделяющие эти два полушария Искусства. Думать, мечтать, замышлять прекрасные произведения – пленительное занятие. Это все равно, что курить чарующие сигары, что вести жизнь куртизанки, занятой своими фантазиями. Творение является тогда во всей прелести детства, во всей безумной радости рождения, с благоухающими красками цветка и с живыми соками плода, испробованного заранее. Таков творческий Замысел и его удовольствия. Тот, кто может словом обрисовать свой план, считается уже человеком незаурядным. Этой способностью обладают все художники и писатели. Но создать, но родить на свет, но старательно выходить ребенка, всякий вечер укладывать его, напоив молоком, всякое утро обнимать его с неистощимой материнской любовью, обмывать его, грязненького, по сто раз переодевать его в самые красивые платьица, которые он непрестанно рвет, но не отвращаться от судорог этой шальной жизни, а уметь претворить ее в живой шедевр, который говорит всем взорам – в скульптуре, всем умам – в литературе, всем воспоминаниям – в живописи, всем сердцам – в музыке, – вот в чем заключается Выполнение и Труд, связанный с ним. Рука должна быть всегда в движении, готовая всегда повиноваться голове. И голова располагает творческими способностями лишь в той же мере, как любовь хранит свое постоянство.
Эта привычка к творчеству, эта неутомимая любовь Материнства, создающая мать (шедевр природы, столь хорошо понятый Рафаэлем!), – словом, это мозговое материнство, с таким трудом достигаемое, утрачивается с невероятной легкостью. Вдохновение – счастливая Случайность для Гения. Его не поймать голыми руками, оно – в воздухе и улетает с недоверчивостью воронов, у него нет повязки, за которую поэт мог бы его схватить, его волосы; огонь, оно ускользает от преследования, как эти красивые бело-розовые фламинго, отчаяние охотников. Поэтому творческая работа – утомительная, борьба, которой боятся и которую нежно любят прекрасные и могучие натуры, часто надламывающие в ней свои силы; Великий поэт нашего времени говорил об этом ужасающем труде: «Я принимаюсь за него с отчаянием и покидаю его с сожалением». Пусть знают это неведающие! Если художник не бросается в свое творчество, как Курций – в пропасть, как солдат – на редут, не рассуждая, и если в этом кратере он не работает, как рудокоп, засыпанный обвалом, если, наконец, он глазеет на трудности, вместо того чтобы их побеждать одну за другой, по примеру тех сказочных любовников, которые, чтобы завоевать свою принцессу, преодолевали чары, возникающие вновь и вновь, произведение остается недоделанным, оно гибнет в недрах мастерской, где творчество становится невозможным и художник присутствует при самоубийстве своего таланта. Россини, этот брат Рафаэля по гению, являет тому разительный пример, если сопоставить его нищую молодость с богатством его зрелого возраста. Вот причина такого воздаяния, такого триумфа, тех лавров, коими венчают и великих поэтов и великих полководцев.
«Кузина Бетта». Соч., XI, 178–180.* * *…Проскользнув в лавку, Гортензия сразу же отыскала глазами знаменитую группу, выставленную напоказ на столе прямо против двери. И без тех обстоятельств, которые заинтересовали ее в ней, этот шедевр, вероятно, поразил бы молодую девушку тем, что можно назвать брио[4] великих произведений, – ее, которая, конечно, сама могла бы позировать в Италии для статуи Брио.
Гениальные произведения не все в равной степени обладают этим блеском, этим великолепием, очевидным для всякого зрителя, даже для невежды. Так, некоторые картины Рафаэля, например знаменитое «Преображение», «Мадонна Фолиньо», фрески «Станц» в Ватикане не вызовут того внезапного восхищения, как «Юноша, играющий на скрипке» галереи Шьярра, портреты Донн и «Видение Иезекииля» галереи Питти, «Несение креста» галереи Боргезе, «Обручение Богоматери» музея Брера в Милане, «Иоанн Креститель» Трибуны, «Евангелист Лука, пишущий Богоматерь» из Римской академии не обладают очарованием портрета Льва X и дрезденской Богоматери. И вместе с тем все это равноценно. Более того! «Станцы, Преображение», «Камайе» и три станковые картины Ватикана – предел высоты и совершенства. Но эти шедевры требуют даже от самого образованного созерцателя известного рода напряжения, изучения, чтобы быть воспринятыми во всех своих деталях; тогда как «Скрипач», «Обручение Богоматери», «Видение Иезекииля» сами собой проникают вам в сердце через двойные двери очей и занимают в нем свое место; вам радостно их воспринимать без всякого напряжения, тут не вершина искусства, тут особая удача искусства. Эго доказывает, что художественные произведения подвержены таким же случайностям рождения, какие наблюдаются в семьях, где бывают счастливо одаренные дети, которые рождаются красивыми и не причиняя мук матери, которым все улыбается, все удается, – словом, бывают цветы гения, как и цветы любви.
Это брио – непереводимое итальянское слово, которое начинает входить у нас в употребление, – характерно для ранних про изведений. Оно – плод живости и дерзновенного порыва молодого таланта, живости, которая позднее возвращается в иные счастливые часы; но это брио тогда уже не исходит из сердца художника, и, вместо того чтобы самопроизвольно воспламенять им свои творения, как вулкан мечет огни, художник подчиняется ему, он обязан им привходящим обстоятельствам – любви, соперничеству, часто ненависти, а еще более – стремлению поддержать свою славу.
Группа Венцеслава для его будущих произведений была тем же, что «Обручение Богоматери» для всего Рафаэлева творения, первым шагом таланта, сделанным с неподражаемой грацией, с увлечением детства и милой его переполненностью, с силой ребенка, таящейся под розово-белым тельцем, с ямочками на щеках, как бы откликающимися на смех матери. Принц Евгений заплатил, говорят, четыреста тысяч франков за эту картину, которую не дорого было бы купить и за миллион стране, лишенной картин Рафаэля, а никто бы и не подумал дать такую сумму за прекраснейшую из его фресок, художественная ценность которых, однако, гораздо выше.
«Кузина Бетта». Соч., XI, 74–75.Оригинальность художника
Относительность художественной оригинальности. – Преемственность тел и ситуаций в мировой литературе. – Что такое истинно новое в искусстве – Жанры – общее достояние. – Сходство жанров и подражательность.Рискуя быть похожим, по остроумному сравнению одного автора, на людей, которые, распрощавшись с обществом, возвращаются в салон, чтобы найти забытую трость, автор осмелится снова заговорить о себе так, словно и не помещал четырех страниц в начале книги.
Во время чтения «Анатоля», одного из очаровательнейших произведений, созданных женщиной, которую, несомненно, вдохновила муза мисс Инчбальд, автору показалось, что в трех строчках он нашел сюжет «Бала в Со».
Он заявляет, что ему ничуть не неприятно быть обязанным идеей этой сцены чтению прелестного романа г-жи Софии Гэ, но он добавит, что, к несчастью для себя, прочел «Анатоля» лишь недавно, когда его сцена была уже написана.
Не нужно обвинять автора в излишней щепетильности и предосторожностях, принятых против критики.
Некоторые умы, ополчившиеся против собственных удовольствий и постоянными требованиями новизны побудившие нашу литературу прибегать к невероятному и выходить из границ, поставленных ей дидактической ясностью нашего языка и естественностью, упрекали автора в том, что в первой из своих книг («Последний Шуан, или Бретань» в 1800 году) он воспроизвел уже использованную фабулу.
Не отвечая на столь необоснованную критику, автор полагает для себя небесполезным засвидетельствовать здесь крайне презрительное мнение, сложившееся у него о сходстве новых и старых произведений, которое так мучительно разыскивают бездельники литературы.
Отличительный признак таланта, разумеется, творческая способность. Но теперь, когда все возможные комбинации как будто исчерпаны, все ситуации обработаны, все невозможное испытано, автор твердо уверен, что отныне только детали будут составлять достоинство произведений, незаслуженно называемых романами.
Если бы у автора было время следовать по пути доктора Матаназиуса, ему нетрудно было бы доказать, что лишь в немногих работах лорда Байрона и сэра Вальтера Скотта первоначальный замысел принадлежит им самим и что Буало не был автором стихов своего «Поэтического искусства».
Кроме того, он думает, что предпринимать изображение исторической эпохи и забавляться поисками новых фабул – это значит придавать больше значения раме, чем картине. Он будет преклоняться перед теми, кому удастся совместить оба качества, и желает, чтобы это удавалось им часто.
Если автор имел нескромность присоединить к книге эту заметку, то думает заслужить прощение тем, что отвел ей столь скромное место; впрочем, он уверен, что ее никто не прочтет, даже лица заинтересованные.
1830 г.Послесловие к первому изданию «Сцен из частной жизни».Oeuvres, XXII, 380–381.* * *…Я действую слишком откровенно, чтобы вы не разрешили мне представить вам соображение, весьма меня поразившее. Вы, быть может, легкомысленно обвиняете молодую литературу в том, что она стремится к подражанию иностранным шедеврам. Не думаете ли вы, что фантастика Гофмана присутствует скрыто в «Микромегасе», который в свою очередь существовал уже у Сирано де Бержерака, откуда Вольтер его и взял? Жанры принадлежат всему миру, и немцы имеют не больше преимущественных прав на луну, чем мы на солнце или Шотландия – на оссиановские туманы. Кто может назвать себя изобретателем? Я действительно не был вдохновлен Гофманом, которого узнал уже после того, как обдумал свое произведение, но тут есть нечто более серьезное. У нас нет патриотизма, и, нападая друг на друга, мы подрываем свою национальность и литературное первенство. Разве англичане сказали сами, что «Паризина» – это Расинова «Федра», разве швыряли они друг в друга иностранными литературами, чтобы задушить свою собственную? Нет, последуем их примеру.
25 августа 1831 г.Из письма Шарлю де Бернар. Oeuvres, XXIV, 91.Личность писателя и его творчество
Личный характер писателя и характер его творчества. – Поэты субъективные и поэты-«протеи».Существует несомненно много авторов, чей личный характер ярко отражается в природе их сочинений, тут произведение и человек одно и то же, но есть другие писатели, чья душа и нравы резко противоречат форме и содержанию их творчества; таким образом, нет никакого положительного правила для распознавания той или иной степени сродства между излюбленными мыслями художника и фантазиями его сочинений.
Это согласие или эти несоответствия порождены нравственной природой, столь же прихотливой, столь же скрытой в своих играх, как природа фантастична в капризах деторождения. Производство организованных существ и идей – две непонятные тайны, а сходство или полное различие, существующее между этими двумя видами творений и их авторами, мало что говорят за или против отцовских прав.
Петрарка, лорд Байрон, Гофман и Вольтер были людьми своего гения, тогда как Раблэ – человек умеренный – опровергал излишества своего стиля и образы своей книги… Он пил воду, восхваляя молодое вино, как Брийа-Саварен, ел очень немного, прославляя обильное угощение.
Так было и с самым оригинальным из современных авторов, которым может гордиться Великобритания: Матюрен, священник, подаривший нам Еву, Мельмота, Бертрама, был кокетлив, любезен, чтил женщин, и по вечерам человек, творящий ужасы, превращался в дамского угодника, в денди. То же с Буало, чьи мягкие, изысканные беседы ничуть не соответствовали сатирическому духу его дерзкого стиха. Большинство грациозных поэтов весьма беззаботно относились к собственной грации, подобно скульпторам, которые неустанно стремятся идеализировать прекраснейшие человеческие формы, выразить сладострастие линий, сочетать отдельные черты красоты, а сами почти все довольно плохо одеваются, презирают украшения и хранят образ прекрасного в своей душе, не обнаруживая ничего вовне.
Нетрудно умножить примеры характерных разладов и связей между человеком и его мыслью, но это двойное явление так бесспорно, что было бы ребячеством настаивать на нем.
Разве была бы возможна литература, если бы благородное сердце Шиллера имело что-либо общее с Францом Моором, ужаснейшим созданием, злодеем, самым закоснелым из всех, когда-либо выведенных драматургом на сцену?.. Разве самые мрачные из трагических авторов не были обычно людьми кроткими и патриархальных нравов? Свидетель – достойный Дюси. Даже теперь, взглянув на того из наших Фаваров, кто с наибольшей тонкостью, изяществом и умом передает неуловимые оттенки наших ничтожных буржуазных нравов, вы приняли бы его за славного крестьянина из области Бос, разбогатевшего на торговле быками…
1831 г.Из предисловия к первому изданию «Шагреневой кожи».Oeuvres, XXII, 396–397.Художник и общество
Мнимый эгоизм художника. – Аскетический характер его жизни. – Одиночество художника в светском обществе. – Равнодушие буржуа к судьбе художника. – Художник и современная женщина. – Вред буржуазного покровительства талантов. – Система конкурсов. – Упадок истинного соревнования талантов в девятнадцатом веке. – Пагубность уничтожения салонов.Ни лорд Байрон, ни Гёте, ни Вальтер Скотт, ни Кювье, ни изобретатели не принадлежат самим себе, они рабы своей идеи, а эта таинственная сила более ревнива, чем женщина, она их поглощает, она заставляет их жить или умереть ради своей пользы. Только внешнее развитие этой скрытой жизни по своему результату походит на эгоизм; но как осмелишься назвать эгоистом человека, который посвятил свою жизнь наслаждениям, образованию или возвеличению своей эпохи? Разве можно сказать, что мать охвачена самолюбием, когда она жертвует всем для своего ребенка?.. И сами хулители гения не видят его плодоносной, производительной способности – вот и все. Жизнь поэта есть непрестанная жертва, ему нужна организация великана, чтобы он в состоянии был предаваться еще удовольствиям обыденной жизни; каким несчастиям не подвергается он, когда, подобно Мольеру, вздумает жить чувством, изображая это чувство в моменты самых мучительных кризисов, потому что, на мой взгляд, комизм Мольера, если его применить к частной жизни писателя, способен внушить ужас.
«Модеста Миньон». Соч., изд. Пантелеева, IV, 92.* * *Венцеслав Стейнбок стоял на тернистом пути этих великих людей, на пути, ведущем к вершинам славы, когда Лизбета заточила его в мансарде. Счастье в образе Гортензии вернуло поэта к лени, нормальному состоянию всех художников, ибо их лень есть тоже своего рода занятие. Это – наслаждение паши в серале: они лелеют свои идеи, упиваются у истоков мысли. Большие художники, вроде Стейнбока, одержимые мечтой, справедливо именуются мечтателями. Эти курильщики опиума все впадают в нищету, между тем как в суровых жизненных условиях они стали бы великими людьми. Но эти полухудожники очаровательны, все их любят, все их захваливают, они кажутся выше истинных художников, обвиняемых в индивидуализме, в дикости, в бунте против законов общества. И вот почему. Великие люди принадлежат своим творениям; их отрешенность от всего, их преданность труду делают их эгоистами в глазах невежд, ибо люди хотят их видеть в облике денди, выполняющих социальные эволюции, именуемые светскими обязанностями. Они хотели бы, чтобы африканские львы были причесаны и надушены, как болонки маркизы. Эти люди, которые насчитывают мало себе подобных и редко встречают таких, как они, обречены на полное одиночество; они становятся непонятны для большинства, состоящего, как известно, из дураков, завистников, невежд и поверхностных людей.
«Кузина Бетта». Соч., XI, 183–184.* * *Нельзя отрицать при виде той страстности, с какой люди читают автографы, чтобы знаменитость не возбуждала живого общественного любопытства. Большая часть людей, живущих в провинции, очевидно, не дает себе ясного отчета в том, какие способы употребляют знаменитые люди, чтобы завязать себе галстук на шее, пройтись по бульвару, поротозейничать или съесть котлету, потому что, когда они видят человека, осененного лучами моды или же сияющего славою, которая более или менее скоропроходяща, но все-таки возбуждает зависть, одни из них говорят: «О! вот это так!» или же «Это смешно!» и тому подобные странные замечания. Одним словом, того особого очарования, которое порождает всякая слава, даже справедливо заслуженная, не существует на свете. Для людей поверхностных, зубоскалов или завистников впечатление, производимое ею, исчезает, как молния, и не повторяется больше. И кажется, что слава, подобно солнцу, светла и тепла на расстоянии, а если подойти к ней поближе, то она оказывается холодна, как вершины Альп. Может быть, человек представляется действительно великим только в глазах людей, равных ему; может быть, недостатки, присущие человеческой доле, скорее исчезают в глазах этих людей, чем в глазах вульгарных поклонников. Чтобы постоянно нравиться, поэт принужден прибегать к фальшивым любезностям обыкновенных людей, которые делают так, что все готовы простить им их неизвестность благодаря любезному обращению и угодливым речам, ведь каждый помимо таланта требует от поэта и низменных качеств, нужных для гостиной и для семьи.
«Модеста Миньон». Соч., изд. Пантелеева, IV, 196.* * *…Взгляните, как все общество объединяется, чтоб изолировать высшие натуры, как оно гонит их к высотам! Наши подруги, которые должны быть с нами исключительно добры и нежны, не должны никогда осуждать нас, делать из мухи слона и из слона муху, – они же терзают нас фантастическими требованиями, осыпают нас булавочными уколами по пустякам, требуют доверия к себе и не чувствуют его к нам; они не хотят внести в свои чувства то величие, что сразу выделяет их. Оно не отвлекает их, как нас, от всей земной грязи. Поддержка, которую мы оказываем слабым, точно отдохнувшая лошадь, еще стремительнее мчит нас к безвыходным материальным затруднениям. Равнодушные верят клевете, которую повторяют завистники, а создают враги. Никто не приходит к нам на помощь. Массы не понимают нас; люди высшие не имеют времени читать и защищать нас. Слава озаряет могилу, потомство не приносит доходов, и мне хочется воскликнуть, как тот country gentelman[5], который, слыша, что в спорах постоянно говорят о потомстве, поднялся на трибуну и сказал: «Я слышу, как постоянно говорят о потомстве; мне хотелось бы знать, что уже сделала эта сила для Англии!»