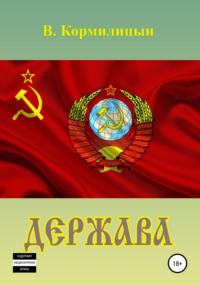Полная версия
Разомкнутый круг
Даже одна тонкая свеча, почти не дающая света, невыносимо резала глаза, когда он глядел на нее, затем начинала двоиться, троиться, и вот уже вокруг бушевало злобное пламя, обжигающее душу и грозящее спалить беззащитное тело в этом адовом огне…
Сознание покидало его, принося недолгий покой и безмятежность
И только в мае, похудевший и ослабший, поддерживаемый Агафоном и Данилой, в шинели, застегнутой на все пуговицы, вышел он во двор погреться на ярком весеннем солнышке. Время от времени тяжелый кашель сотрясал его, болезненно отдаваясь в израненной спине и, казалось, выворачивая наизнанку все внутренности, на несколько минут затихая в хрипящих легких, чтобы затем с новой силой наброситься на слабое истерзанное тело.
Старая нянька не отходила от него ни на шаг, но все ее искусство не приносило пользы, так как сам больной не стремился к выздоровлению. Безразлично глотал порошки чернавского лекаря, которого пригласила к мужу, несмотря на сопротивление няньки, Ольга Николаевна. Столь же безразлично пил он настои из трав, приготовляемые самой старой мамкой, но пользы ни те, ни другие снадобья не приносили…
Ничто не радовало его: ни солнечный луч, ласково греющий щеку, ни набухающие почки акации, ни первая зеленая травка, пробивающая дорогу из зимнего подземелья к свету и солнцу, ни даже Максим, рассказывающий выученный урок или упражняющийся с саблей неподалеку от отца. А подходящая к нему что-нибудь поправить или подать лекарство жена вызывала если не ненависть, то глубокое раздражение. Но зато и скрывшийся генерал больше не бередил душевную рану, и стал безразличен Акиму, как что-то давнишнее и не имеющее никакого к нему отношения. Он не жил, а существовал, как существует зеленая трава во дворе, но не имел ее жизненной силы. Даже воспоминания не приходили к нему. Ничто больше не трогало и не волновало его в этой жизни.
Прослышав о том, что его благодетель и бывший командир чувствует себя чуть лучше и желая искупить вину за болтливый язык, на шустром низкорослом коньке в поместье прибыл Изот. Приезжал он и месяц назад, но в тот раз ему не повезло… Во-первых, его рессорная бричка застряла в непролазной грязи как раз неподалеку от имения. Во-вторых, когда выбрался из грязи, барин далеко послал его… Из всего организма язык оказался самой здоровой и активной частью больного тела. Девка Акулина, посланная к нему в тот раз, сообщила, что барин больны и не принимают, а о том, что изругал, сказать постеснялась. Об этом за шкалик пшеничной с удовольствием сообщил Агафон.
Струхнувший лесник на этот раз приехал не с пустыми руками. Привез от чистого сердца целую бадью меда, благосклонно принятую Лукерьей, и был допущен пред светлы хозяйски очи. Стоя на коленях и целуя барскую руку, он вымолил прощение и уговорил Акима Максимовича недельку погостить у него на свежем воздухе.
– Хворь как рукой снимет, – уверенно бил себя в грудь.
Барин изволили улыбнуться и дать согласие, к несказанной радости Михеича.
Максим тоже просился с отцом, на что получил разрешение.
Ольге Николаевне в поездке наотрез отказали.
Эта неделя стала одной из самих счастливых в жизни Максима и необычайно сблизила его с отцом.
Собрались по-солдатски быстро. Несмотря на заверения Изота, что у него всего вдосталь: ясное дело, успел наворовать! – бурчала Лукерья, но все равно распорядилась доверху набить возок припасами.
– Малый да больной! Им хорошо питаться надо, – рассуждала нянька.
Агафон с Данилой сбили ноги, таская короба, корзины и туесочки. Даниле налили подожок на дорожку, хотя он никуда не ехал, Агафону Лукерья категорически отказала: – За дорогой лучше смотри, а то все кочки твои будут…
– Дык!.. Дык… Рази ж я?.. – разводил руками расстроенный кучер. В полуобморочном от тоски состоянии выехал он со двора.
Проезжая Рубановку, Максим здорово повеселился, когда увидел, что по пыльной уже дороге навстречу их возку шел пьяный расхристанный мужичонка в одном драном лапте и не думал уступать дорогу. Трезвый Агафон, трепеща от зависти, беззлобно переругивался с мужиком и норовил огреть его кнутом. Мужик ловко уворачивался, загораживаясь лошадьми, и благим матом орал, что он есть сам генерал-симусь Ляксандра Суворов и турки в Рассею не пройдут!.. Максим упал на дно возка от хохота и взбрыкивал ногами, переворачивая какие-то коробки. Отец сидел ко всему безучастный и терпеливо ждал, чем закончится дело.
– Я – симусь! Вот хто! – орал мужичок.
Однако, увидев разъяренного бывшего вахмистра, подходящего к нему с арапником в руке, четко отдал честь, встав во фрунт, затем повернулся кругом и молча замаршировал в кособокую избу, стоящую край дороги.
Всю дальнейшую поездку Максим, прыская и закрывая рот ладонью, чтоб не сочли за дурачка, раздумывал, за кого же прошел у мужика дедушка Изот?
По приезде он с Кешкой тут же умчался в лес: друг пообещал что-то показать, а Изот со старшим Рубановым степенно сидели в той же, что и в прошлый раз горнице, обедали и вели разговоры. Точнее, говорил один Изот, а барин молчал и иногда безразлично, в такт словам, кивал головой. Старый лесничий чувствовал свою вину, поэтому не пил, впрочем, Акиму было все равно.
Глядя на бледное лицо барина и время от времени слушая, как кашель рвет его грудь, лесник жалостливо отводил глаза. Решившись, наконец, завел своевременный, на его взгляд, разговор.
– Совсем староста обчество разбаловал, – рассуждал лесник, иногда внимательно вглядываясь в блеклые равнодушные глаза и худую фигуру барина. – Народишко работать перестал, а лишь только брагу с водкой глохчет и почета властям не оказывает… Будь я на его месте… – он покосился на Акима, пытаясь понять его реакцию и в случае заинтересованности усилить приятное впечатление, но барин безразлично жевал мясо и глядел в стол, затем поднес руку с платком ко рту и долго и тяжело кашлял, откидываясь спиной к стене.
Изот Михеевич вздрогнул – авось поживет еще! – и продолжил:
– …Я бы дело повернул не так… К тому же вечно у него неурожай, ибо погода у поганца постоянно не та, что требуется… Вечные недоимки у подлеца, тудыт его мать!.. У меня б так не было… Вот ба где всех держал, – сжал он свой маленький кулачок, усыпанный рыжим волосом и веснушками.
Ему показалось, что благодетель благосклонно кивнул. Лицо лесника озарилось улыбкой, но тут, громко распахнув дверь, вошла Пелагея, а следом и другая невестка с подносом в руках. Дед недовольно нахмурился и заерзал на лавке, но невестки не спешили уходить. Они медленно раскладывали на столе принесенные закуски, задевая временами гостя то тяжелой грудью, то мягким бедром, но барин не обращал на них внимания и иногда морщился – то ли от боли, то ли от мешавших ему женщин. Затем его опять забил кашель.
– Тятенька! – обратилась к свекру Пелагея. – Мужики баньку топят, – крутанула задом. – Может барин попариться желают? – чуть покачала головой и томно улыбнулась, глядя на Акима.
Тот ничего не ответил, убирая платок в карман и вытирая тыльной стороной ладони набежавшие слезы.
– А вы чайку с медком! – засуетилась вторая невестка, наваливаясь сзади грудями на плечи Акима и наливая в его чашку чай.
«Ну, молодцы девахи, – воспламенился пониманием свекор, – ай да сношеньки, ай да умницы, тудыт ихнюю маму!»
– Сейчас мы ваше превосходительство попарим и почивать уложим, – обрадовался вовремя поданной разумной мысли Изот. – От хорошей баньки всякая хворь убежит, как турок от Суворова, – вспомнил он давешнего крестьянина-симуся и подхватил барина под мышки, помогая подняться.
Аким безропотно подчинился, как ребенок строгой матери, и, медленно перебирая ногами, пошел к двери.
Ласковое майское солнышко приятно грело больную грудь, и Рубанов, щурясь, присел на лавку рядом с домом. От прогретой за день земли исходил теплый, душистый запах. Лес успокаивающе шумел над головой прорезавшимся из почек свежим молодым зеленым листом. Огромная яркая бабочка, часто затрепетав крылышками перед лицом, села на плечо. Весенний ветерок, балуясь, сдул с плеча бабочку и закрутил у ног Акима какой-то старый, пожелтевший лист, прилепив его к носу дремавшего неподалеку рыжего пса. Тот недовольно чихнул, лапой прижав его к земле, затем встал, громко, с подвывом, зевнул, широко разевая пасть, потянулся, прогибая то передние, то задние лапы, хотел помочиться на листок, но, раздумав, плюхнулся рядом с ним; затем, глядя исподлобья на Акима, вяло постучал по земле хвостом, встал, встряхнулся, начиная от ушей и заканчивая хвостом, и побрел в тень под деревья.
Рубанов с пробудившимся интересом наблюдал за псом.
Впервые за время болезни, приметив в глазах барина хоть какой-то интерес, Изот Михеевич не торопил и не отвлекал его, а с надеждой стоял рядом, нахохлившись и напоминая огромного рыжего шмеля. Его сыны молча таскали в баню березовые веники и какие-то узлы – из одного торчали две свечи, из другого – горлышко бутылки.
Вздохнув, Аким тяжело поднялся и пошел вслед за ними. Интерес к окружающему опять исчез из его глаз.
То ли душу его забрала ледяная река, то ли заела тоска, но он чувствовал себя старше деда… И не только чувствовал, но знал точно, что круг его скоро замкнется… Что отмахался он острой саблей, отскакал на быстром коне и отлюбил прекрасных женщин, что все это там, в прошлом, а что впереди?..
Но что бы там ни было – он не боялся этого!..
Поддерживаемый Михеичем, Рубанов выбрался из темного сруба бани и тут же наткнулся на сына и его друга. Лица мальчишек раскраснелись от бега и радости жизни. Счастье и весна бушевали в глазах и будоражили кровь… Поглядев на взрослых и не увидев их, ребята кинулись в конюшню взнуздать коней и улетели в ночь – к звездам и небу, к жизни и подвигам… Зависть кольнула сердце Акима и тут же растаяла, когда глянул вслед сыну…
Сгорбившись и опираясь на руку деда, он безразлично пошел в дом, в приготовленную для него комнату.
К счастью Максима, отец, как и до болезни, вновь стал уделять ему внимание. Вдосталь набегавшись с Кешкой, он слушал прерываемые кашлем рассказы отца о боях и победах, а однажды у Акима хватило сил взять саблю и показать свой коронный выпад и удар, не раз спасавший ему жизнь. Максим до изнеможения отрабатывал его, рубя в щепки молодые березки, и до седьмого пота вращал саблю, разрабатывая кисть.
– Укрепляй запястье! – хрипло внушал отец. – Пригодится в жизни…
Через неделю вернулись домой, и Аким снова замкнулся и ушел в себя. Дома царили тишина и тоска. Мать ходила в слезах, а нянька возилась со своими снадобьями. Максим старался больше времени проводить на улице – чистил своего любимца, вороного жеребца Гришку, или, взяв ломоть черного хлеба с солью, исчезал на весь день на реке. Там глядел, как крестьяне ловят рыбу, валялся на песке, нежась на горячем уже солнце, и упражнялся с саблей, решив до совершенства отработать отцовский удар.
Молодая кровь бурлила в нем, заставляя неожиданно срываться и лететь на коне, а то вдруг находила непонятная хандра, и он, хмурый и вялый, сидел в своей комнате, разглядывал золотой крестик, дышал на него, оттирая рукавом рубахи, и в памяти возникала хрупкая девочка с прекрасными зелёными глазами.
День проходил за днем в скучной деревенской глуши, где никогда ничего не меняется, и, пролети хоть десяток лет, все останется по-прежнему.
Как-то, пошлявшись по двору, он заглянул в конюшню и переждал там небольшой теплый дождь, расчесывая пальцами жесткую конскую гриву. Выйдя, помыл руки в дождевой воде, налившейся с крыши в рассохшуюся бочку. Пряно пахло жимолостью и цветущей акацией. Беспечно насвистывая, пошел по двору, бесцельно заглянув в сарай, в котором ничего не было, кроме прошлогоднего сена. Хотел уже выйти из душной темноты, как расслышал чье-то посапывание: «Нищие, что ли?» – полюбопытствовал он и полез по лестнице на невысокий чердак. Его привыкшие к темноте глаза различили чьи-то ноги, бесстыже разметавшиеся на сене. Стараясь не шуметь и лишь тихонько шурша сеном, подошел к спящей. Голова ее была повернута вбок, к дощатой стене, рот чуть приоткрылся, показывая белые ровные зубы. Спокойное дыхание чуть волновало грудь, и голубая жилка билась на шее, пульсируя в такт дыханию.
Максим опустился на колени, стараясь не разбудить Акульку.
«Напрасно я боюсь, – подумал он, – намаялась она сегодня – не скоро разбудишь! – Но дыхание, словно нарочно, вырывалось из его горла громко и часто, временами ему даже казалось, что задыхается. Сердце стучало на весь сарай. Он прижал руку к груди, чтобы немного успокоиться. – А вдруг кто зайдет? Может, она тут Данилу ждет? – А рука, пугливо вздрагивая, уже расстегивала синий, в мелкий цветочек ситец, освобождая маленькую грудь.
Он робко потрогал теплую шишечку, венчающую эту сказочную грудь, и неожиданно, словно живой, сосок стал набухать и жестеть под его пальцами. Это было так поразительно, что Максим пугливо отдернул руку: «У тех женщин в бане, – морща лоб, начал вспоминать, – соски так не росли… не то что так, а вообще никак не росли». – Опять несильно сжал сосок, а затем с любопытством потрогал окружающий его темный кружок, различив вздрагивающими пальцами, ставшими неожиданно очень чувствительными, маленькие пупырышки.
Пальцы его двинулись дальше, тихонько поглаживая грудь. Здесь кожа была нежная и гладкая: «Как у моего Гришки губы», – подумал он и хихикнул от этого сравнения. Неожиданно молодка как-то обиженно, по-детски, всхлипнула, и голова ее еще дальше повернулась в сторону, а зубы сомкнулись, прикусив соломинку. Голубая жилка на шее бешено пульсировала, набухнув от крови. Взмахнув руками, словно решила взлететь, она забросила их за голову, чуть не задев отпрянувшего Максима.
Затаив дыхание, он глянул на молодицу – вдруг проснулась?
Такая же набухшая вена билась у него на виске, причиняя просто физическую боль. С трудом, в несколько приемов, он выдохнул воздух и положил руки на свои колени, пытаясь успокоиться.
«Нет, спит!» – обрадовался Максим. Сердце стало биться ровнее, боль в голове прошла. Восстановив дыхание, опять потянулся к ней, уловив слабый запах пота, исходящий от волос под мышкой. Он глубоко вздохнул, вбирая в себя этот запах и пытаясь понять, что он пробуждает. На миг ему показалось, что Акулька открыла глаза, но нет, это просто трепетали веки.
Плавно водя рукой, он отогнал нахальную муху, решившую отдохнуть на ее щеке, и резко задрал вверх, к бедрам, подол юбки. Сначала барчук ничего не увидел, кроме поднятой мелкой пыли, кружащейся в неожиданно появившемся солнечном луче, падавшем на ее бедро. Молодица опять зашевелилась, поудобнее укладываясь, и еще шире разбросала ноги, поймав луч низом живота, и Максим ясно увидел черные курчавые волосы, густо покрывавшие лобок.
Живот спящей девки задергался, то втягиваясь внутрь, то рывками поднимаясь вверх. Она застонала, но тут же зачмокала губами, словно во сне.
На секунду отвлекшись, он посмотрел ей в лицо – голова уже не была запрокинута, и ему показалось, что зубы покусывают нижнюю губу. Страх его прошел, и ему стало все равно, проснется она или нет, он даже желал, чтобы она проснулась, но все же вздрогнул, когда ее рука обхватила его плечи. А потом, в экстазе, спеша и от этого путаясь, стал расстегивать пуговицы на рубашке… Что было дальше, заслонил какой-то туман…
Фыркнув и обозвав его неопытным дитятей, Акулька спустилась вниз, оставив .Максима переживать свой промах.
Успокоился он неожиданно быстро, видимо, действительно был еще ребенком. Поймав ладонью солнечный луч, восстановил в памяти увиденную красоту, и прямо-таки волчий аппетит заставил его слезть с чердака и побежать в дом.
Обед никто и не думал подавать. Мать одиноко сидела в своей комнате, пытаясь наиграть что-то грустное на клавикордах. Она даже не повернула головы в сторону сына, когда тот заглянул в раскрытую дверь.
Ольга Николаевна, как только Агафон привез замерзшего и чуть не утонувшего мужа, сразу же поняла причину… Первой ее мыслью было пойти на реку и броситься в эту же полынью. Но хлопоты и уход за больным мужем отодвинули эту мысль в самые дальние уголки сознания. Она знала, что за всю свою жизнь не сумеет выпросить прощения, хотя в душе давно раскаялась и забыла генерала, словно его никогда и не было: «Великий грех, – молилась она, стоя на коленях перед образами, – лишать себя живота! Сейчас на мне один грех, а станет два. Один еще как-нибудь отмолю, а два – Бог не простит…»
Спали они с мужем в разных комнатах, и постепенно у нее вошло в привычку выпивать перед сном маленькую рюмочку домашней настойки или сладкого вина: «После него спится крепче!» – оправдывала себя. Она вся ушла в переживания, выискивая оправдания своему поступку и, главное, находя их.
В последнее время в особый фавор у нее попал Данила. Ей нравилась его степенная деревенская речь, его рассуждения о добродетели и грехе, о добре и зле, о погоде и видах на урожай. Он один не осуждал ее, лишь в его глазах она не читала презрения… Недавно барыня первый раз в жизни надавала по щекам Акулине – девчонка имела наглость встретиться с ней взглядом и не отвести глаз: «Это вызов!» – думала она.
Данила успокаивал ее. Его слова усыпляли совесть и заставляли глядеть на мир по-иному. Он своей рукой наливал ей рюмочку вина и уходил по делам, оставляя ее умиротворенной и сильной. Временами барыня даже ожидала его прихода и сердилась, ежели он долго не появлялся.
Когда Лукерья вздумала при ней обругать Данилу, она резко оборвала старушку и отослала куда-то по делам. Временами Ольга Николаевна удивлялась себе: что это с ней происходит? Но тут же рюмочка, а следом другая давали блаженство и успокаивали совесть.
Ее муж даже словом не обмолвился, что все знает и презирает ее, но когда она заходила в комнату, чтобы поправить подушку или спросить о здоровье, он молча отворачивался к окну или к стене, всем своим видом давая понять, что она тут лишняя, что ее присутствие тяготит его. Кормила больного и лечила целебными настоями старая нянька. Лишь из ее рук принимал он пищу и лекарства. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже…
Одно время казалось, что здоровье возвращается. После недели, проведенной у лесника, на щеках заиграл легкий румянец и начал возвращаться аппетит, но по приезде домой все это вмиг ушло, и болезнь больше не отступала.
В конце лета он уже не поднимался с постели. Что отец умирает, понял даже Максим. Его сердце сжималось, когда заходил к нему в комнату и видел заострившиеся скулы и тусклые глаза, из которых медленно уходила жизнь!.. Он бы все отдал, чтобы помочь отцу и облегчить страдания, но единственное, что мог, – это не подавать вида, как ему тяжело.
Часто после разговоров с отцом убегал в тот самый сарай, где, как считал, стал мужчиной, и долго-долго рыдал, зарываясь лицом в сено и царапая кожу колкими стебельками. Физическая боль приносила внутреннее облегчение. Стерев кровь со щеки или губы, он постепенно успокаивался, напускал на себя веселый вид и брел в дом; и ежели отец звал его, то, раздвигая губы вымученной улыбкой, шел к нему, стараясь показать своим видом, что все идет неплохо, а в дальнейшем станет еще лучше…
Но лучше не становилось… И как-то, накрыв теплую руку сына своей ледяной ладонью, Аким долго молча глядел на него, стараясь вобрать в себя эти родные черты, эти глаза и по-детски припухлые губы, чтобы не забыть их ТАМ!..
Смерть его не пугала. Он много повидал ее в жизни, но жаль было оставлять без отцовской поддержки неопытного и беззащитного сына; жаль было оставлять родительский дом, родную Рубановку и милые дедовские акации…
Он посмотрел в раскрытое окно на красное заходящее солнце и розовое, в его лучах, облако. Легкий ветерок, пошелестев салфеткой на столе, принес в комнату запах уходящего лета: скошенной на лугах травы, яблок из ароматных садов и меда с гречишных полей…
Как не хотелось все это покидать!
Желтый лист, покружив по комнате, плавно опустился на грудь больного. Выпустив руку сына, Аким осторожно взял листок и поднес к глазам, внимательно разглядывая прожилки на желтой поверхности, потом, счастливо жмурясь, с удовольствием понюхал, медленно пропуская воздух в легкие, чтобы не раскашляться, и нежно погладил вялую засыхающую поверхность, бережно положив его рядом с собой.
Максим с удивлением глядел на отца – дался ему этот лист, чего в нем нашел интересного?
Голос отца стал тих и слаб…
– Я скоро уйду!.. – Он поднял руку, чтобы остановить готовые сорваться с губ сына слова возражения. – И вот тебе мой наказ… Я написал друзьям – они помогут… Ты должен стать офицером! Все Рубановы были военными, правда, выше капитана или ротмистра не поднимались и богатства не скопили… Да это и не важно! Важно – Родину защищать!.. Станешь воевать – а этого не минуешь – и забросит тебя судьба в Австрию, найди деревушку Зальцбург и поле за ней, вот на том поле у реки перед мостом и закопаешь сей орден. – Слабой рукой пошарил под подушкой и протянул звезду «Святого равноапостольного князя Владимира». – А в-третьих, ежели сумеешь, отомсти врагу моему, генералу Ромашову. Даже на смертном одре не могу я простить ему…
Максим удивленно поднял брови. Отец надолго замолчал.
Неожиданно слабая улыбка тронула губы больного.
– Самая сладкая месть – женись на его дочери!
Максим непроизвольно коснулся золотого крестика на своей груди.
– Это будет для генерала огромным ударом! – Аким в изнеможении откинул голову на подушку. – А теперь поцелуй меня… И ступай пригласи священника – причаститься хочу…
Стараясь незаметно стереть слезу, Максим пошел к двери.
Последнюю свою ночь на этой земле Аким Рубанов не спал!..
Он блаженствовал, слыша победные боевые трубы…
Красивый и крепкий, летел на коне, ловя благосклонные взоры синих глаз императрицы Екатерины, серых – императора Павла и голубых – Александра…
А затем перед его взором простерлась бесконечно длинная дорога со следами сапог, конских копыт и орудийных колес…
Это была последняя дорога из всех, истоптанных им… И он одиноко шел по ней!
И последнее, что увидел или почувствовал, – это силуэт артиллерийского капитана, медленно поднимающегося вверх, к небу, и растворяющегося в плотном утреннем тумане…
И АКИМ ПОШЕЛ ЗА НИМ!!!
Его соборовали…
Он лежал под образами в прекрасном гусарском мундире, и горевшая лампадка отбрасывала тусклую тень на его лицо. Между большим и указательным пальцем правой руки светился огонек свечи. Поднимавшееся солнце затмило лампадку со свечой, и его яркие лучи подбирались к покойнику.
Ольга Николаевна велела зашторить окна и зажечь побольше свечей… В комнате было душно от набившихся бородатых мужиков-крестьян и их жен. Они усердно кланялись в молитве, прощаясь с барином. Время от времени раздавались женские всхлипы. Ожидали из Чернавки старичка-священника.
В сарае Агафон с Данилой спешно ладили гроб.
Максим убежал в сад подальше ото всех: от матери, няньки, дворовых – и долго, без слез и в молчании, лежал на теплой земле, в нервном ознобе вздрагивая плечами.
Когда его нашли и привели в дом, священник торжественно служил панихиду… Максим, с трудом переставляя ноги, подошел к отцу и прижался губами к холодному и жесткому лбу, затем на шаг отступил и, то ли из-за горевшей лампадки, а может, свечи отбрасывали столь причудливую тень, но ему показалось, что губы отца чуть раздвинулись в улыбке, успокаивая и поддерживая его…
Схоронив мужа, Ольга Николаевна как-то сразу успокоилась… Раскаяние перестало угнетать ее – каяться теперь не перед кем! «Сын еще маленький и ничего не понимает», – думала она, а чувствовать себя виноватой перед крепостными ей, столбовой дворянке, не к лицу.
Постепенно она расцвела и стала следить за собой. Клавикорды звучали веселее, возобновились занятия французским с сыном, и однажды она даже поймала себя на мысли, что ей скучно без генерала, что она жалеет об его отъезде. Ее даже бросило в жар и стало стыдно за эти греховные мысли.
Нянька осуждающе качала головой – еще сорока дней не прошло, а барыня веселится, но сказать в глаза боялась: «Какая-то дочка стала не такая! – думала Лукерья. – Да и этого долдона Данилу что-то очень привечать начала… Ох, не доведет это ее до добра, не доведет, – переживала старая мамка и иногда даже плакала, обняв Максима и называя его сиротинушкой.
Он стал тих и задумчив… Опять прилежно занимался французским с маменькой, счетом и письмом с чернавским дьячком, но с особым тщанием, помня наказ отца, тренировался за конюшней в стрельбе из пистоля и без устали крутил саблю, развивая запястье.
На сороковины, несмотря на непролазную грязь, из далекого блестящего Петербурга прибыли отцовы друзья: князь Петр Голицын и командир гусарского полка Василий Михайлович. Максим с восторгом смотрел на них, любуясь ладной формой и боевым видом. Они казались выходцами из другого мира, недоступного для него, – мира, где сражаются с врагами, ухаживают за дамами и танцуют на балах.