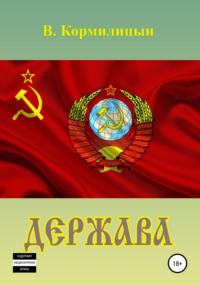Полная версия
Разомкнутый круг
Девочка, тиская свою дурацкую пушистую собачонку, упрямо молчала. Максим побарабанил пальцами по коленям и сложил руки на груди, уставившись в стену.
– Фи! – первая не выдержала хозяйка. – Сели без приглашения, да еще и молчите, словно деревянный… Правда, Зизишка?
Шпиц высунул язычок, мысленно подписываясь под каждым словом хозяйки, и уставился на незваного гостя желтыми мрачными глазками: «Если куснуть, небось заорет» – словно говорили они.
– Г-м-м! – прочистил горло Максим.
Шпиц в ответ зарычал.
– Рубанов! – представился он. Немножко подумал и добавил: – С того берега!
Неожиданно девочка прыснула, зажав рот ладонью, попыталась сдержаться, но у нее явно ничего не получилось, и она принялась хохотать. Шпиц, пошевелив ушами, на всякий случай убрался под диван. «Чего, интересно, я сказал смешного?» – недоумевал Максим.
Отсмеявшись, девочка вытерла белоснежным батистовым платочком свои чудесные глаза и спрятала его за рукав платья.
– А как вас зовут, Рубанов с того берега? – поинтересовалась она, стряхнув что-то видимое только ей с подола платья.
«Язвит еще!» – Максим! – произнес он, нахмурившись: «Говорила мне нянька, что много смеяться не к добру… не верил! А ведь так и есть».
– Эта маленькая деревушка напротив – ваше поместье? – расправила девочка платье и поудобнее уселась, поджав ноги.
Максим уже было собрался нагрубить и уйти, но ее совсем не детские глаза заворожили его и пригвоздили к стулу. Руки опять стали лишними.
– В церковь с матушкой приехали, – неожиданно для себя заговорил он, – а кучер наш, Агафон, напился, как свинья, а я стал управлять и приехал сюда… вот…
Девочка, покраснев лицом, старалась справиться с душившим ее смехом. Но совладала и серьезно спросила:
– А где ваша матушка? Агафона стережет?..
На этот раз даже ее прелестные глаза не смогли сдержать закипающий гнев, и Максим вскочил на ноги. Шпиц пулей вылетел из-под дивана и встал напротив, тоже наливаясь гневом и прикидывая, как ловчее броситься на врага.
Девочка поняла, что сказала лишнее, и гувернантка фрау Минцель ее бы не похвалила. Будто не заметив состояния Максима и не меняя позы, нежно улыбнувшись, она произнесла:
– А я – Мари, папенька зовет меня просто Машенькой, – улыбнулась одними глазами и пригласила: – Садитесь рядом, здесь вам будет удобнее.
Расстроенный шпиц, клацая зубами, залез под диван, оставив снаружи задние лапки и хвост, дабы не забывали о его присутствии.
Волна гнева ушла куда-то к потолку и там растворилась, растаяла, будто ее и не было. Дрожа ногами, Максим подошел и сел рядом с девочкой. На него пахнуло чем-то тонким и приятным: «От матери когда-то давно пахло точно так же», – вспомнил он.
Шпиц горестно заворчал.
– Молчи, Зизишка! – прикрикнула Мари. – А у меня нет мамы! Даже не помню ее…
«Бедненькая!» – пожалел Максим, разглядывая ее лицо, губы и барахтаясь в зеленых колодцах глаз…
– Вы не слушаете меня! – возмутилась девочка.
– Нет, что вы, сударыня! – важно произнес он, вспомнив, как обращался к ней лакей.
Несносная девчонка опять прыснула смехом.
– Моя нянька говорит, что много смеяться к слезам! – обиделся Максим, и тут они расхохотались вместе.
– Вы такой забавный! – сквозь смех произнесла она.
«Хорошо это или плохо, что забавный? – раздумывал он. – Раз смеется, наверное, хорошо!»
Шпиц, не выдержав одиночества, запрыгнул на диван и сел между ними, ревниво поглядывая на хозяйку.
– Мы так веселились на Рождество! – между тем рассказывала девочка. – Приехали гости, надарили столько подарков… Ряженые дворовые пели песни, и поздравляли, а какая была парадная обедня, жалко, вы не видели, – глаза ее сощурились от приятных воспоминаний, и Максим снова залюбовался ими, а она, забывшись, все говорила: – На следующий день во дворе перед домом крестьяне водили хороводы, плясали, играли в игры, а мы с папенькой веселились и бросали им деньги, впереди ведь еще Новый год… Вот славно-то! – захлопала она в ладоши от избытка чувств, превратившись в маленькую девочку, какой и была на самом деле.
«Года на два или три моложе меня», – определил Максим.
– А на Новый год непременно стану гадать, – захлебывалась словами Мари, выплескивая свои мысли и эмоции, рассказывая уже не гостю, а себе. – Я умею, правда-правда. И по зеркалу, и по воску, и других гаданий много знаю.
– А на кого хотите гадать? На жениха?!
– Фу! Вот еще! На жениха… нужен он мне. – А глаза ее так и сияли.
«Ясно, на жениха!» – с каким-то неизвестным доселе чувством то ли досады, то ли ревности подумал Максим, и зависть прокралась в его сердце и сжала его. Зависть к будущему богатому красавцу, который поведет под венец девушку с белокурыми душистыми волосами и прекрасными зелеными глазами. Сам не зная отчего, он расстроился: «Тьфу, ты! Лезет же дурь в башку».
Стук в дверь и противный голос камердинера прервал рассказ Мари, а гладкий чистый лоб ее недовольно нахмурился.
– Кто там еще? – другим, капризным голосом произнесла она и сразу стала какой-то отстраненной, далекой и чужой.
– За мной, наверное, пришли, – предположил Максим.
– Наверное, – подбежала к столу, открыла небольшой ларчик и что-то достала оттуда. – А это мой рождественский подарок, – встав на цыпочки, надела ему на шею тонкую золотую цепочку с маленьким золотым крестиком.
Максим зарделся от счастья, когда тонкие руки обхватили шею и он уловил запах волос и весь ее детский запах чистоты и свежести.
– Мари, – строго произнесла вошедшая вслед за камердинером немка, поднося к глазу лорнет. – Фрейлейн Мари, так не следовайт вести себя…
– А мне нечего подарить тебе, – не слушая гувернантку, расстроено произнес Максим. – Только вот это!.. – Наклонившись к девочке, он неловко дотронулся губами до ее щеки, ощутив душистую нежность кожи, и увидел совсем рядом широко распахнутые, удивленные глаза.
– Ви что делайт?! – взвизгнула немка, с ненавистью глядя на Максима. – Убирайтесь вон! А ви есть взрослый девушка, – сбавила она тон, обращаясь к своей воспитаннице.
Камердинер, грубо схватив Максима за руку, потащил к двери. На секунду он обернулся и увидел потрясенные глаза и хрупкую фигурку Мари, безмолвно прижавшей ладонь к щеке, к тому месту, где он поцеловал…
Полозья саней поскрипывали по снегу. Проспавшийся Агафон, виновато покряхтывая, нашел какую-то одному ему известную точку на лошадином крупе и не сводил с нее глаз. Барыня, поругав для приличия сына, думала о генерале, с удовольствием вспоминая, что он не рассердился, а лишь рассмеялся, когда фрау Минцель пришла жаловаться на поведение Максима: «Из мальчишки получится настоящий гусар!» – ответил он ей. «Какой все-таки душка Владимир Платонович! Кажется, он влюбился в меня, поэтому и сына не стал ругать, – млела Ольга Николаевна, любуясь на белую равнину занесенной снегом реки. – Отказываться от приглашения не стоит, непременно поеду в Ромашовку на Новый год… И как откажешься, коли приняла рождественские подарки? – Потрогала сверток с туфлями и платьем. – Вот славно бы было, ежели Максимка на его дочке женился, но это несбыточно, конечно, – мечтала она. – Но какой дом! Какое поместье!.. Ах, если бы…»
– Максимушка, душа моя! Тебе понравилась Машенька?
В наступившей темноте она не могла заметить, как покраснел ее сын и с какой нежностью погладил маленький золотой крестик. Он сделал вид, что не расслышал, и мечтательно глядел в горние выси, на голубые точечки звезд, вспоминая глубокие, как небо, глаза, и вновь переживая последние минуты их встречи.
Ольга Николаевна, поставив два четырехсвечных канделябра перед зеркалом в спальне, сняла рубашку и разглядывала себя: «Полновата, конечно. – Щурила глаза. – Но и он не юноша. Ноги стройные… – Подняла попеременно то одну, то другую. – Бедра тяжеловаты, но в его годы мужчинам нравятся именно такие… – Повернулась перед зеркалом, стараясь увидеть себя со спины. – Ягодицы так и вздрагивают, очень хороши. Талия тоже есть, хоть и не как у девчонки. Но зато груди… – Подняла их руками – крепкие и большие! То-то он всё локтем их задевал… Волосы тоже хороши. Густые! Везде еще хороша…»
– Акулька! Спать завалилась, лентяйка? Тащи еще одно зеркало… Гадать стану!
«Совсем сбрендила на старости лет!» – пошла за зеркалом сонная девка.
Максим лежал с открытыми глазами и опять вдыхал запах чистоты и свежести, мысленно ласкал пальцами ее волосы и в который уже раз представлял ее зеленые глаза… Сердце его счастливо сжималось. Он поцеловал золотой крестик, повернулся на бок и закрыл глаза, слушая, как холодный ветер стучит по крыше и что-то катает, как неприкаянно хлопает где-то недалеко от его комнаты оторванная ставня, а в печи уютно гудит домовой…
«Забавный мальчик, – вспоминала, лежа в постели, Мари. – И чего так разозлилась фрау Минцель? Подумаешь, поцеловал в щеку,– хихикнула она, неожиданно для себя покраснев… – Вот дурачок! Симпатичный, только слишком белобрысый. Отчего у него волос не темный? Ему бы больше пошло… Самое в нем лучшее – это родинка в углу рта. Вот она его украшает. И небольшие ямочки на щеках, когда улыбается А так – обыкновенный мальчишка. Да одет ко всему очень просто» – засыпая, думала она.
«Оказывается, эта опускающаяся помещица – жена моего врага Рубанова. Полагал, будто носят одну фамилию. Не думал, что, вступив в наследство, окажусь соседом этого ротмистра. И сынок весь в него… Такой же негодяй! Ну ничего… – зевнул генерал, – коли он жив, преподам еще один урок!» – любовно погладил красную эмаль Владимирского креста и орденскую звезду.
Агафон, засыпая, вспоминал ромашовский кабак: «Хороша водка! Но барыня обещала завтра самолично выдрать на конюшне. – Почесал волосатую задницу. – Ежели сама, то это еще ничего, а вот коли прикажет Данилке… – Заскрежетал он зубами. – Ежели Данилке… то этот стервец шкуру с меня спустит… А может, и сама… – Повернулся к стенке. – А вот ежели бы велела мне Данилку выпороть… – проваливаясь в сон, мечтал он, – то я бы всыпал ему сполна! Вот еще стервец нашелся. Злодей!..»
Вечером в последний день 1805 года, трезвый как стеклышко, Агафон вез барыню в Ромашовку на встречу Нового года. В сани он запряг тройку да навешал бубенцов на дугу, чтобы повеселить барыню. Порки кучер счастливо избежал, но с Данилой, так, на всякий случай, начал здороваться.
Ольга Николаевна сидела прямо, чтобы не измять новое платье под шубкой.
Перед самой Ромашовкой туча закрыла свежий молодой месяц, и пошел крупный пушистый снег. Ветер стих. Деревенские улицы обезлюдели, но сквозь маленькие оконца в избах блестел тусклый свет лучин. «Тоже Новый год встречают, – подумала Ольга Николаевна о крестьянах. У парадного крыльца уже стояло несколько экипажей. – Господи! Страшно-то как!» – перекрестилась она, осторожно вылезая из саней.
– Смотри у меня! – погрозила тяжело вздохнувшему кучеру и пошла в дом.
Дверь ей растворил лакей с такими же, как у генерала, пушистыми бакенбардами на пухлой глупой роже.
– Сударыня! – в ту же минуту подошел к ней хозяин, будто специально стоял за дверью и ждал ее визита.
Он долго не отрывался губами от протянутой руки. Был он в полной генеральской форме с рубиновым крестом на шее и звездой Святого Владимира среди других наград на груди.
«Великолепный мужчина!» – подумала барыня.
– Диана! – оторвался наконец от ручки Владимир Платонович. – Богиня Диана… «Тем приятнее будет отомстить ее мужу», – подумал он, с удовольствием разглядывая женщину с головы до ног. – Вам очень идет это платье, сударыня! – чуть склонил в поклоне голову.
– Спасибо за комплимент, Владимир Платонович, и за подарок, – плавным движением поправила волосы перед зеркалом: «Действительно – хороша!» – оценила себя.
Взяв под руку, генерал проводил ее в ярко освещенную и наполненную людьми залу. Из гостей она сразу узнала уездного предводителя и его жену. Рядом с ними стояли несколько дам в разноцветных платьях с жемчугами на открытых шеях. Мужья их толпились чуть в стороне, о чем-то увлеченно беседуя. Ромашов начал представлять Ольгу Николаевну присутствующим. Она опускала глаза, сдерживая дыхание, но грудь ее вздымалась от волнения – ей казалось, что все указывают на нее пальцами и сплетничают.
«Да что это я, право, как девчонка какая? – укорила себя Ольга Николаевна. – Не сама же пришла, а по приглашению… И одета не хуже других, и фигурой Бог не обидел», – распрямила спину и гордо повела плечами.
Гости начали будто случайно подтягиваться к накрытому столу.
– Я на минуточку, – извинился генерал, оставляя ее на попечение супруги уездного предводителя, командовавшей и здесь.
Плоскую грудь ее украшало колье из бриллиантов, и красная роза застряла в черных волосах.
«Не по чину ворует!.. – подумала Ольга Николаевна о ее муже и колье. – Вульгарно!» – оценила розу.
«Плебейка!» – улыбнулась ей предводительница.
– Прошу за стол, господа! – пригласил гостей генерал, надумав посадить Ольгу Николаевну рядом с собой, но его опередил полковник-гусар, бывший тоже без дамы.
Щелкнув шпорами и расправив усы, он взял под руку растерявшуюся Рубанову и устроил ее в середине стола, примостившись рядом.
– Следую из отпуска в полк, – доложил соседке, – и, узнав, что Ромашов в своем поместье, сделал крюк и завернул к нему на огонек… И, как видите, не напрасно! – галантно поцеловал ей руку.
Вспыхнув, Ольга Николаевна глянула в сторону генерала. Сердито хмурясь и играя желваками, тот глядел на полковника, как вахмистр на нерадивого новобранца.
«Неужели влюбился в меня? – сомлела она. – Но немножко ревности не повредит…»
– Не имею удовольствия быть с вами знаком… – разглагольствовал между тем полковник.
– Но стремились к этому всю жизнь!..– неожиданно закончила за него фразу Ольга Николаевна и, покраснев, удивилась своей смелости.
Гусар на секунду пришел в замешательство, затем заржал, как жеребец, учуявший кобылу.
– Мой муж тоже гусар – ротмистр Рубанов! Может, слышали о таком?
– Аким? Это ваш муж?.. Вот так сюрприз… – воспользовавшись случаем, поцеловал ее руку. – Как же, не слышал? Кто ж из гусар не знает Рубанова?! – Полковник даже захлебнулся от переполнявших его чувств и, не зная, как выразить свою радость, что сидит с женой знаменитого бретера и бабника, еще раз поцеловал ее руку.
Генерал, глядя на них, скрипел зубами и пытался испепелить усатого ловеласа грозным взглядом.
– Прекрасный офицер, скромный и воспитанный! – не обращал на него внимания полковник, поднимая бокал с шампанским. – За вашего мужа! За гусаров! И за их жен! – опрокинул в себя содержимое и, будто спутавшись, стал наливать водку.
После каждого выпитого бокала он с чувством извинялся. Начав с шампанского и водки, отведал вина, настойки, наливки… и закончил опять водкой.
«Коли женщина оказалась женой брата-гусара, которого к тому же здесь нет, она вне посягательств», – решил он, уничтожая напитки и рассказывая о походе в Австрию. Понимать его становилось все труднее и труднее. – Тогда мы подошли к цветущей деревне, извините, и я приказал остановиться на постой, извините.
«У него такая жажда! – дивилась Ольга Николаевна, заботясь, чтоб сосед не облил новое платье. – Словно походом шел не в Австрии, а в знойной пустыне…»
Вскоре весь рассказ состоял из сплошных «извините».
Маленький домашний оркестр из крепостных настроил инструменты и заиграл опальный вальс, который, взойдя на престол, запретил император Павел.
– Р-р-разрешите! – попытался оторваться от стула полковник. – Извините, п-п-ригласить на танец, извините.
«Слава Богу, тщетно!» – облегченно вздохнула Ольга Николаевна, глядя на его безуспешные попытки.
– Простите, мой друг! – услышала над головой радостно-ироничный голос Ромашова. – Прошу вас, сударыня, – поклонился он, –на тур вальса.
– С удовольствием! – протянула ему руку, легко вставая.
– Прибили, что ли, ко мне этот чертов стул, извините! – услышала она, уходя танцевать.
«Когда-то давно, может, это было в другой жизни, я любила танцевать…» – кружилась по зале Ольга Николаевна.
«Она прекрасно танцует!» – удивился генерал. – Вы гибки, очаровательны и с чувством ритма, – поцеловал ее в шею.
Ольга Николаевна не возмутилась. Все было допустимо в эту чудесную новогоднюю ночь. Голова ее приятно кружилась, огни свечей мелькали перед глазами. Окружающие казались добросердечными и ласковыми людьми, любующимися ее фигурой, платьем и изяществом танца.
– С таким кавалером, как вы, Владимир Платонович, невозможно быть иной… – расплющила грудь о его мундир.
В полночь в залу с шумом ворвались ряженые дворовые: черти, лешие, медведи, ведьмы – и стали дурачиться под смех гостей. Очумелый полковник, раскрыв глаза, увидел перед собой огромного медведя, раскачивающегося из сторона в сторону: «Где мой пистолет?» – стал он обшаривать карманы. Медведь правильно понял его жесты и уковылял подальше, на другой конец залы, а леший подумал, что будут давать деньги… им был как раз лакей с пушистыми, как у генерала, бакенбардами на пухлой глупой роже. По ней-то он и получил пустой бутылкой из-под шампанского.
Когда лешего унесли, довольные гости, надев шинели и шубки, направились в парк любоваться иллюминацией. Блики разноцветных огней отражались на счастливом лице Ольги Николаевны. Генерал стоял рядом, держа ее под руку. Предводительница, давно потерявшая свою розу, толкала локтем осоловелого мужа и указывала глазами на них.
Под утро гости стали разъезжаться, а кто был не в силах, как гусарский полковник, давно спали по комнатам. Ольгу Николаевну Ромашов, конечно, не отпустил: «Куда в такую темень?». Вдвоем они сидели на диване в розовой гостиной и смеялись, вспоминая забавные случаи сегодняшней ночи. Бутылка с шампанским и два бокала стояли на столе.
– За прелестную соседку! – произнес тост генерал.
Голова у Ольги Николаевны приятно кружилась. Кружились расписные стены, мебель и мягкий диван, на котором так хорошо и уютно сидеть, кружился весь дом, кружился весь мир.
Прикрыв глаза, чтобы остановить этот круговорот, она почувствовала на своем плече тяжелую мужскую руку, но уже не было сил сопротивляться. С плеча рука опустилась на грудь и сдавила ее, другая тем временем расстегивала крючки и пуговицы платья… Жесткие губы властно искали ее рот, а потом, вслед за руками, опустились ниже, нашли крупный сосок и стали ласкать его. Зубы покусывали мягкую нежную плоть. Сердце трепетало и кружилось где-то вне ее, вместе с комнатой, вместе с домом, вместе со всей землей…
«Зачем это я?» – Пыталась открыть глаза и освободиться от чужих властных рук и губ, но сознание не могло пробудиться, и было так хорошо и приятно, как много-много лет назад в дни промелькнувшей юности и первой любви…
Ах, как она тогда любила его!..
Руки между тем, требовательно лаская, сдернули платье и, приподняв, мягко уложили ее на диван. Теплая тяжесть давила на грудь и бедра, волнуя дыхание и еще сильнее кружа голову… Сдавленно застонав, она почувствовала грубую силу, входящую в нее, и волны наслаждения сотрясли тело.
Когда она открыла глаза, ей показалось, что живые розовые цветы осыпались с панно на ее тело и завяли…
Под самое Крещение нянька Лукерья, потеплее одевшись, велела собираться Акульке и Максиму.
– Да корзины захватите али еще што! – крестилась она на образа.
– А зачем, бабушка? – поинтересовался Максим.
– За снегом пойдем!
Акулька, вытаращив глаза, выронила валенок: «То барыня зеркало требует, теперь вот и бабушка свихнулась!» – грустно подумала она.
Хихикнув, Максим переспросил Лукерью, думая, что ослышался,
– Снег со стогов собирать станем… – бурчала та, выискивая корзину.
– Да зачем он нам?– недоумевал Максим. – Да еще по стогам лазить? Во дворе, что ли, его мало…
Акулька улыбалась, закатив глаза к потолку. Данила, видимо, подслушивающий их, появился в дверях и тоже вопросительно уставился на бабку. Девка сразу преобразилась: глупо засмеялась неизвестно чему и стала прихорашиваться.
Вздохнув и поджав губы, нянька разъяснила:
– Снег, собранный в крещенский вечер, – целебен! Особливо взятый со стогов
– Угу! – кивнул Данила, исчезая за дверью.
– Недуги всякие лечить им можно: головокружение, судороги, в ногах онемение, – произнесла старая нянька. – Ноги-то у меня болят…
Максим оживился – все развлечение. От снега шел ровный тусклый свет. Огромная круглая луна проглядывала сквозь корявые голые ветви акаций – словно запуталась в них.
– Полнолуние, – задумчиво произнесла нянька. – Видать, Волга по весне сильно разольётся… Примета такая, – поочерёдно глянула на парня и девку.
– Бр-р-р! – поежился Максим. Лазить по снегу чего-то расхотелось.
Вдали послышался перезвон колокольцев.
«Матушка едет! – обрадовался он. – Меня больше не берет, все одна да одна», – обидчиво всматривался в даль.
На Крещение Бог услышал его жалобы…
Утром, щурясь от солнца и аппетитно вдыхая свежий морозный воздух, Максим катил в Ромашовку. Он блаженствовал, слушая скрип полозьев, перестук, копыт и звон бубенцов. Старая Лукерья ласково улыбалась ему, зябко кутая ноги в медвежью полость: «Слава тебе Господи! – мысленно молилась она. – Хоть мальчонку порадует, а то совсем об дитяти забыла… – недовольно покосилась в сторону барыни. – Ишь, дремлет! Не выспалась, видать, гулена, и чего Акульку не взяла? Как девка просилась на водосвятие!»
Ольга Николаевна, утомленно откинувшись и томно прикрыв глаза, думала о своем. Дорога стала ей привычна – страха и интереса больше не вызывала.
– Вон Иордан! – оживилась старая нянька, левой рукой показывая на широкую прорубь и мелко крестясь правой. – Слава тебе Господи, еще до одного Крещения дожила…
Трое мужиков чем-то занимались у самого края лунки, не обратив на сани внимания.
Агафон жестко потер голову под шапкой и жадно поглядел на ледяную воду, покатав вязкую слюну в пересохшем горле: «Вчера с Данилкой чё-то бурно закончили святочное веселье, нынче утром чуть лошадь задом наперед не запряг», – хмыкнул он и тут же схватился за гудящую башку.
Медленно поднявшись по склону, сделал попытку рявкнуть на лошадей и взмахнуть кнутом, чтоб бодро, как и подобает рубановским, пронестись по Ромашовке, но голова предательски закружилась, и он чуть не вывалился из саней. Больше таких попыток кучер не предпринимал и, съежившись, задумчиво глядел на круп коня, по ошибке остановив его у кабака, а не у церкви.
Будто пружина подбросила Максима, когда в толпе крестьян увидел Кешку, деда Изота и всех его домочадцев.
– Сынок, куда ты? – попыталась остановить Максима Ольга Николаевна, но он даже не услышал ее.
Нянька укоризненно поглядела с саней, как ее любимец пробуравил толпу и кинулся к Кешке. В ту же минуту, прижав икону к круглому животу, появился батюшка, сморщился от солнца и огласил округу мощным чихом, вызвав смех прихожан и пожелания здравия.
«Крестный ход чевой-то затянулся, – подумала Лукерья, решив опереться на руку Агафона, но он уже исчез. – Вот нехристь, – вздохнула она, – поди в кабаке сатанинском богохульствует, ирод! – Ольги Николаевны рядом тоже не оказалось. – Куда все сегодня деются? Кабы и лошади не пропали!» – перекрестилась старушка, медленно семеня за черноволосым басовитым дьяконом.
После праздников мать целеустремленно начала заниматься с Максимом французским.
– С кем я тут буду по ихнему разговаривать? – злился он, но язык учил.
Чернавский дьячок так же рьяно преподавал ему счет, письмо и «гишторию». Голова Максима трещала от половцев, печенегов и русских князей. Хромой дьячок вдохновенно рассказывал о древних руссах, которые воюют и одерживают победы. От него узнал Максим об усобицах, ослаблявших Русь.
– Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, деля себе добычу… – читал дьячок. – Из-за этого-то пришедшие из восточных стран безбожные татары с царем Батыем покоряли один за другим города русские… и Рязань, и Владимир, и Суздаль.
И замирало сердце Максима, когда слушал он о смелых защитниках Козельска, о подвигах рязанца Евпатия Коловрата и о князе Новгородском Александре Невском.
И сжималось сердце мальчика, когда дрожащим голосом читал дьячок обращение князя Московского Дмитрия Ивановича накануне Куликовской битвы: «Любезные друзья и братья! Ведайте, что я пришел сюда, дабы Русскую землю от пленения и разорения избавить или голову свою за всех положить. Честная смерть лучше плохой жизни».
Не знал дьячок, глядя в затуманенные глаза своего ученика, что в этот момент, сжимая в руках копье, стоял он рядом с князем Александром Невским и сражался на восходе солнца с немецкими рыцарями, и побеждал их, и гнал с земли Русской…
Дорога, дорога, дорога… Нескончаемая снежная колея, ветер и мороз!
«Хорошо, шинель из доброго сукна строена, а то пробрало бы до самых косточек… – думал Аким Рубанов, сквозь выбиваемую ветром слезу рассматривая заснеженные поля, черные избы деревень и холодные церкви. – Заснуть бы, чтоб не замечать времени».