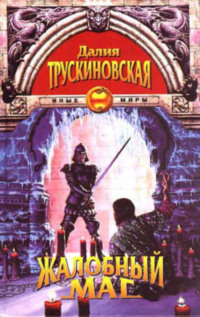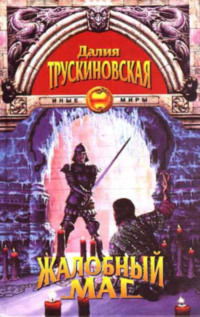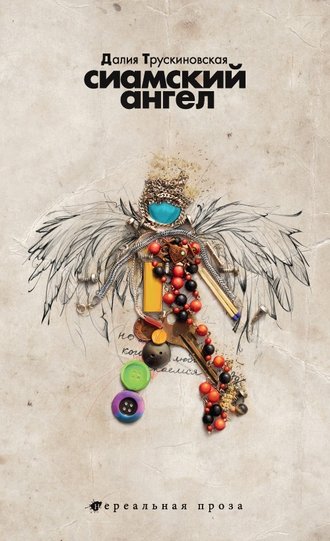
Полная версия
Сиамский ангел
– Ох, барыня, это поветрие такое гуляет! У соседей, у Шварцев, ребеночек так-то за сутки сгорел. За руку тяните!
– Так то – ребеночек…
Вдвоем они подняли Андрея Федоровича с пола и уложили на кушетку, потом мокрой салфеткой стали промокать лицо, приводя в чувство.
На салфетке остался покупной румянец – Андрей Федорович, как почти все придворные, и волосы пудрил, и лицо подкрашивал. Но черные, домиком, брови были свои, как и длинные ресницы, и даже родинка на щеке, которую самая опытная кокетка сочла бы мушкой.
– Аксюша… – прошептал Андрей Федорович.
– Что это он?
– Жену зовет… Дуня, как же нам с ним быть?
– Погодите, барыня, настой сделаю, напоим. Придет в себя, по лестнице сведем, извозчика кликнем и домой отправим. А извозчику скажем – напился барин в стельку, чтобы не испугался.
– Не может же быть, чтобы он умер! – вскрикнула вдруг Анета. – Не может быть, Господи, не может этого быть!
– Вон у Шварцев ребеночек помер. Шварцша все думала – травками отпоит, и за доктором не послала.
– Поди, поди! Завари наконец травки!
Анета выпроводила Дуню и стала делать то единственное, что могла, – менять мокрые салфетки на лбу у Андрея Федоровича.
Он звал Аксюшу, то тихонько, то, сердясь, повышал голос, и Анета отвечала:
– Да, да, миленький, да, жизненочек, я тут…
Он ловил руку жены – и Анета давала ему свои пальцы, которые он сжимал так, что от колец делалось больно.
Вошла Дуня с чашкой.
– Придержите его, барыня, я поить буду.
Андрея Федоровича усадили. Пить он не пожелал – только понапрасну залили горячим настоем камзол и кружевце на груди.
– Как же быть-то, Дунюшка? Он весь горит!
– За доктором бежать?
Они переглянулись.
Театральная девка много чего могла себе позволить, и если бы молва разнесла, что она имела в квартире троих любовников разом, одного в шкафу, одного под постелью, и третьего – в постели, это лишь придало бы ей блеску. Но умирающий?…
Многие знали, что полковник Петров по душе танцовщице, да все никак не соберется ответить на ее шаловливые авансы. Лизета первая бы рассказала всему свету, как злилась Анета на отсутствие взаимности. И вдруг он, испив всего-навсего брусничной водицы, падает без чувств в Анетином доме…
Анета, как умела, послушала пульс Андрея Федоровича. Биение жилки ничего ей не сказало.
– Что же это за хворь такая?! – воскликнула она. – Господи Иисусе, спаси и сохрани!
В гостиной образов не было, а лишь в спаленке. И перекреститься-то танцорке было не на что…
– Воля ваша, а я за доктором побегу, – решительно сказала Дуня. – Ну как помрет он тут у вас – всю жизнь, барыня, расхлебывать будете – не расхлебаете!
– Нет, нет, погоди…
И точно – открыл глаза Андрей Федорович и посмотрел вполне осмысленно.
– Где я?…
– У меня, Анета я, – Анета склонилась над ним, чтобы он лучше разглядел лицо.
– А-а… Ты?…
– Ну да, я, ты ко мне в гости зашел, и тебе плохо сделалось. Сейчас Дуня доктора приведет, у нас по соседству немец живет, он тебя посмотрит…
Андрей Федорович прошептал невнятное и, видя, что его не поняли, повторил. Анета с Дуней наклонились и расслышали отдельные звуки.
– В силе? В какой силе?…
– Василий? – догадалась Дуня.
Не сразу сложились у них слова «отец Василий», а когда стало ясно, что больной требует не врача, а священника, – обе женщины впали в ужас.
– Погоди помирать, жизненочек, сейчас доктора приведем, сейчас тебе полегчает! – Анета повернулась к Дуне. – Да беги же, дурища! Не то и впрямь помрет!
Дуня беспрекословно выскочила из гостиной.
Анета осталась наедине с человеком, которого – и двух часов не прошло – любила веселой, дерзкой, сладостно-лихой любовью. Только что она успела насладиться мгновением победы – когда, втаскивая избранника в прихожую, успела прижаться к нему и дала волю стремительным предчувствиям близости. Она и сейчас его еще любила – но из желанной добычи он сделался тяжким грузом, бедой, которая еще неизвестно как отзовется на будущем.
Анете было страшно.
Андрей Федорович, снова утратив сознание, стал метаться, потом стих.
– Господи, да что же это за кара такая, что за наказание?! – взмолилась Анета. Спрашивала она не об Андрее Федоровиче, а о себе, потому что уж она-то никак не заслужила такой неприятности.
И, чтобы спасти от неприятности себя, она стала молиться, повторяя известные с детства слова, потому что спасти лежащего перед ней в беспамятстве мужчину должен был доктор, имеющий прийти с минуты на минуту.
В комнате между тем стало темнеть. Анета встала с кушетки и зажгла две свечи.
Никогда еще она не испытывала такого одиночества, как наедине с любимым. Но был ли этот человек сейчас любимым? Того она уже не знала. Больше всего на свете она желала, чтобы этот день случился заново – и тогда уж она не стала бы сговариваться с проказливой Лизетой, нет, она даже в сторону полковника Петрова не взглянула бы, она бы и к Сумарокову не поехала, она бы и из дому не вышла, а сидела на кушетке и шила нарядный ночной чепец, начатый еще на прошлой неделе.
– Что, барыня, как он? – раздался взволнованный голосок.
– Ах, Дуня! – словно к единственной сестре, бросилась Анета к горничной. – Где ты пропадаешь?! А герр Гринфельд?…
– Его к Петуховым позвали, там хозяйка никак не разродится, бабка от нее уж отступилась. Я другого привела.
Полный мужчина вошел в гостиную и сразу направился к больному.
– Светите мне, – сказал он вроде и по-русски, но как-то не совсем.
Анета поднесла двусвечник к самому лицу больного. Доктор посмотрел, оттянув веко, глаз, потрогал лоб, проверил пульс.
– Как давно это состояние… с ним есть?
Анета с Дуней наперебой объяснили.
– Достаточно. Это плохое состояние. В городе болезнь, прибирает за день, за два. Это она, – сказал доктор. – Молодые люди, только вчера здоровые, сегодня – без памяти. Завтра – аминь.
– Ах ты, Господи! А не заразно? – первой догадалась спросить Дуня.
– Это один Бог знает. Я напишу записку аптекарю. Но надо позвать батюшку. Надо – исповедь, причастие, соборование. Состояние плохое.
– Да что же с ним делается-то? – закричала Анета. – Что это за хворь такая, чтобы сразу соборование?!
Почтенный пожилой немец в аккуратном паричке, в черном кафтане без излишеств, точно такой, как положено быть доктору, и руками развел совершенно по-докторски.
– Состояние, сударыня…
– Барыня, а ведь плохо дело-то! – сообразила Дуня. – А ну как он у нас тут помрет без покаяния? Ведь – грех!
– Не может быть такого состояния, не может быть такой болезни! – твердила Анета. – Днем же еще песни пел! Нет таких болезней, чтобы за три часа умирали!
– За визитацию заплатить надобно, – подсказала Дуня. – Да не кричите, соседи всполошатся!
Анета, как теперь вздумали говорить – машинально, достала кошелек. Доктор тем временем спросил перо, бумагу, и точно – написал что-то неразборчивое для аптекаря.
Ушел, повторив, что медицина велика и премудра, но пусть посылают за священником.
– Как же мы батюшку-то сюда позовем? Что я ему скажу? – Анета была в поразительной растерянности. Она, самая бойкая на театре, вострушка из вострушек, впала в страх. Батюшка наверняка полюбопытствует, кто сей раб Божий, как сюда угодил, повыспросит да и скажет: «Не моего прихода!» А потом что?
– Барыня, а барыня! Где этот кавалер живет-то?
– На Петербургской Стороне… – Анета задумалась, припоминая. – Как ехать по Большой Гарнизонной, так где-то, не доезжая Бармалеевой… Или от Сытина рынка по Бармалеевой… Лизка однажды его домой подвозила, рассказывала – домишко невзрачный, на женино приданое куплен, хороший-то смолоду был не по карману, а там приличный человек и не поселится… И никак они оттуда не съедут…
И ахнула Анета негромко, осознав, какую чушь городит над постелью умирающего.
– Барыня! Мы вот что сделаем – я до Гриши добегу, приведу его, извозчика возьмем – да и отвезем кавалера к нему на квартиру, покамест жив! Гриша его бережненько вниз снесет и усадит – а?… А дома к нему и батюшку позовут – а?… И пусть там его хоть исповедуют, хоть соборуют!..
– Ах, делай как знаешь!.. Только, ради Бога, скорее!..
Анета испытала внезапное и острое счастье – нашелся кто-то, согласный справиться с этой бедой, избавить перепуганную женщину от некстати помирающего избранника!
Но нужно было еще дождаться, пока Дуня сбегает, бросит камушек в окошко, вызовет одного из своих поклонников, которых у нее было с полквартала, уговорит, найдет извозчика…
Все это время нужно было провести наедине с Андреем Федоровичем.
– Потерпи… – сказала Анета. – Потерпи, миленький! Потерпи еще немножко!
И уговаривала продержаться еще хоть с полчасика – а там уж он будет дома, у родных, там что-нибудь придумают – и все еще, может быть, обойдется!..
– Сюда, Гришка! – велела Дуня, без церемоний вводя в гостиную здоровенного, на две головы выше нее, детину. – Бери барина в охапку, тащи вниз, я двери придержу!
И, пока детина беспрекословно сгребал Андрея Федоровича с кушетки, бросилась к хозяйке:
– Барыня, повезло – карету сговорили! Только кучер денег просит – ему, вишь, уже распрягать да в стойло ставить, а он нас повезет. Так коли барин заметит…
– Вот кошелек, плати кому хочешь и сколько хочешь! – приказала Анета.
– А как зовут кавалера-то? Надо же знать, чей дом спрашивать!
– Полковник Петров он, так и спрашивайте. Он там, поди, один полковник на всю Петербургскую Сторону и есть!
– Ну, с Божьей помощью!..
Детина вынес слабое, жаркое, безвольное тело. Дуня, подхватив уроненную треуголку, кинулась следом.
Анета поспешила в спальню, к образам.
– Господи, дай довезти живым! – взмолилась она. – Не допусти, Господи!..
В этот миг страх отступил – и Анета ужаснулась происходящему.
Никто бы не пожелал себе и ближнему смерти без покаяния – без осознания всей состоявшейся жизни, без напутствия священника. На самый крайний случай была «глухая исповедь» – отпущение грехов давалось тому, кто душой уже находился далеко, и лишь плоть длила существование. Анете страх как не хотелось просить Бога, чтобы дал Андрею Федоровичу эту милость, – и она просто умоляла о продолжении жизни, все еще надеясь на лучший исход. Анета была молода, и Андрей Федорович был молод, и для нее казалось невозможным, чтобы тело, подобное ее сильному, гибкому, закаленному танцевальными упражнениями телу, было в одночасье разрушено яростной болезнью.
Посреди мгновенно родившейся молитвы она замерла – записка! Бумажка к аптекарю, которую начеркал доктор-немец! Весь домашние полковника Петрова наверняка сразу же пошлют за другим врачом – а поди, найди хорошего на Петербургской Стороне!..
Анета выбежала в гостиную, схватила со стола записку и поспешила вниз по лестнице.
Она успела – карета еще не тронулась. Анета ухватилась за дверцу, другой рукой вздернула юбки – и влетела во мрак. Взвизгнула, испугавшись, Дуня.
– Едем, едем!..
– Да вы-то, барыня, куда же?…
Карета покатила. Танцовщицу тряхнуло, она невольно села на переднее сиденье. В оконце пробилось немного лунного света – и она увидела на заднем сиденье Андрея Федоровича – не увидела, угадала, – потому что голова сидящего как-то неестественно клонилась набок. Рядом, держа его в охапке, сидела Дуня.
– Записку отдать надо, что доктор написал.
– Так я бы и отдала!
Умница Дуня решила всю тяжесть этой ночи вынести сама – доставить больного к его семье, наврать несуразиц, выгородить хозяйку, которая по молодой дурости заварила такую кашу. А хозяйка – вот она, ворвалась и сидит, сама перепуганная своей решимостью.
Андрей Федорович прошептал нечто совсем уж беззвучное, стал шарить рукой.
– Тут я, тут! – Анета взяла его за руку, но держать было неловко, и она соскользнула на колени.
Может быть, только в этот миг и только этого, случайного в ее жизни, человека она за весь свой бабий век и любила искренне, пламенно, всей душой.
Но миг короток, человек смертен, пламя неповторимо.
* * *Велик Божий мир.
И над ним – Божье величие.
Ночь и тишина – помощники в постижении. И проще всего – подняться над землей и окинуть ее сверху взором. Не так это безумно, как кажется, если положиться на внутренний взор души.
Вот раскинулся мир, исчерченный вдоль и поперек путями земными, вот вспыхивают слабые или яркие искры – это молитвы, порой невольные, возносятся. Вспыхивают и сгорают слова, но высвобождается из пеплом осыпавшейся оболочки подлинная суть молитвы – и летит, летит!..
Расстояния сверху ничтожны: разведешь пальцы, и между ними умещаются города. Если прищуриться – разглядишь живые точки.
Такая вот точка движется, еле ползет по незримой линии – между двух черных пятен с ровными краями вроде как тоненький просвет. По нему не написано вдоль, что это Большая Гарнизонная, и нет на черных пятнах белых мелких буковок «слобода Ямбургского полка», «слобода Копорского полка», «слобода Белозерского полка». Тому, кто глядит сверху, это ни к чему. Это знание, не имеющее ни малейшего значения. Точка медлит, останавливается, опять движется, и нет в ее перемещениях ничего такого, за что стоило бы ее выделить из множества других подобных точек – из которых, собственно, и складывается ночной живой мир. И другие тоже вспыхивают, испуская сгорающие на лету слова, и движутся дальше невредимые, и каждая имеет свою цель.
Так видится сверху карета, которая несется по ночной улице неведомо куда, потому что нет прохожего – спросить дом полковника Петрова.
Кучер и Гриша, сидящий с ним на козлах, просят Бога поскорее послать человека, знающего, куда сворачивать.
Дуня просит – чтобы благополучно избавиться от тихо бредящего человека.
Анета просит – чтобы только жил, прочее значения не имеет.
Кучер боится, что его самовольная благотворительная отлучка выйдет ему боком. Гриша просто намаялся за день и хочет спать. Дуне нужно доставить домой барыню в целости и сохранности – барыня, хоть и театральная, но добрая, не скупая, такую хозяйку нужно беречь, хорошее место найти нелегко. Анета твердит, что нельзя умирать тому, кого она с такой внезапной силой любит.
И навстречу выходит из переулка подвыпивший человек со страшным черным ликом. Кучер и Гриша сперва от такого дива шарахаются, потом понимают – это отставной придворный арап, доживающий век на берегу Карповки. Он знает, где тут найти и придворных истопников, и отставного камер-музыканта Подрезова, и дом государынина певчего полковника Петрова ему тоже известен.
Карета движется в указанную сторону.
Так чья же молитва была услышана?
Одна – из всех?…
* * *– Гришка, беги, зови людей!
Детина соскочил с козел и постучал в калитку.
В дому полковника Петрова не спали – очевидно, знали, что в этот вечер у него нет ни службы, ни концерта, и беспокоились – куда запропал. К калитке торопливо подошла большая женщина в платке, с ней – маленький мужичок с фонарем.
– Барина принимайте, – сказал Гриша и добавил со всей откровенностью двадцатилетнего верзилы: – Насилу довезли.
Женщина вышла на улицу, дверца кареты распахнулась, Гриша встал на подножку и начал выволакивать Андрея Федоровича. Дуня помогала, как могла.
Анета забилась в самую темную глубь.
Любовь оборвалась на взлете. А ведь даже поцелуя – и того не было, хоть единственного, чтобы в памяти сохранить!
И могла же, могла целовать милое лицо всю дорогу, всю долгую дорогу! Так нет же, стояла на коленях и бормотала, так что переплелись в узком пространстве два бреда предсмертно-любовных…
По дорожке от дома спешила женщина. Анете не требовалось подсказки, чтобы догадаться, кто это. Женщина была одета – значит, не ложилась, ждала. Ждала, любила, верила, тревожилась и надеялась, глупенькая, силой своей любви отвести беду, призвать Андрея Федоровича под супружеский кров!
Почему так бессильна любовь, подумала Анета, почему ее сила так мгновенна, а коли чуть продлится – то и падает в полнейшее бессилие?
Гриша как раз уже стоял у калитки с телом на руках.
– Туда неси, туда, – говорила большая женщина.
Та, что подбежала, приникла к Андрею Федоровичу, стала целовать.
– Отойди, барыня, мешаешь, – сказала ей большая женщина и, взяв за плечи, почти без усилия даже не оттащила, а словно переставила.
Дуня, выйдя из кареты, подошла.
– Совсем плох, доктор-немец велел батюшку звать, как бы беды не вышло, – сказала она, обращаясь к большой женщине, которая тоже была прислугой и тоже не имела права предаваться скорби, потому что кто-то и дело делать обязан.
– Как же он это, Господи? – спросила незнакомая товарка.
– В одночасье сгорел.
Они обменялись взглядами и обе мелко закивали.
Смерть Андрея Федоровича с этого мига для них состоялась.
И тут из кареты внезапно выскочила Анета. Она все глядела в спину Грише, уносившему Андрея Федоровича в незнакомый дом, и видела только эту спину, совершенно не замечая жмущуюся сбоку фигурку с тонким станом, в светлом летнем фишбейновом платье.
В руке у танцовщицы была зажата докторская записка – по сути, уже бесполезная, но сейчас она была единственной ниточкой, способной привязать Андрея Федоровича к жизни. Совершенно не сообразив, что кончик ниточки можно передать в надежную руку тяжеловесной женщины в платке, Анета побежала следом за Гришей, и забежала вперед, и протянула скомканную бумажку:
– Вот… Доктор велел принимать… К аптекарю послать…
– Да, да… – принимая записку, но плохо понимая ее смысл, отвечала жена Андрея Федоровича.
И тут обе женщины узнали друг друга.
* * *Когда обнаружилось, что сестра пономаря церкви Святого Матвея знакома с хозяйкой мелочной лавочки в Гостином дворе, а та, в свою очередь, – кума вдове придворного конюха Авдотье Куртасовой, которая уж не первый год надзирает за воспитанницами танцевальной школы господина Ландэ, – у Анютки глаза тут же загорелись. Самая бойкая и вертлявая среди ровесниц и самая отчаянная – росла без матери, она в тринадцать лет уже затосковала на Петербургской Стороне. Ее душа искала ветра и простора.
Анютка подольстилась к тетке, явила кротость и послушание неописуемые и променяла вольное житье на утомительные упражнения. Но как раз взаперти-то она и не тосковала. Перед ней раскрывалось точно такое будущее, как в апофеозах спектаклей – когда вдруг раскрываются небеса, и меж колонн и облаков принимаются летать греческие боги.
Главное же – она, как ей казалось, покинула навеки Петербургскую Сторону, самое безнадежное в городе место. Любая окраина казалась предпочтительнее – поди знай, в которую сторону примется расти молодой город. А Петербургская была тем брошенным гнездом, откуда он вышел и принялся жить веселой, суматошной жизнью, оставив ее прозябать.
Из мира почти деревенского, с огородами и близлежащими полями, с узкими и немощеными улицами, с переулками, которые по сырой петербургской погоде порой за все лето и не просыхали, так что в лужах жили утки, с жалким населением – по большей части отставным, Анютка мечтала попасть и попала в мир торжественно-прекрасный, с каменными чудесами, с великолепными, недавно построенными мостами, с каретами и статными всадниками в мундирах.
Она осваивала танцевальную науку с восторгом – было обещано, что воспитанницы и воспитанники будут танцевать перед самой императрицей Елизаветой Петровной. И это свершилось. Анютка сподобилась одобрительной улыбки государыни и ласкового слова!
Но теперь она уже звалась Анетой, знала немало слов по-французски и по-немецки, умела нарядиться и накраситься, в ее сундуке появились шелка и бархаты.
Благополучие несколько успокоило Анету, она даже стала навещать отца (раньше все ссылалась на запреты школьного начальства). На Петербургскую Сторону Анета выбиралась, когда Лизета имела возможность ее привезти или забрать, чтобы соседи увидели красивую карету с расписными боками и здоровенного кучера.
Однажды, торопливо всходя по откидным ступенькам, она краем глаза увидела знакомое лицо. Вспомнила имя – Аксюша, то ли племянница отставного камер-музыканта, то ли еще какая родня. Анета помнила лишь, что Аксюша была на год или на два старше нее, а дружбы они не водили. Она даже не была уверена, что Аксюша жила на Петербургской Стороне постоянно, помнила только – выдалось лето, когда они, совсем маленькие девочки, несколько раз ходили вместе в лесок по ягоду. Теперь бывшая соседка была хорошо одета и на вид – довольна и весела, очевидно, замужем. Аксюша тоже, вскинув темные глаза, узнала Анету. Несколько удивилась, но приветственная улыбка уже возникла на губах.
Обе спешили – да и говорить, собственно, было не о чем.
И вот – встретились.
* * *Мужичок с фонарем, поспешая впереди осанистого отца Василия, норовил светить батюшке под ноги – хоть она и Большая Гарнизонная, а ночью на ней черт ногу сломит.
Отец Василий на ходу оглаживал голову и бороду. Дело было привычное – поднятому среди ночи с постели, идти исповедовать и причащать умирающего. Дьячок нес за ним необходимое, в том числе и большое рукописное Евангелие.
У калитки ждала со свечой Прасковья.
– Сюда, батюшка, сюда… – повторяла она, как будто отец Василий впервые был у Петровых.
– В спальне, что ли? – спросил священник.
– Да, батюшка, да…
Он взошел по лестнице и встал в дверях.
– Отойди-ка, Аксюша, – попросил стоявшую перед постелью на коленях женщину. Она испуганно взглянула на строгого батюшку.
– Надо, Аксюшенька, – обратилась к ней из-за плеча священника Прасковья. – Не ровен час… а я уж Дашу к аптекарю послала с бумажкой…
Аксюша затрясла головой. Всем видом она давала понять – ни за что не отойдет от мужа, хоть при ней исповедуй.
Он уже был раздет, лежал под одеялом, а нарядный его кафтан, и зеленый камзол, и красные штаны, и белые чулки с башмаками – все это было брошено в углу, жалкое, как скомканные крылышки случайно прихлопнутого мотылька.
Мокрыми салфетками Анета и Аксюша спереди стерли пудру с волос Андрея Федоровича, и теперь стало видно, что они – темно-русые, завитые букли распрямились, и длинные пряди раскинулись на подушке, заползли на шею.
– Ну-ка, встань, сударыня, – приказал отец Василий. – Потом хоть до утра с ним сиди, а сейчас – пусти!
Прасковья, поставив свечу на уборный столик, наклонилась и силой подняла хозяйку.
– Веди ее прочь, – отец Василий шагнул трижды и навис над Андреем Петровичем. – Давно он без памяти?
– Таким и привезли, – ответила Прасковья.
Батюшка склонился над ним, замер, склонился еще ниже. Выпрямился.
– Веди, веди ее прочь!
То ли голос отца Василия невольно дрогнул, то ли Аксюшу осенило – но она кинулась к Андрею Федоровичу, распласталась по широкой постели, обхватила его руками и прижалась щекой к груди.
– Нет, нет! – заговорила она неожиданно громким и внятным голосом. – Сейчас Даша лекарство принесет! Отойдите, не троньте его!
Отец Василий поглядел на Прасковью и покачал головой.
– Твоя воля, Господи… Опоздали…
– Нет, нет, – продолжала утверждать Аксюша. – Какой вздор вы твердите, батюшка? Какой вздор? Сейчас принесут лекарство!
Отец Василий опять наклонился над постелью и неловко погладил женщину по голове.
– Встань, Аксюшенька, нехорошо. Пойдем, помолимся вместе…
– Я вам, батюшка, молебны закажу, сколько нужно, во здравие, Богородице, целителю Пантелеймону, всем угодникам! Господь не попустит, чтобы он умер! Это только злодеи помирают без покаяния! – убежденно воскликнула Аксюша. – Разве мой Андрюшенька таков? Да назовите, кто лучше него, кто добрее него?!
И вдруг вспомнила, отшатнулась от мертвого мужа, протянула к нему тонкую руку с дрожащими пальцами:
– Разве он – грешен? – спросила неуверенно. – Нет же, нет, он меня любит, он не мог!
Отец Василий поглядел на Прасковью – теперь уж он решительно не понимал, о чем речь.
Но Прасковья не пожелала объяснять, что умирающего хозяина привезла в карете всем известная театральная девка Анютка.
– Обмыть сразу же нужно новопреставленного, – сказал отец Василий, – на полу, у порога, трижды. Поди, поставь воду греть. Соломы охапку принеси – подстелить.
Прасковья кивнула, но с места не сдвинулась.
Священник не знал, чем бы еще помочь потерявшим всякое соображение женщинам. Ни Аксюша не рыдала по мужу, ни Прасковья – по хозяину, а было в их лицах что-то одинаковое – точно время тянется для обеих иначе, гораздо медленнее, и не скоро слова отца Василия доплывут по воздуху от его уст до их ушей.
– Что же ты? – спросил Прасковью отец Василий. – Разве не видела, что с ним? Хоть бы отходную прочитать успели…
Даже не вздохнула покаянно Прасковья – а продолжала глядеть на Андрея Федоровича и все еще сидящую рядом с ним Аксюшу в светлом, глубоко вырезанном платье с тремя зелеными бантами спереди и, по моде, с шелковой розой на груди.