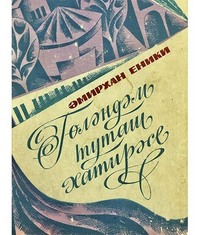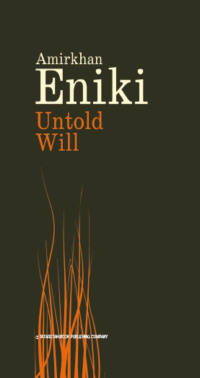Полная версия
Повести и рассказы

Амирхан Еники
Повести и рассказы
© Татарское книжное издательство, 2019
© Гайнуллина С. М., пер. с татар., 2019
© Гайнуллина Г. Р., сост., 2019
© Наследники, 2019
«Писатель, изменивший самосознание татар»
Есть люди, своими мыслями, взглядами, отношением к действительности способные изменить размеренный, однообразный ритм жизни. Без таких личностей, как Тукай, Дэрдменд, Еники, невозможно представить жизнь, тревоги и чаяния татар.
Амирхан Еники родился 2 марта 1909 года. Известно, что перед его рождением отец будущего ребёнка Нигметзян-ага купил Коран и предопределил будущее сына, подписав на святой книге: «Пусть дитя, которое придёт в мир, проживёт долго, станет учёным». Позднее писатель скажет: «…Специалистом, учёным, даже писателем стать нетрудно, но стать настоящим человеком – трудно. И если ты, благодаря таланту и сильному желанию, пришёл в литературу, не думай о славе и успехе, больше думай о читателе, тревожься о нём. Ты ему передай свои знания, свои верования, и он тебе поверит».
Амирхан Еники (1909–2000) – настоящий татарский интеллигент – прожил яркую жизнь великого человека. Всю свою жизнь он преклонялся перед интеллигентностью: «Мне довелось видеть старых интеллигентов. Например, я видел Джамала Валиди. Немного знал Гали Рахима, Фатиха Амирхана. Особенно мне были близки Сагит Сунчелей и Шариф Сунчелей. Они были очень просвещёнными людьми. В их поведении и манере общения – во всём чувствовалась особая культура. Ведь у интеллигентного человека не только внешность, но и душа должна быть красивая».
Если бы не существовало творчества Амирхана Еники, облик современной литературы был бы совершенно иным. Изменения в современной татарской литературе начинаются в годы Отечественной войны с прозы Амирхана Еники. Он – писатель, вернувший в шестидесятые годы татарской прозе её национальное лицо. Амирхан Еники – человек, одним из первых в сложную, противоречивую эпоху набатом известивший об основных жизненных проблемах нации: утрате языка, древних обычаев и ценностей, любви к родной земле, изменении отношения к красоте, в таких произведениях, как «Невысказанное завещание», «Родная земля» и других, увековечивший имя первого татарского национального композитора Салиха Сайдашева повестью «Воспоминания Гуляндам». Посвятив жизнь служению татарам, он в своих статьях-воспоминаниях восславляет имена многих великих личностей – Г. Тукая, Г. Ибрагимова, Х. Такташа, К. Тинчурина, Х. Туфана, А. Файзи, Б. Урманче и других. Амирхан Еники – один из первых литераторов, с тревогой размышлявших в своей публицистике о татарском облике нашей столицы: «В Татарской слободе возникает сначала движение просветительства, позже – джадидизма. Рождается новая литература и новый театр. Открываются новые типографии, с каждым годом увеличиваются татарские издания, наконец, друг за другом начинают выходить татарские газеты и журналы. Здесь живут и ведут свою священную работу передовые мыслители – наши учёные Шигабутдин Марджани, Каюм Насыри, Галимджан Баруди, Джамал Валиди. Здесь же начинают свою прогрессивную общественную деятельность Ибрагим Терегулов, Юсуф Акчура, Садри и Хади Максуди.
Наконец, мы не можем рассматривать творческую жизнь наших великих писателей и поэтов – Исхаки, Тукая, Амирхана отдельно от этой пёстрой, очень беспокойной слободы».
На вопрос: «А Вы не выбрали в одной красивой части Казани места для памятника себе?», писатель ответил: «До сих пор не приходилось ломать голову над этим вопросом, но уж если бы меня при жизни спросили: «Господин Амирхан, где поставить Вам памятник?», то я, конечно бы, указал гору Верхний Услон. Вокруг Казани нет места выше. Мне бы хотелось с такой большой высоты смотреть на этот «красивый и тесный» суетный мир…»
Своё отношение к писательству – его главной жизненной деятельности, литератор выразил коротко: «Писательство – дело чести». Творчество Амирхана Еники вызывает доверие, любовь, язык писателя восхищает и изумляет. Наконец, творчество А. Еники влюбляет в татарскую литературу. Дело нашей чести – донести до потомков красивое, яркое творчество великого писателя.
Книги А. Еники всегда на столе у Первого Президента Татарстана почтенного Минтимера Шаймиева. При содействии Минтимера Шариповича к 110-летию писателя изданы трёхтомник «Избранных произведений» Амирхана Еники, сборники на русском и английском языках, также аудиокниги, за что мы бесконечно благодарны нашему глубокоуважаемому Президенту.
Учёный-филолог Дания Загидуллина оценивает А. Еники как человека, изменившего самосознание татар. Данное издание – не просто признание замечательного творчества писателя. Хотелось бы, чтобы широкие слои читателей приняли его как часть жизненной философии, чтобы мысли и размышления, выделенные писательским пером, сумели заставить читателей ещё раз задуматься о смысле жизни и помогли определить верность своих жизненных ориентиров.
Гульфия ГайнуллинаЦветок мака
Одинокий цветок мака, растущий на дне широкой зияющей ямы, которая образовалась после взрыва бомбы, обратился к солдату, проходя мимо, остановившемуся на краю этой ямы:
– Приветствую вас, человек! Видать, издалека идёте, похоже, устали, ноги в пыли, лицо вспотело, присядьте хоть, отдохните… Вот так! Вы простите мою беззастенчивость. Очень давно не видел людей, всегда один да один! Хотя бы травка какая рядом росла! Вы видите: я нахожусь на дне ямы, вокруг только горы сухого песка возвышаются. Что там за краем ямы, какие цветы растут, какие птицы летают, какие червяки извиваясь ползают, кто проходит по дороге, – я ничего не вижу. Только иногда ко мне какой-нибудь жук скатится. Испугавшись голой бездушной ямы, бедняга, после долгих стараний вскарабкавшись наверх, уходит. Иногда какая-нибудь лягушка, обрушивая песок, с мучениями спускается ко мне. Но почуяв, что на жарком сухом дне ямы нет никакой влаги, быстро разворачивается в поисках выхода… Я рад и этому их недолгому появлению. И хотя моё жилище пустое и бездушное, я чувствую недалеко от меня живое дыхание жизни. Спасибо бабочкам! Иногда одна из них, кружась и размахивая нарядными крыльями, осторожненько сядет на меня своим мягким телом, пощекочет ароматными усиками моё лицо и, приласкав таким образом, улетит… Однако дни, когда приходят такие дорогие гости, либо встречи с любимыми друзьями случаются крайне редко, как правило, вокруг никого… Да, я одинок! Над моей головой – далеко, очень далеко лучистое небо… Дни напролёт я смотрю в это безграничное спокойное небо. Каждое утро я ожидаю восход солнца, глядя только на него, следуя за ним, я провожу свои дни. Оно тоже смотрит на меня, как будто светит для меня… А перед закатом, прежде чем спрятаться за этим песочным домом, его последние лучи, поиграв на моём ярко-алом лице, тихонько гаснут, словно утешая меня перед расставанием. Но такое тёплое наслаждение, такие радостные дни не бывают постоянно… Временами лучистое небо покрывается тучами, с небес раздаётся тяжёлый рокот, беспрерывно сверкают молнии, разрезая чёрно-зелёные тучи, с утра до вечера без остановки непрерывно льёт дождь… Я сижу, склонив голову, в своём укромном уголке. Мир кажется опустевшим… Лишь откуда-то, недалеко от меня, слышно, как машут тяжёлыми крыльями пролетающие мокрые вороны.
Вот так проходят мои дни. Только вы не подумайте, мол, этот глупец жалуется на свою жизнь. Вовсе нет! Я ведь жив! Как же я, будучи живым, могу жаловаться! Но вас, наверное, удивляет место, где я расту? Думаете, наверное: «И кто это на дно ямы посадил мак?» Однако внимательно посмотрите вокруг себя! Что видите? Ужасающая разруха! Всё вокруг заросло лебедой, крапивой, полынью, чертополохом… Среди этой травы груды кирпича, чёрные обгорелые поленья, одинокие, печально торчащие печные трубы, обломки посуды, страницы из книг, обрывки изношенной одежды и ещё много всякой всячины… Если тщательно поискать, можно найти детскую соску… Всё это следы прошедшего по этой земле ужасного бедствия!.. Вы знаете уже, что это ужасное бедствие, это немилосердное зло пришло на нашу землю с запада.
Да, на этой земле был маленький, аккуратный дачный посёлок. Мы – маки, разные цветы, душистая сирень, черёмуха, яблони, малина, вишни – были его живописным украшением, его сладкими плодами. Вместо этой ямы, мы, цветы мака, когда-то росли на большой круглой клумбе… В самую её середину он – пришедший с запада хищный варвар – сбросил тяжёлую бомбу. Нас выбросило из огненной горы вместе с горящей землёй и пеплом. Это произошло в одно мгновение… Позднее пыль и пепел рассеялись. Вздрогнувшее было солнце снова излучало свет, будто ничего не случилось. Я его увидел уже со своего нового места… Обломки бомбы, возможно, не успели ещё упасть на землю, а я – единственное маковое семя, слетел обратно на своё место, сюда, на дно этой ямы. Я жив, я снова в объятиях земли, на том месте, где родился и рос! Не говорил, что комочки земли жёсткие, не жаловался на то, что не хватает влаги, – набухал, прорастал и пустил корни. А теперь видите: расту в виде красивого цветка! Не сумели они извести наше нежное, слабое племя маков… Жалкие мерзавцы!
Человек, почему вы так восхищённо смотрите на меня? Вы меня смущаете… Не скрою, ваш взгляд так желанен мне… И я бесконечно рад тому, что вы стоите там наверху. А вы не поленились и спустились ко мне. Вот вы наклоняетесь ко мне, вот дрожащими руками осторожно пытаетесь тронуть меня! О человек, благодарю вас, благодарю!.. Ваши следы на песке, ваше великодушное посещение, ваше тёплое дыхание на моём лице каждый раз будут вспоминаться как самый дорогой след. С этой поры я буду смотреть то на солнце, то на ваши следы. Каждым листочком моего цветка я буду желать вам остаться живым, вернуться на родину, к своим садовым цветам… Если бы вы знали, как мы, цветы, любили людей, как любили быть среди них! Когда-то из-за белых колышущихся занавесок на окнах мы радостно слушали звучание их голосов, радостный смех, мелодичное пение. Как счастливы мы были, когда белые руки красивых девушек срывали нас и прикрепляли к страстно колыхающейся груди! Мы не могли налюбоваться на то, как на весёлых детских праздниках по садовым тропинкам носились малыши, держа в руках белые булки с маком… Да, да, я верю, что жизнь во веки не кончится, я счастлив, что цветы никогда не расстанутся с людьми, и я вовсе не жалуюсь на своё одиночество!
Человек, вы собираетесь уходить! Мне тяжело расставаться с вами… Вы простите меня… Это только временно… Да, вы идите! Счастливого пути вам! Легко проходите дальние пути! Вы идёте на запад. Вас там ждут кровавые битвы, на каждом шагу, возможно, будут встречаться убитые тела, придётся проходить мимо обгорелых брёвен. Однако я – ненасытившийся красотой мира, желающий украшать его одинокий мак – пожелал бы вам, чтобы за каждым пройденным вами шагом оставались цветы… Пусть цветы, возникшие из пепла и крови, приведут вас к вечной славе и счастью! Прощайте, человек, прощайте. Светлый путь вам!
Красота
(Со слов одного старого литератора)
Это случилось давно, очень давно. Но и сегодня у меня стоит перед глазами, как мы, три шакирда[1], сев на одну лошадь, отправились из уездного медресе[2] домой. Точнее, мы с Гилемдаром возвращаемся в одну деревню – Чуаркуль, а Бадретдина должны оставить в деревне Ишле, находящейся на нашем пути. И ещё хочу сказать, что нас ленивой рысью везёт мерин отца Гилемдара. В деревне мы жили по соседству. По этой причине Гилемдара и меня забирать домой одной весной присылают нашу лошадь, следующей весной – их лошадь.
А Бадретдин – наш случайный попутчик. Хотя мы в медресе собирались и разъезжались в одно время, однако раньше нам не приходилось возвращаться вместе с ним. Бадретдин не любил быть кому-нибудь обузой. Как только учёба заканчивалась, он на базаре разыскивал односельчан, чтобы ехать с ними, а то и пешком топал тридцать вёрст в свою деревню. В этот раз мы, можно сказать, сами попросили его, то есть уговорили, возвращаться вместе.
Бадретдин был самым бедным шакирдом в нашем медресе. Из деревни ему никто не помогал. Только изредка кто-нибудь из приехавших на базар из Ишле односельчан передавал ему от матери завёрнутый в холщовую тряпку пшённый хлеб или кусочек масла. Бадретдин и это принимал, стесняясь и говоря: «Ну зачем это? Скажите маме, что я не голодаю, пусть она от себя не отрывает!» И он почему-то это масло ел, отщипывая шилом. «Почему ты так делаешь?» – спрашивали шакирды, на что Бадретдин со смехом отвечал: «Если шилом есть, то его надолго хватает».
На родине, как говорится, воробей не умрёт, так и наш Бадретдин учился с большими мучениями, был ограничен в деньгах. Зато как хорошо он учился! Это многократно проверено, что бедный студент, живя в беспощадной нужде, как правило, оказывается очень талантливым.
Ему иначе нельзя. Богатый студент даже с кочаном капусты вместо головы сколь угодно долго будет числиться в медресе. А если плохо учится бедный студент, его из медресе выставят в первую же зиму. К тому же, только очень хорошо учась, бедный студент может хоть немного облегчить своё материальное положение.
Вот и нашему Бадретдину, выражаясь языком своего времени, немного перепадало от богатых. Будучи способным и старательным студентом, он помогал учителям делать всякую работу, помогал готовить уроки отстающим ученикам, красиво переписывал для больных молитвы из Корана. Словом, без дела не сидел. Однако и работу, и помощь сам он никогда не просил. Мы ни разу не видели, чтобы его лицо выражало что-то вроде: «Я ведь бедный, вы обязаны мне помочь».
По природе своей он имел живой и в то же время ровный и терпеливый характер. Он не был ни заносчивым, ни льстивым, с добрыми был добрым, а со злыми не общался – держался от таких в стороне. Интересно ещё то, что он, как бы беден ни был, никогда ничего ни у кого не любил просить. Обычно у него шакирды просили то одно, то другое, потому что в его самодельном кожаном сундучке, похожем на короб, было всё необходимое для жизни в медресе – и иголка, и нитки, и напёрсток, и шило, и перочинный ножик, и щипцы, и зеркальце, и различные карандаши, и бумага с тетрадками, даже клей и воск хранились. Как он это всё собрал? Вероятно, всё из-за той же бедности, чтобы ни от кого не зависеть, он, ограничивая себя в питании, всё это и приобретал. Конечно же, он нуждался в толстых дорогих учебниках. Однако те книги, что имел, он бережно оборачивал фольгой, чтобы сохранить в чистоте обложки, и любовно хранил их.
В те предреволюционные годы среди шакирдов сильно возросло увлечение новой литературой. Для нас книги стали необходимыми, как хлеб!.. Каждый шакирд переписывал в толстые тетради песни, стихи, даже отрывки из романов. Каждый второй писал стихи. Многие сходили с ума по Сагиту Рами[3]. Ему подражали, старались походить на него даже внешне, учили его стихи наизусть. Конечно, для нас всех выше, всех ближе был Тукай. Его больше переписывали и с любовью читали.
Болезнь стихами заразила и Бадретдина, но он никому своих стихов не показывал и не навязывал. Его трудно было упросить прочесть свои стихи. Но если он читал свои стихи, было видно, как сильно отличаются они от жалобного, слезливого творчества остальных шакирдов. Это были изложенные простым, ясным языком описания природы, либо попытки изложить свои жизненные философские наблюдения в виде двустиший. Вот такой странный, таинственный и симпатичный парень был наш однокашник Бадретдин!
Ладно, заговорился я, а ведь мы втроём в плетёном тарантасе весело едем домой. Дорога влажная, непыльная, по ней, из-за колик в животе издавая звуки «гырт-гырт», размеренно трусит наш сивый мерин… Недавно, в середине мая, пролились тёплые дожди. И теперь сразу всё вокруг двинулось, поднялось и растёт: потянулись, проступая как юношеские усы, ярко-зелёные ростки ржи; молодая трава на непаханной целине закрыла прошлогоднюю сухую траву, даже успела кое-где цветочки распустить… Вон, вдоль дороги видны первые розовые «колокольчики» вьюнков… Что и говорить, это самое чистое, нежное и очаровательное время в природе!..
Для нас, всю зиму сохнувших в медресе, этот свободный, светлый, тёплый мир был исцеляющим блаженством, мы не могли надышаться им, досыта насладиться его ароматом, наглядеться на него. Мы часто слезали с тарантаса, чтобы ноги радовались ощущению теплоты земли; бегали, догоняя друг друга, срывали цветы. Бадретдин нашёл дикий лук, и мы начали рвать и жевать его. Я собрал длинные растения с четырёхугольным стеблем, которые в деревне называли «сладкоежки». И, содрав с них кожицу, мы их тоже поели. Бадретдин сказал, что башкиры это растение называют «плётка зятя», потому что, когда на его концах раскрываются синие цветочки, оно и впрямь становится похожим на плётку с бахромой.
А наш длинноногий Гилемдар всё бегал в поисках суслика, остановившись и соединив ладони, даже попытался посвистеть, но хитрый зверёк, видно, поняв, что это свист шакирда, не вылез из своей норки и не присел на задние лапки, приподняв свои ушки.
…Всю дорогу нас сопровождали жаворонки. Как будто бы на нас беспрерывно лилась мелодия с бездонного сияющего ясного неба. А вы знаете, в чём волшебство песни жаворонка?.. Когда раздаются трели жаворонка, сначала, вы, наверное, это испытывали, по земле разливается лёгкое затишье. Будто бы вся природа, всё живое, как говорят литераторы, замирает, заслушавшись только его одного, погружаясь в радостное и грустное приятное блаженство. Другое волшебство в том, что, когда поёт жаворонок, мир как-то удивительно распластывается, становится шире, светлее. Будто от того, что в вышине находится эта маленькая птаха, земля становится безграничной, как само небо, спокойной и светлой.
Не знаю, поют ли в это время другие птицы, – не обращал внимания, но голос одной птицы, несмотря на то, что над всей землёй беспрерывно звенят только песни жаворонков, врывается в уши. Это кукушка! Созданная природой для того, чтобы напоминать людям о чём-то важном, невидимая глазу странная птица. Когда мы проезжали мимо, из тёмного леса, стоящего довольно далеко от дороги, послышался её предупреждающий голос, заставивший нас умолкнуть.
Вот так, в хорошем настроении весело преодолевая путь, мы, наконец, приблизились к деревне Ишле, расположенной в ровной низине прямо напротив гор с красными склонами. Ещё перед выходом в путь Бадретдин пригласил нас выпить чаю в Ишле. Мы, конечно, не заставили себя уговаривать, для шакирдов зайти к однокашнику на чашку чая и отдохнуть – это закон.
Когда добрались до деревни, Бадретдин взял вожжи в свои руки и, свернув вправо с основной дороги, направил лошадь по поросшей гусиной лапчаткой земле к самой крайней улице и вскоре остановил лошадь у дома, одиноко стоявшего в стороне.
Мы знали, что едем к небогатым людям, но не ожидали увидеть до такой степени бедное хозяйство. Да и хозяйством это нельзя было назвать. В голом поле стоял старенький домик, наполовину вросший в землю. Полусгнившая соломенная крыша, почернев, стала превращаться в навоз. Как будто от её тяжести, некоторые брёвна домика начали выпячиваться, окна и дверь покосились, а стёкла окон от времени приобрели зеленовато-синий цвет… Ворот нет, забора нет, только протянуты два ряда ограждения из жердей со стороны улицы и поля… Двор зарос полевой травой. Там, треща, прыгают кузнечики. Значит, у них нет никаких животных.
Мы, поражённые, старались не показывать Бадретдину своего удивления. Проехав по двору, на котором не было следов от телеги, мы остановили лошадь возле хлева, крыша которого была из хвороста. Из дома вышел невысокий рыжебородый мужчина с худым измождённым лицом. На нём была льняная рубаха и хлопчатобумажные штаны с большими заплатами на коленях, на голове – стёганная шапка без меховой оторочки, на ногах – домотканые суконные обмотки и старые лапти. Он подошёл к тарантасу, поздоровался с Бадретдином, сказав ему: «Сынок!», затем молча поздоровался с нами, протянув обе руки, и тут же направился к лошади, начал её распрягать…
Бадретдин, подняв свой сундучок, поспешил в дом. В дверях дома появилась женщина, только она почему-то повернула назад. Это, наверное, была мама Бадретдина, и нас удивило, что она, показавшись в дверях, не вышла к нам навстречу.
Пока распрягали лошадь, Бадретдин вынес из дома ведро воды, ковшик и полотенце. Мы, стоя на траве, помылись, поливая друг другу из ковшика. В голову пришла мысль: «Кумгана[4], видно, у них нет».
У нас не находилось ни слов, ни смелости как-то беспечно это обсуждать. Однако сам Бадретдин был спокоен и не показывал никакого смущения или стеснения.
Мы умылись и, поздоровавшись, вошли в дом. Отец Бадретдина, стоявший в сторонке, очень просто сказал: «Давайте, шакирды!»
Темноватая внутренность дома так же, как и его внешняя часть, была изношенной и старой. Однако, как бы он ни был изношен, его брёвна оставались всё ещё жёлто-коричневыми, а видавший виды, истоптанный пол был очень чистым… Основную часть дома занимало большое саке[5], покрытое сукном, две табуретки, одна скамья и возле печи стояла ещё одна тумба для сидения. Вот и вся обстановка дома. Возле печи повешена старая тряпичная занавеска, оттуда слышно, как кто-то щиплет лучину.
Первый человек, кого мы увидели, войдя в дом, был сидящий в центре саке старик, он сидел очень прямо, уставившись взглядом в стену. Он был, как Хозур Ильяс[6], с белоснежной бородой и в белой одежде, и только на голове у него была превратившаяся в блин чёрная тюбетейка.
Мы протянули руки, чтобы поприветствовать его. Дед не шелохнулся. Бадретдин поспешил сказать:
– Дедуля, шакирды с тобой поздороваться хотят.
– А, вот как! Да благословит вас Всевышний! – оживился дед и протянул нам свои сухие, большие, жёсткие руки.
Глаза его, хотя и открыты, но были полностью слепыми. Мы, присев, помолились, затем, по-ученически положив руки на колени, примолкли. Начать разговор нам самим, естественно, было трудновато, как будто кто-то постоянно связывал язык. Но, удивительное дело, хозяева и сами были безмолвны. Мы очень быстро почувствовали, что в этом доме много не говорят. Дед, застывший с прямой спиной, погрузился в свой внутренний мир. Бадретдин ходил туда-сюда, словно хотел сказать что-то, но не мог найти слов. Его отец немного посидел на тумбе у печи, разглядывая нас, затем принялся накрывать на краю саке чай. Постелил старенькую льняную скатерть, достал с карниза печи три чашки, у которых ручки либо были приклеены замазкой, либо уже отсутствовали, маленький нож, сделанный из косы, половину завёрнутого в тряпку каравая хлеба, молоко в деревянном ковшике.
Бадретдин достал из своего сундучка пару горстей сахара и высыпал их на середину скатерти. Вскоре за занавеской кто-то тихо сказал: «Сынок, готово!» Бадретдин вынес оттуда самовар, у которого и носик, и ручки были залатаны оловом.
Затем Бадретдин велел нам сесть на саке, скрестив ноги. После этого была подана яичница в сковороде на треножнике. Мы к еде не притрагивались, ожидая, когда сядут хозяева. Однако дедушка не двинулся с места, а дядя не встал со своей тумбы. Тогда Бадретдин повернулся в сторону занавески и очень мягко сказал:
– Мама, выйди уж, сама разлей нам чаю!
– А папа? – тихо спросили из-за занавески.
– Папа? Нет, лучше ты сама, – ответил Бадретдин, как-то искренне упрашивая.
За занавеской помолчали, затем к нам вышла женщина в льняном платье и надетом поверх него таком же фартуке, в лаптях и чулках и, прикрывая краем ситцевого платка лицо, и, опустив голову, села за самоваром.
Когда я взглянул на неё, моё сердце содрогнулось. Вернее, не скрывая скажу, меня пронзило чувство брезгливости: и лицо, и глаза несчастной женщины были полностью изуродованы следами когда-то перенесённой оспы. Это трудно описать, язык не поворачивается, но не могу не сказать, что левый глаз у неё полностью был прикрыт, а правый так уродливо увеличен, что в этом, смотрящем сквозь завесу слёз, без ресниц и без бровей глазу изнутри как будто отражалась вся душа бедняжки. Можно сказать, что этот незакрывающийся, в грустных слезах глаз – единственное зеркало её оголённой души!
После пережитого чувства брезгливости и жалости в голову пришла мысль: как это Бадретдин осмелился показать нам свою несчастную мать? Мы ведь обычно стараемся не показывать своих больных и уродливых родственников. Даже мать, будь она вот такой, не осмелились бы, постеснялись бы показать чужим. Бадретдин совсем не видит этой сложной ситуации, или не понимает? Или, видя и понимая, умеет глубоко прятать?
А женщина между тем, разлив чай по чашкам, протягивала их нам, пряча при этом лицо за самоваром. Мы, не поднимая головы, молча принялись пить чай. А Бадретдин угощал нас:
– Давайте, шакирды, пейте чай, кушайте! – И хоть бы тень ожидаемого мной смущения или стыда была заметна в его голосе!
Попробовав яичницу и выпив по две чашки чая, мы прикрыли свои чашки. Бадретдин, незаметно вздохнув из-за бедности угощения, резко встал на ноги и сказал: