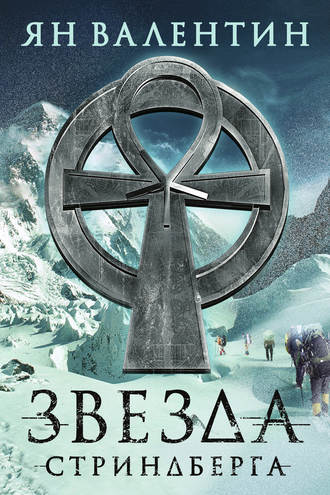
Полная версия
Звезда Cтриндберга
В то же утро ТВ-4 занималось исключительно асаитами, а государственное телевидение включило в утреннюю программу беседу с двумя тетушками из «New Age»[9]. Те вежливо пояснили, что асаиты приносят в жертву исключительно фрукты и цветы, иногда хлеб, и что асаитами называть их неправильно, правильнее было бы «старообрядцы». Потом объявился профессор-криминолог и призвал зрителей не делать поспешных выводов. Он многозначительно напомнил, что большинство убийств происходит среди знакомых и родственников. Потом был прогноз погоды.
В редакции «Далакурирен» настроение было хуже некуда. Так хорошо начиналось, а теперь их оттеснили куда-то даже не на второй, а на двадцать второй план. Асаитское убийство? А слово-то такое вообще существует – асаитское? И кто и когда видел хоть одного поклонника асов в Фалуне? Или, скажем, в Грюксбу или Бенгтсхедене?
Стокгольмский практикант вместе с другими репортерами оборвал все телефоны в полиции – нет ли каких новостей в следствии? А полицейские ругались на чем свет стоит по поводу этой идиотской публикации – дурацкие стихи, Нифльхеймр, Настранд… сплошная хренотень.
На следующее утро гостелевидение решило для разнообразия внести в дискуссию немного научного скепсиса. Им удалось выковырять Эрика Халла с дачи под Фалуном и самолетом доставить его в Стокгольм.
Рядом с Халлом на диване, между двумя ярко-красными подушками, сидел какой-то потертый тип университетского вида, Дон… как его там? Тительман? Практикант перемотал запись на своем компьютере, чтобы удостовериться. Точно, Дон Тительман, профессор кафедры истории в Лундском университете.
Эрик Халл опять описал свое странное погружение в затопленную шахту. Практикант с пятого на десятое промотал немыслимо длинные рассуждения историка – что-то там об увлечении нацистов древнескандинавской мифологией, потом об обществе Туле[10], затем в его рассуждениях возник какой-то Карл Мария Вилигут…
Скучища смертная.
Практикант выключил компьютер и, ничего хорошего не ожидая, пошел на утреннюю планерку.
4. Бубе
Единственным человеком на земле, кого Дон Тительман любил безоговорочно и безгранично, была его бабушка, jiddische Bube[11]. Она первая приняла его всерьез. Он и сейчас помнил, как гордился, что именно его, и никого другого, она выбрала в наперсники. Было ему тогда восемь лет.
Бабушкин деревянный дом, где он обычно проводил лето, пах нафталином, непроветренным гардеробом и гниющими водорослями. Родители обычно подбрасывали его бабушке в Бостад уже в начале июня и без большой охоты забирали к началу занятий.
Дом разваливался. Краска на фасаде облупилась, а сад медленно покрывался гниющими яблоками и сливами. Их никто не собирал – Дон ленился, а у бабушки болели ноги.
В последние годы она даже не могла подняться по лестнице, и второй этаж был в полном его распоряжении. Несмотря на годами не вытираемую пыль и забитые окна, спать там было лучше, чем внизу, – по ночам бабушка не находила себе места.
Его спальня была рядом с лестницей. Каждый вечер начинался один и тот же ритуал – скрип рассохшихся полов, потом горестный вздох. Вздох означал, что Бубе села на вельветовый диван и растирает шрамы и рубцы на сморщенных икрах. Потом опять скрип паркета, опять вздох… и, убаюканный этим бесконечным ритмом, он засыпал.
Она попала в Равенсбрюк в июле 1942 года, когда еще только начинались медицинские эксперименты на заключенных. Эсэсовские врачи хотели проверить эффективность сульфаниламида при инфицированных огнестрельных ранениях. Решение проблемы могло существенным образом сказаться на боеспособности армии, поэтому эксперимент решили максимально приблизить к реальным условиям. Первыми подопытными кроликами стали пятнадцать заключенных, все мужчины.
Врачи разрезали камбаловидную мышцу от ахиллова сухожилия до подколенной ямки и в открытую рану втирали культуру анаэробных бактерий, возбудителей газовой гангрены. Культуру бактерий получали из Института гигиены Ваффен СС. Мышцу отрезали у подколенной ямки, чтобы сохранить возможность ампутировать конечность в случае распространения гангрены.
После этого рану присыпали сульфаниламидом, зашивали и наблюдали, что будет. Но эксперимент провалился. Раны заживали слишком быстро – ничего общего с тем, что происходит в боевой обстановке на фронтах.
Тогда выбрали новую группу испытуемых, на этот раз женщин в возрасте до тридцати лет. В их число попала и Бубе, бабушка Дона. Врачи концлагеря делали такой же, как и раньше, глубокий надрез вдоль задней поверхности голени, но на этот раз, чтобы воссоздать реальную картину фронтового ранения, в рану втирали не только раствор с бактериальной культурой, но и осколки стекла, землю и стружку. На этот раз эксперимент удался. По крайней мере, частично.
Нога у Бубе распухла от крови и гноя, она лежала в бреду, даже не слыша, как другие участницы эксперимента кричат от боли. Но сульфаниламид сделал свое дело, и через пару дней выяснилось, что никто из женщин от инфекции не погибнет.
Доктора пришли к выводу, что эксперимент все еще недостаточно реалистичен. Старшие врачи, Оберхаузер и Фишер, поехали в Берлин на конференцию, чтобы обсудить неудачу с коллегами.
Высокие специалисты пришли к выводу, что осколков, земли и стружки мало. Надо остановить кровоток в конечности. При фронтовых ранениях очень часто повреждаются крупные сосуды. А когда мы вносим анаэробную инфекцию в ткань с нормальным кровоснабжением, решили эксперты, приток кислорода с кровью мешает распространению гангрены. Это не реалистично!
Кто-то предложил дать по ногам испытуемых очередь из пулемета – уж тут-то никто не упрекнет в недостаточной реальности эксперимента. Но эту идею, поразмыслив, отвергли – невозможно достичь совершенно одинаковых пулевых ранений у всех женщин. Значит, чистоту эксперимента легко поставить под сомнение.
Наконец кому-то пришла в голову блестящая мысль наложить жгуты на голеностопный сустав и под коленом и таким образом ограничить доступ крови в изрезанную голень – тем самым будут созданы все предпосылки для развития гангрены.
У пяти подопытных из группы Бубе так и произошло – гангрена быстро распространилась на всю ногу и выше. Это были молодые и здоровые двадцатилетние девушки, но через несколько суток все было кончено.
Одна из них лежала на койке рядом с Бубе, и бабушка рассказывала, как нога девушки буквально на глазах распухала от гноя. К утру кожа на ноге была изъедена язвами, а гангрена уже пожирала бедра и нижнюю часть живота.
Даже если врачи СС дежурили бы всю ночь, ампутировать ногу они бы не успели. Утром были сделаны последние медицинские записи, и девушку увезли из палаты, чтобы застрелить. Для Бубе было shreklehen zach, особенно страшно, что она даже не пыталась вступиться. Более того, она почувствовала облегчение – такой жуткий запах исходил от несчастной.
К концу осени 1942 года опыты с сульфаниламидом и гангреной врачам, очевидно, надоели.
Теперь они решили начать эксперименты в области пластической хирургии. Была поставлена цель – разработать методы восстановления внешности солдат, вернувшихся с войны после обезображивающих ранений. Солдаты рейха имеют на это право.
Работали сразу по нескольким направлениям – от попыток трансплантации мышц и костей до длительного и обстоятельного наблюдения за заживлением переломов и поврежденных нервов.
Бубе и другие оставшиеся в живых после сульфаниламида женщины пригодились и тут.
Сначала у Бубе вырезали ленты мышц до самой фасции – важно было убедиться, может ли восстановиться мышечная ткань. Врачей постигло разочарование – оказалось, нет, не может.
Потом ей сломали большеберцовую кость в четырех местах, чтобы посмотреть, насколько быстро она срастается. Медсестры тщательно загипсовали перелом. Через несколько недель гипс сняли, убедились, что заживление перелома идет хорошо, и кость сломали снова – было принято решение продолжить эксперимент.
Вначале кололи небольшие дозы морфина, а потом, когда в Равенсбрюке положение становилось все более неопределенным, про обезболивание забывали. Но ей все равно повезло, ей выпала удача, a zach mazel, она часто это повторяла: «Мне выпала удача».
Одной девушке вырезали лопатку – хотели что-то там пересаживать. После этой операции она никогда больше не могла поднять руку. Другой ампутировали руку вместе с ключицей, третьей произвели экзартикуляцию нижней конечности – вычленили ногу из тазобедренного сустава. Одной польке, Бубе сама это видела, убрали обе скулы.
Все эти эксперименты, как потом было доказано на Нюрнбергском трибунале, никакой медицинской ценности не имели.
В последнюю военную весну в лагере появились белые автобусы Фольке Бернадотта[12]. Бубе опять повезло – на спине ее арестантской робы мелом нарисовали большой крест, увезли в Падборг, оттуда – в Эресунд, а 26 апреля на носилках внесли на борт парома в Хельсинборг. Ей было двадцать восемь лет.
Прошло три года, прежде чем она начала самостоятельно передвигаться, но страшные рубцы на ногах остались на всю жизнь. Восьмилетний Дон как-то пощупал эти узловатые наросты и подумал, что бабушкины ноги похожи на умирающие деревья.
На следующее лето все продолжалось по заведенному порядку – яблоки гнили в саду, а Бубе рассказывала на чудовищной смеси идиш и шведского. Она рассказывала, а он слушал, потому что он никого так не любил, как бабушку.
Она называла его mayn nachesdik kind, мое сокровище, моя радость, а немцы у нее были jener goylem, нелюди, существа без души.
Каждый ее рассказ острым осколком врезался в детскую память Дона. Но странно, как глубоко его ни трогали ее рассказы, вовсе не они оставили самое страшное воспоминание об этих летних каникулах в бабушкином, наспех построенном в начале пятидесятых, доме.
Больше всего его поразило и испугало другое.
На втором этаже он, как-то шаря в комоде, наткнулся на спрятанную бабушкину коллекцию. Там были несколько кожаных футляров с эсэсовскими сдвоенными рунами «зиг» (победа), кинжал с «волчьим крюком», несколько колец с черепом. Под ворохом этих нацистских сокровищ лежала хрустальная тарелка с выгравированным «черным солнцем» Гиммлера – двенадцатилучевой свастикой. Эти лучи, изогнутые как щупальца, тянулись к Дону, словно хотели засосать его внутрь. Он чуть не потерял сознание.
В том же ящике он нашел старые проспекты аукционов – некоторые экспонаты помечены красными чернилами. Дон так и не решился спросить Бубе, зачем она принесла все это в дом… к тому же он был почти уверен, что ответа на этот вопрос у бабушки нет и никогда не было.
Дома, в Стокгольме, Дон ничего не рассказывал ни о бабушкиных историях, ни о ее странной коллекции.
Он, правда, записал несколько ее рассказов в блокноте, полученном от учителя начальных классов, но никогда и никому не давал читать эти записи, а осколки врезались в память все глубже и глубже.
В то лето Дон отказался ехать в Бостад. Ему исполнилось одиннадцать, у него только что родилась сестренка, и он то ли не хотел, то ли боялся остаться наедине с Бубе и ее страшным комодом. Родители поворчали, но в конце концов оставили его одного в вилле в Эншеде, вручив собственный ключ. Так и получилось, что именно он, а не родители, подошел к телефону, когда позвонили из больницы в Сконе и сообщили, что бабушка умерла.
Странно, после этого о Бубе никто не говорил. Ее халупу быстро продали, и отец Дона никогда не упоминал о комоде или коллекции нацистской символики. Похоже было, что отец именно теперь, когда не стало Бубе, решил полностью избавить семью от прошлого. Он запретил детям читать книги о войне, а если шла военная программа, тут же выключал телевизор.
Тишина, возникшая после ухода Бубе, разрасталась и начала давать метастазы. Вилла в Эншеде погрузилась в молчание, не было слышно ни слова – только звяканье столовых приборов и короткие фразы вроде «Передай, пожалуйста, соль».
У Дона было такое чувство, что он тонет. При первой же возможности он съехал и начал жить своей жизнью.
Конечно, если вспомнить рассказы Бубе, выбор его мог показаться странным, но сразу после гимназии он поступил на медицинский факультет. Может быть, ему просто хотелось заняться чем-то конкретным; он слишком легко погружался в мир мечты и терял всякие связи с реальностью.
Пятилетний курс он прошел за два с половиной года. У Дона была феноменальная память: едва заглянув в книгу, он мог цитировать ее страницами. После интернатуры он попытался получить специализацию по хирургии, но, взяв в руки скальпель, упал в обморок. Далее настала очередь психиатрии, и тут-то он постиг важную истину: существуют препараты, которые утоляют боль от осколков в памяти.
Для начала он попробовал небольшие дозы снотворных и транквилизаторов, но через пару лет перешел на бензодиазепины и морфин. К тридцати годам зависимость стала настолько серьезной, что ему пришлось уволиться из отделения психиатрии Каролинского университетского госпиталя.
То, что в середине девяностых он получил работу в больнице в Карлскруне, было просто чудом. Там настолько нуждались в специалисте, что не стали проверять его прошлое. Именно в этом городе, на площади Гальгамаркен, пасмурным августовским днем, он встретил коричневорубашечников из национал-социалистского фронта.
До этого он читал в местной газете о юнцах, встречающих друг друга нацистским «хайль» и кричащих о «жизненной силе» шведского народа. Но лицом к лицу он увидел их впервые.
Неонацисты раздавали брошюры с невинным снопиком Васы[13] ярко-желтого цвета, но на флагах красовалась свастика. Двойные молнии, железные кресты и германские орлы развевались в небе над провинциальным городком в Блекинге, а с одной из растяжек к нему тянулись щупальца черного солнца. Графический символ, подумаешь… но на него в тот день он произвел впечатление разорвавшейся бомбы.
Он опустился на траву. Сердце разрывала невыносимая боль – детские страхи, оказывается, никуда не делись, они жили с ним все эти годы. Весь его мир рухнул.
5. Медный купорос
Стокгольмский практикант втянул голову в плечи и, глядя в пол, пробежал обходным путем мимо туалета, чтобы не идти через коридор под взглядами репортеров.
Утро было мучительным. Первый камень бросил всем известный зубр из редакции криминальной хроники – тот самый, который на планерках всегда сидел, полуотвернувшись от стола.
– Мне стыдно, – воскликнул он с пафосом, потрясая вымученными практикантом четырьмя колонками для вчерашнего номера.
И тут все как с цепи сорвались. Стыдно стало всем. Жалкая компиляция! Где его собственные предположения? Почему нет журналистской версии? Почему он не нашел хороший источник информации в полиции? Почему он не разработал след неонацистов и поклонников асов? И почему, почему, почему он не взял интервью у Эрика Халла?
Невозможно было?
Ну да, конечно, совершенно невозможно… только не далее как сегодня утром этот ныряльщик как миленький сидел в телестудии. Так что не так уж невозможно, или как?
Практикант изучал свою чашку с кофе и не решался сказать ни слова в свою защиту – боялся, что голос сорвется. А в довершение всего еще и эта тетка из отдела семейной жизни, вечно с сигаретой, с табачным бронхитом… она начала что-то там хрипеть, как это все постыдно и несерьезно – неопытному практиканту поручили отслеживать самое сенсационное событие в стране, вы, конечно, знаете, даже бесплатные газеты в Стокгольме и то дали больше информации…
– А ведь у них даже и репортера своего в Фалуне не было! – закончила она патетически и закашлялась.
Ускользнув как от насмешников, так и от доброжелателей, практикант закрылся в своей комнате и упал в кресло. У него было такое чувство, что его сейчас вырвет.
Он долго дышал носом, потом принялся еще раз читать вчерашнюю статью. Неужели и в самом деле так плохо?
Он же не виноват, что никто не хотел с ним разговаривать!
Хотя… Эрик Халл и в самом деле появился в телестудии, и вечерние газеты ссылаются на «достоверные источники» в полиции, – кто их знает, что это за источники и насколько на них можно полагаться.
Ну что ж, как вышло, так вышло. Тошнота начала понемногу отступать.
Практикант встал и пнул вращающееся кресло ногой. Пошли они все со своими ритуальными убийствами… в конце концов, он и так собирался завязать с журналистикой, пусть сидят здесь и ноют на своих планерках – только без него.
Он пошел к заведующему отдела новостей, чтобы сообщить ему свое решение, – опять в обход, мимо этого чертова коридора, где все вечно толкутся и сплетничают.
В кабинете никого не было. Разбросанные утренние газеты, кипы статей с жирными красными пометками, тихое жужжание компьютеров.
Практикант немного подождал и собрался уже уходить, как вдруг услышал, что кто-то стучит в окно. Он поднял глаза. На балконе стоял заведующий и энергично махал рукой с сигаретой, стараясь привлечь его внимание. Убедившись, что практикант его увидел, он достал листок бумаги и прижал к стеклу – там был записан телефонный номер. После этого он выпустил густой клуб дыма и проартикулировал губами: «Позвони».
Практиканту очень не хотелось возвращаться в свою комнату. Он устало присел на край стола, извлек из вороха бумаг бежевый телефон и набрал номер. Мужской голос ответил почти мгновенно. Как только практикант представился, интонация сразу стала сварливой.
– Значит, это вы написали статью в сегодняшнем номере? Ну ладно, от вечерней прессы можно ждать чего угодно, но чтобы наша собственная солидная газета клюнула на дешевые сенсации! Убийство, нацизм, язычники… откуда вы взяли этот бред? Просто оскорбительно…
Практикант промямлил что-то насчет того, что ему очень жаль, что его статья показалась читателю погоней за сенсацией, но все эти надписи… Нифльхеймр, Настранд… и в первую очередь – убитый парень…
– Ну вот что, друг мой, – сказал голос ехидно. – Я знаю человека, который видел этого, как вы его назвали, парня.
Практикант прижал трубку плечом, подвинул к себе заляпанный кофе блокнот и начал лихорадочно пробовать валявшиеся повсюду шариковые ручки.
– Вы… вы знакомы с кем-то, кто видел убитого? Что он сказал? Возможна ли идентификация? Это кто-то из Фалуна?
– Как я могу разговаривать с человеком, который повторяет нелепые слухи?
– Вы можете не называть свое имя, это ваше право… вы…
– Я не собираюсь вдаваться в детали, – раздраженно сказал собеседник. – Но примите это как совет, если будете в дальнейшем писать об этой истории. Получилось так, что мой друг… мой близкий друг производил вскрытие. Он говорит, что случай уникальный. Или скажем так: почти уникальный.
– Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду.
– Купорос.
– Простите?
– Медный купорос.
Практикант наконец нашел пишущую ручку, записал название и поставил три вопросительных знака.
– Значит, вы говорите, медный купорос…
– Вы, как я теперь понимаю, даже не из Даларны, – разочарованно сказал таинственный собеседник и повесил трубку.
– О чем речь? – спросил вернувшийся с балкона завотделом.
– Какой-то читатель… Хотел поговорить о меди.
– Чертовы психи, все до одного, все эти звонильщики… Иди и займись чем-нибудь полезным.
– Значит, я…
– Что – ты? Продолжаешь работать. Неудачи бывают у всех.
Практикант вернулся в свою комнату и уже, наверное, в сотый раз набрал номер Эрика Халла. Фотографии дайвера в Сети были чуть не на каждом сайте, и «Далакурирен», похоже, осталась единственной газетой, которая не поместила интервью с героем дня.
После пятого сигнала он уже хотел повесить трубку.
– Халл слушает.
Практикант представился, а лучше бы и не надо было.
– Вот оно что, «Далакурирен»… позвоните попозже на неделе… у меня сейчас много звонков.
– Но…
– И кстати, «Далакурирен»… – тон Халла стал ледяным, – это же ваша газета утверждала, что там, внизу, женский труп… и еще на меня ссылались… так что лучше вообще не звоните, вы, с вашей дерьмовой журналистикой!
Практикант так и остался стоять с ритмично поскуливающей трубкой в руке.
Он рассеяно открыл блокнот. На первой странице, подчеркнутые красным, стояли всего два слова: «Медный купорос». И три вопросительных знака.
И что это значит? Ку-по-рос… что это? Яд какой-нибудь? Что хотел сказать этот тип? Что парня в шахте отравили купоросом? Сначала отравили, а потом добили ударом в лоб?..
Проще всего было бы выйти в коридор и спросить у кого-нибудь из репортеров. Но уже через минуту он мысленно похвалил себя за то, что этого не сделал. Потому что «медный купорос» дал тридцать попаданий в регистре статей в «Далакурирен». Очевидно, если уж он работает в фалунской газете, то должен бы знать, что за штука – медный купорос.
Он прочитал первую же ссылку:
…который был найден в 1719 году. Труп прекрасно сохранился в медном купоросе. Жирный Мате был…
Жирный Мате? Эти идиотские хуторские имена! Андерс-у-Ручья, Лассе-из-Немкарса… они так и продолжают, как триста лет назад. Здесь одни психопаты, в этой Даларне, зачем только он попросился сюда на практику? Он щелкнул по ссылке, и на дисплее появилась вся статья.
Вот оно что. Жирный Мате, оказывается, просто кличка. Настоящее имя Мате Исраельссон, двадцатилетний подручный в шахте. В 1677 году ушел из дома и исчез в Большой Медной шахте. Произошло это в канун Пасхи, Мате только что обручился с девушкой по имени Маргарета.
Практикант потер виски и начал читать дальше.
В марте 1677 года на поиски пропавших в шахте батраков много времени не тратили. Единственным человеком, продолжавшим поиски, была его невеста Маргарета. Она поблекла, состарилась и так и осталась одинокой.
Маргарета ждала его сорок два года. В 1719 году в шахте Куньей на глубине 147 метров нашли труп. Он лежал в гроте, заполненном водой с медным купоросом.
С медным купоросом? Он смотрел на дисплей, не веря своим глазам.
Тело выглядело так, будто погибший утонул два часа назад. Оно было совершенно мягким. Те, кто его нашел, очень удивились, потому что в последние годы никаких сообщений о несчастных случаях в шахтах не поступало, а тем более в шахте Куньей, которая была закрыта после большого обвала в 1687 году.
Когда наконец труп удалось поднять на поверхность, все недоумевали – никто не знал, кто это. Крепкий парень, молодой и здоровый (если не принимать во внимание, что он мертв). Никаких следов разложения.
Через неделю, когда тело было выставлено для всеобщего обозрения, какая-то старушка из публики вдруг залилась слезами.
Маргарета сразу узнала своего возлюбленного. И еще трое бывших шахтеров, теперь уже глубоких стариков, опознали погибшего – это был пропавший без вести сорок два года назад Мате Исраельссон. В шахтном журнале было записано: все, что отличает нынешнего Матса Исраельссона от тогдашнего Матса Исраельссона, – непомерно отросшие волосы. Волосы продолжали расти метр за метром, блестящие, гибкие, черные…
– Прямо Гарсиа Маркес какой-то, – пробурчал практикант, но, прочитав следующий абзац, замер.
Ключом к загадке, оказывается, было высокое содержание медного купороса в воде и воздухе Куньей шахты.
Медный купорос был давно известен как отличное консервирующее средство для древесины. Он входит как один из компонентов в состав знаменитой фалунской красной краски. И вот теперь, оказывается, медный купорос способен в течение сорока двух лет препятствовать естественному разложению человеческого тела…
Во рту у него пересохло. Что там сказал этот стокгольмский Рембо? Может быть, смерть наступила намного раньше. Насколько раньше? Практикант прокрутил текст дальше.
Тело было законсервировано до такой степени, что даже после нескольких дней на воздухе при обычной температуре никаких признаков разложения не появилось. Дни складывались в недели, потом в годы, а пропитанная медным купоросом кожа оставалась такой же мягкой и нежной. Наконец Королевская Торная коллегия заинтересовалась необычным случаем, и тело молодого шахтера было выставлено для всеобщего обозрения. Сначала труп держали в бочке, потом, по требованию публики, его поставили вертикально за стеклянной витриной. Так он и стоял тридцать лет, вдалеке от своей шахты. Даже сам Карл Линней как-то зашел поглядеть на курьез.
Каждую весну стеклянный шкаф открывали, чтобы постричь отрастающие волосы. Наконец, в 1749 году, какой-то сострадательный священник распорядился похоронить тело под полом в церкви Большой Медной горы. Но…
Господи, что там еще могло случиться?
Прошло более ста лет. В начале 1860-х годов в церкви стали перекладывать пол и обнаружили тело Жирного Матса – по-прежнему не было заметно никаких признаков разложения. На этот раз тело поместили в деревянный ящик и поставили в конторе горнорудного управления. Там этот ящик стоял и пылился до 1930 года, когда наконец несчастного Матса Исраельссона похоронили по всем правилам на кладбище и поставили небольшой гранитный памятник.

