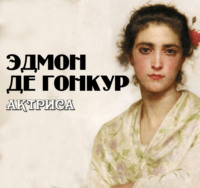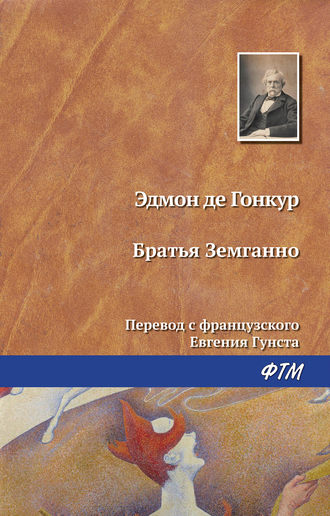
Полная версия
Братья Земгано

Эдмон Гонкур
Братья Земгано
Госпоже Доде
Предисловие
Можно издавать «Западни» и «Жермини Ласертё»[1], можно волновать, возбуждать и увлекать некоторую часть публики. Да! – Но, по-моему, успехи этих книг – лишь блестящие схватки авангарда, великое же сражение, которое предопределит торжество реализма, натурализма, «этюда с натуры» в литературе, развернется не на той почве, какую избрали авторы этих двух романов. Когда жестокий анализ, внесенный моим другом г. Золя и, быть может, мною самим в описание низов общества, будет подхвачен талантливым писателем и применен к изображению светских мужчин и женщин в образованной и благовоспитанной среде, – тогда только классицизм и его охвостье будут биты.
Написать такой роман – роман реалистический и изящный – было нашей – моего брата и моей – честолюбивой мечтой. Реализм, – уж если пользоваться этим глупым словом, словом-знаменем, – не имеет, в самом деле, единственным своим назначением описывать то, что низменно, что отвратительно, что смердит; он явился в мир также и для того, чтобы художественным письмом запечатлеть возвышенное, красивое, благоухающее и чтобы дать облики и профили утонченных существ и прекрасных вещей, – но все это лишь после прилежного, точного, не условного и не мнимого изучения красоты, после изучения, подобного тому, какому за последние годы новая школа подвергла уродливое.
Но почему, скажут мне, не написали вы сами такой роман? Не сделали хотя бы попытки к этому? – А вот почему. Мы начали с черни, потому что женщина и мужчина из народа, более близкие к природе и дикости, суть существа простые, не сложные, тогда как парижанин или парижанка из общества, эти крайне цивилизованные люди, резко обозначенная оригинальность которых вся состоит из оттенков, полутонов, из неуловимых мелочей, подобных кокетливым и незаметным пустячкам, из которых создается особенность изысканного женского туалета, – требуют многих лет изучения, прежде чем удастся разгадать, узнать, уловить их, – и даже самый гениальный романист, поверьте мне, никогда не поймет этих салонных людей по одним россказням приятелей, идущих в свет на разведки вместо него самого.
Кроме того, вокруг парижанина, вокруг парижанки все запутано, сложно, требует для проникновения чисто дипломатического труда. Обстановку, в которой живет рабочий или работница, наблюдатель схватывает в одно посещение; а прежде чем уловить душу парижской гостиной, нужно протереть шелк ее кресел и основательно поисповедывать ее палисандровое или позолоченное дерево.
Поэтому изобразить этих мужчин, этих женщин и даже среду, в которой они живут, можно только при помощи громадного скопления наблюдений, бесчисленных заметок, схваченных на лету, целых коллекций «человеческих документов», подобных тем грудам карманных альбомов, в которых после смерти художника находят все сделанные им за всю жизнь зарисовки. Ибо, – скажем это во всеуслышание, – одни только человеческие документы создают хорошие книги: книги, где подлинное человечество твердо стоит на обеих ногах.
Замысел романа, действие которого должно было происходить в большом свете, в свете самом утонченном, – отдельные хрупкие и мимолетные элементы этого романа мы медленно и кропотливо собирали, – я бросил после смерти брата, так как был убежден, что невозможно успеть в этом в одиночку… потом я вновь принялся за него… и он будет первым романом, который я намереваюсь издать в будущем[2]. Но напишу ли я его теперь, в моем возрасте? Это мало вероятно… и настоящее предисловие имеет целью сказать молодым, что в этом теперь успех реализма, только в этом, а не в литературе о подонках, уже исчерпанной в наши дни.
Что касается «Братьев Земгано» – романа, который я издаю сейчас, – то это опыт в области поэтического реализма.[3] Читатели жалуются на жестокие переживания, которым подвергают их современные писатели своим грубым реализмом; они не подозревают, что создающие этот реализм сами страдают от него гораздо сильнее и что они иногда по нескольку недель болеют нервным расстройством после мучительно и трудно рожденной книги. Так вот, в этом году я, – стареющий, недомогающий, бессильный перед захватывающим и тревожным трудом моих прежних книг, – переживал именно такие часы, то душевное состояние, когда слишком правдивая правда была неприятна и мне самому! – И на этот раз я создал фантазию, грезу, к которой примешалось несколько воспоминаний.[4]
Эдмон де-Гонкур23 марта 1879 г.I
В открытом поле, у подножья верстового столба, врытого на перекрестке, сходились четыре дороги. Первая из них пролегала мимо замка в стиле Людовика XIII, где только что раздался первый зовущий к обеду удар колокола, и поднималась затем длинными извилинами на вершину крутой горы. Вторая, обрамленная кустами орешника и переходившая невдалеке в плохой проселок, – терялась между холмами, склоны которых были усеяны виноградниками, а вершины лежали под паром. Четвертая тянулась вдоль песчаных карьеров, загроможденных решетами для просеивания песка и двуколками с поломанными колесами. Эта дорога, с которой сливались три другие, вела через мост, гудевший под колесами телег, к городку, расположенному амфитеатром на скалах и опоясанному большой рекой, один из изгибов которой, пересекая пашни, омывал край начинавшегося за перекрестком луга.
Птицы стремительно летали в небе, еще залитом солнцем, и испускали резкие отрывистые крики – краткие вечерние приветствия. Прохлада спускалась в тени деревьев, лиловый сумрак разливался по колеям дорог. Лишь изредка доносилось жалобное поскрипывание уставшей телеги. Глубокая тишина поднималась с пустых полей, покинутых человеческое жизнью до следующего дня. Даже река, покрытая рябью лишь вокруг купавшихся в ней веток, казалось, утратила стремительность и текла, как бы отдыхая.
В это время на извилистой дороге, сбегавшей с горы, показалась странная фура, запряженная запаленною белою лошадью и гремевшая железом, как расхлябанная машина.
То была огромная повозка с почерневшим и проржавевшим цинковым верхом с намалеванной на нем широкой оранжевой полосой. В передней части повозки были устроены своего рода сени, где несколько стеблей плюща, растущего в старой заплатанной кастрюле, поднимались кверху в виде фронтона из зелени; плющ, кочующий с повозкой, сотрясался при каждом толчке. За повозкой следовала причудливая зеленая крытая двуколка, кузов которой расширялся кверху и выпячивался по бокам над двумя большими колесами, образуя подобие утолщенных боков парохода, вмещающих койки пассажиров.
На перекрестке с передней повозки соскочил маленький длинноволосый седой старичок с дрожащими руками, а пока он распрягал лошадь, – в арке, обрамленной плющом, показалась молодая женщина. На плечах у нее была накинута длинная клетчатая шаль, прикрывавшая ее торс, в то время как бедра ее и ноги были лишь обтянуты трико и казались обнаженными. Ее руки, скрещенные на груди, зябкими движениями поднимались по плечам, стягивая вокруг шеи шерстяную шаль, в то время как левая нога отбивала такт привычного марша. Так она стояла некоторое время, повернув голову красивым движением голубки; профиль ее стерся в тени, а на ресницах играл свет, и она обращалась к кому-то внутрь повозки с ласковыми и нежными словами.
Старик, распрягши лошадь и сняв оглобли, заботливо подставил к повозке скамеечку, и женщина спустилась, взяв на руки прелестного ребенка в короткой рубашонке, более крупного и крепкого, чем обычно бывают грудные дети. Она откинула шаль и, дав грудь сыну, продолжала медленно ступать розовыми ногами; она направлялась к реке в сопровождении другой женщины, которая время от времени целовала голое тельце младенца и иногда наклонялась к земле, чтобы сорвать листок «зуб-травы», из которой выходит такой вкусный салат.
Из второй повозки вылезли люди и животные. Во-первых, облезлый пудель со слезящимися глазами, который от радости, что сошел на землю, пустился в погоню за собственным хвостом. Затем разные пернатые, радостно махая крыльями, разместились на крыше повозки, как на насесте. Потом выскочил подросток в матросской куртке, надетой прямо на голое тело, и помчался по полям на разведки. Вслед за ним вышел великан, шея которого была одинаковой толщины с головой, а лоб представлял собою целые заросли шерсти. Затем еще бедняга, одетый в самый жалкий сюртучишко, какой только носило когда-либо человеческое существо; он втягивал понюшку табаку из бумажного фунтика. Наконец, когда, казалось, зеленая тележка уж окончательно разгрузилась, показался еще один чудной субъект, у которого рот доходил до ушей благодаря следам плохо стертого грима. Зевая, он стал потягиваться, потом, увидав реку, исчез в глубине повозки и показался снова с сачками для ловли раков.
То катясь колесом, то пускаясь галопом, эта странная личность, одетая в лохмотья цвета гусиного помета с черными разводами и вырезанными по краям зубцами, достигла воды. Тут росла, склонившись к реке, старая, наполовину сгнившая ива; ее расщепленный ствол был набит черноземом и мхом, а верхушка, еще живая, давала слабые побеги, увитые густой повиликой. Под ивой, на смятой траве, ногами рыболовов были вытоптаны ступеньки, образующие подобие лесенки. Паяц скользнул туда на животе и свесился над прозрачной водой, где прибрежный ил и рыжие корни ивы растворялись в синеве глубокой реки и где его причудливое отражение спугнуло целую стаю рыб, рассеявшихся подобно темным стрелам на сверкающих плавниках.
Женщина с ребенком у груди смотрела на удлиняющиеся на реке тени и на заходящее солнце, образовавшее в одном месте течения вертящуюся огненную полосу; она смотрела на плескавшуюся воду, отражавшую одновременно и синеву неба, и багрянец заката; смотрела остановившимся и глубоким взглядом на бесконечную беготню длинноногих водяных пауков по искрящейся поверхности реки и изредка вдыхала раздувающимися по-звериному ноздрями запах мяты, который тянул по берегу поднявшийся ветерок.
– Эй, Затрещина, к плите! – закричал басом Геркулес; он сидел на ящике посреди лужайки в геройских башмаках с меховой оторочкой и чистил с бесконечной нежностью картошку ласковыми движениями рук.
Затрещина вернулась к повозкам, а следом за ней подошла женщина с ребенком и приняла участие в приготовлении ужина, молча, ни к чему не притрагиваясь и отдавая распоряжения так, будто играла пантомиму.
В это время седой старик, привязав обеих лошадей к столбу, надел пунцовую гусарскую куртку с серебряными нашивками и позументом и, подхватив лейку, направился к городу.
Синева неба стала совсем бледной, почти бесцветной, лишь с легким желтым оттенком на востоке и красноватым на западе; несколько продолговатых темно-коричневых облачков тянулось на зените, напоминая бронзовые клинки. С умирающего неба незаметно спускалась в еще не угасший дневной свет та сероватая дымка, что сообщает неясность контурам предметов, делает их смутными и расплывчатыми, стирает формы и очертания природы, засыпающей в этом сумеречном забытье, – начиналась грустная, нежная и неуловимая агония света. Только в городке с поблекшими домиками фонарь у моста еще мерцал отблеском дневного света, отражавшимся в его стекле, а церковная колокольня с узкими овальными окнами уже вырисовывалась лиловым силуэтом на тусклом серебре заката. Вся местность стала казаться лишь смутным и бесформенным пространством. И река, принимавшая то густо-зеленые оттенки, то цвет грифельной доски, превратилась теперь в бесцветный журчащий поток, куда черные тени деревьев бросали расплывавшиеся пятна туши.
Тем временем усиленно готовился ужин. На лужайку, к реке, была вынесена плита, где кроме картошки, очищенной Геркулесом, варилась еще какая-то еда. Паяц опустил в котел нескольких раков, которые, падая, скрипели клешнями о медное дно. Старик в гусарской куртке вернулся с лейкой, полной вина. Затрещина расставила зазубренные тарелки на ковер, служивший обычно для акробатических упражнений, а вокруг ковра в ленивых позах расположились члены труппы и вытащили из карманов ножи.
Ночь овладела умирающим днем. В домике на конце главной улицы города блестел одинокий огонек.
Вдруг из поросли выскочил голый до пояса юноша; в свернутой фуфайке он нес отбивающегося зверька. При виде зверька на лице женщины в трико засветилась почти жестокая радость, и, казалось, на мгновенье ей припомнилось что-то из прошлого, к которому она мысленно обратилась.
– Дайте глины! – воскликнула она низким грудным голосом, в котором звучали странные и волнующие нотки, и захлопала в ладоши.
С кошачьей ловкостью, ни разу не уколовшись, она быстро обложила живого ежа глиной, превратив его в шар, – в то время как старик разжег из сухих веток громадный пылающий костер.
Труппа приступила к ужину. Мужчины пили вкруговую из лейки. Затрещина ела стоя, поглядывая на плиту и подчас запуская руку в кушанья, которые передавала к столу. Женщина в трико положила ребенка около себя на край ковра и не столько ела, сколько любовалась дорогим существом.
Ужинали молча, как уставшие и проголодавшиеся люди, поглощенные к тому же зрелищем летней ночи на берегу реки, перелетами ночных птиц, всплесками рыб, мерцанием звезд.
– Эй, с моего места! – буркнул паяц, грубо оттолкнув человека в жалком сюртучке – тромбониста труппы. И паяц стал жадно есть, а тем временем в померкшем небе послышался далекий звон, казавшийся звоном хрустального колокола, – медленные удары, небесные звуки, полные нездешней грусти, настолько сливавшиеся с вечерним воздухом, что, когда они прекратились, казалось, будто ухо их все еще слышит.
Глина, в которой пекся еж, обратилась в кирпич; Геркулес разбил его ударом топора, и зверек, с которого сходила кожа вместе с колючками, был поделен между присутствующими.
Женщина в трико взяла себе маленький кусок и, смакуя, стала его медленно посасывать.
Ребенок, лежавший около матери, ножками и ручками понемногу растолкал вокруг себя тарелки и, став полноправным и единственным хозяином ковра, заснул животиком кверху.
Все наслаждались прекрасным вечером, наполненным стрекотанием кузнечиков и шелестом листвы в вершинах высоких тополей. Среди дремотной задумчивости ночи дуновенья теплого ветерка пробегали по лицам, как ласковые и щекочущие прикосновенья. Иногда из-за ручья, поросшего кустами гигантской крапивы, листья которой в этот час казались вырезанными из черной бумаги, вылетала птица; она пугала боязливых женщин, и в этой пугливости была своя доля прелести.
Вдруг луна, выступив из-за деревьев, осветила спящего ребенка, котооый лениво задвигал изящным тельцем, словно лунный свет щекотал его своими белыми лучами. Он улыбался каким-то невидимым предметам и мило ловил что-то пальчиками в пустоте. А когда он проснулся и стал двигаться быстрее, – его тело обнаружило такую гибкость и эластичность, что можно было подумать, что у него гнущиеся кости. Он брал ручонкой ножку и тянул ее ко рту, как бы намереваясь пососать.
Его прелестная головка с тонкими белокурыми завитками, ясные глаза в глубоких и нежных орбитах, вздернутый носик, точно помятый грудью кормилицы, надувшиеся губки, оттопыренные щечки, нежный выпуклый животик, мягкие ляжки, покрытые пушком ножки, пухлые ступни и славные ручонки, – все упитанное его тельце со складками на затылке, вокруг рук и ног, с ямочками на локтях и щеках, – тельце, вскормленное молоком, озаренное опаловым светом луны, придававшим ему прозрачную бледность, – все это создавало очаровательную картину, достойную вдохновения поэта.
Пока мать любовалась младшим сыном, юноша в матросской куртке, стоя коленом на земле, пытался поймать на палочку шар и удержать его в равновесии, затем, улыбнувшись своему маленькому брату, начинал фокус сначала.
В ночной тиши, на лоне природы все инстинктивно возвращались к своим дневным занятиям, к своему ремеслу, которое завтра должно дать хлеб всей труппе.
Старик в гусарской куртке сидел в повозке и перебирал старые бумаги при свете сальной свечи.
В стороне, на лужайке, еще освещенной луной, Затрещина репетировала сцену пощечин с тромбонистом, который должен был выступить на следующий день в комической интермедии; женщина учила простачка, как хлопать в ладоши, делая вид, что получаешь пощечину.
А паяц снова вернулся к сачкам. И, сидя под ивой, тонкая серая листва которой образовала над его головой веер, казавшийся огромной запыленной паутиной, – он дремал над зеленоватой глубью, свесив ноги в воду, где у самого дна спало отражение звезды.
II
Директор труппы, старик в гусарской куртке, синьор Томазо Бескапе, был когда-то рыжим, а теперь уже почти совсем седым итальянцем, с подвижными и постоянно дергающимися, словно от тика, чертами лица, с острым взглядом, рыхлым носом, язвительным ртом, бритым подбородком, – с лицом мима, обрамленным длинными волосами цвета пронизанной солнцем пыли.
У себя на родине Томазо Бескапе был поочередно то поваром, то певцом, то оценщиком кораллов и лаписа-лазури, то счетоводом у торговки четками на via Condolti,[5] то чичероне, то чиновником посольства, – но однажды этот беспокойный искатель приключений попал на Восток, где, благодаря знанию всех языков и всех диалектов, стал драгоманом палестинских туристов; потом, испробовав еще бесконечное число никому неведомых и необыкновенных профессий, – он сделался бродягой-лупёром[6] в Малой Азии.
Странной натурой был этот итальянец, неистощимый в выдумках и уловках, способный ко всем ремеслам, умевший обращаться со всякими людьми, со всевозможными вещами, любивший превращения, которые несла ему изменчивая жизнь, похожая на перемены декораций в театре. Нищету, в которую он впадал в антрактах этого жизненного спектакля, он переносил с насмешливой веселостью, свойственной писателям XVI века, и даже в самых отчаянных бедствиях сохранял чисто американскую уверенность в завтрашнем дне. Сверх того, он был большим любителем природы и тех бесплатных зрелищ, которыми она дарит людей скитающихся пешком по белу свету.
Пробродив несколько лет в окрестностях древней Трои в ленивых поисках особых наростов на местном орешнике, идущих на выделку фанеры для мебели и высоко ценимых в Англии, – Бескапе оказался в один прекрасный день билетером цирка «Олимпико» в Пере,[7] где, в случае надобности, совмещал должность конторщика с обязанностями наездника. Здесь, получая довольно скудное жалованье, он задумал предприятие, которое в то время было новинкой. Он стал ходить по кофейням, где турки, сидя на ковриках, покуривают трубки, и стал вытаскивать прямо из-под них эти коврики, давая владельцам взамен меджидие,[8] а несколько дней спустя перепродавал коврики туристам. Торговля пошла удачно, он приобрел самоуверенность и стал покупать на базарах уже целые кипы ковров, причем ему было достаточно только взглянуть на изнанку ковра, – так хорошо он стал разбираться в этом деле и так уверен был в лености турецких купцов. Вскоре, не довольствуясь маленьким домашним складом, он вошел в сношения с агентами в Париже и Лондоне, где в то время художники начали покупать эти несравненные изделия восточных колористов. В коврах этих, среди феерических оттенков шерсти, часто попадаются на известных промежутках небольшие пряди волос, которыми отмечается дневной урок женщин, ткущих ковры любовно, не торопясь в своих залитых солнцем домах. Благодаря этой торговле Бескапе стал почти богачом, и тут-то, вместе с солидностью, явилось у него желание самому стать где-нибудь хозяином. Как раз в это время Лестропад, директор цирка «Олимпико», предложил ему сопровождать его труппу на Дальний Восток, где он мечтал нажить большое состояние. Тогда Бескапе стал вести переговоры с товарищами, выведывать, кого не привлекает это путешествие, и красноречивой болтовней стал убеждать их перейти под его начало и отправиться с ним в Крым, где, по имеющимся у него точным сведениям, цирк будет встречен весьма благосклонно.
Лестропад, от которого откололось человек десять артистов, не отказался от своего рискованного замысла. В один прекрасный день он уехал с еще довольно многочисленной труппой в Москву, оттуда – в Вятку, пересек Сибирь; в пустыне Гоби путешественники вступили в перестрелку с монголами, во время которой большая часть труппы погибла, погибли и все лошади, и только чудом удалось Лестропаду добраться до Тянь-Цзиня[9] вместе с дочерью, зятем и еще одним клоуном. Неутомимый антрепренер приехал в Тянь-Цзинь как раз во время убийства консула и сестер Красного креста, но, не устрашившись и не падая духом, снова пустился в путь и достиг, наконец, Шанхая, откуда, пополнив труппу матросами и китайскими пони, направился в Японию.
Тем временем Томазо Бескапе, закупив необходимый инвентарь, отбыл в Симферополь, где цирк его имел огромный успех. Хитрый дипломат, каким в душе был этот итальянец, догадался по приезде в Симферополь завязать знакомства с местными офицерами и поставить свое дело, так сказать, под их покровительство. Офицеры, очарованные его любезностью, живостью ума и добродушием, стали восхвалять цирк и создали ему популярность. Итальянец стал участником их кутежей, и часто ночью вся компания отправлялась будить цыганский табор, где директор цирка и офицеры просиживали до зари, глядя на пляску цыганок, среди разливанного моря донского шампанского, под лязг жестяных, расписанных аляповатыми цветами подносов, на которых разносилось печенье.
Во время этих ночных посещений Томазо Бескапе, всю жизнь отличавшийся влюбчивостью, несмотря на свои пятьдесят лет, воспылал к одной юной цыганке той страстью, какую способны возжечь проклятые чары этих плясуний. Танцовщица чувствовала к директору одновременно и отвращение молоденькой девушки к старику, и племенную неприязнь цыганки к чужаку. Авдотья Рудак, мать танцовщицы, хотя и была сводней, все же сохранила по отношению к своему чаду некоторые предрассудки и соглашалась продать старику дочь не иначе, как в законный брак, несмотря на предложенную им громадную сумму, всецело поглощавшую барыши от торговли коврами и доход первого года его деятельности в Симферополе. Старый муж был точно околдован и боготворил молодую женщину, которая вышла за него с нескрываемым отвращением и холодность которой длилась все время их брака. Мучимый ревностью, он через полгода после свадьбы покинул Крым, а когда сделался отцом, – проявил полное безразличие к детям, словно весь пыл и вся нежность ею сердца безраздельно и полностью принадлежали его очаровательной жене.
Он привез свою труппу в Италию, потом почти тотчас же переправился во Францию и в течение десяти лет давал представления, постепенно, с годами, сокращая количество лошадей и наездников и сводя труппу к более скромным размерам, в соответствии с уменьшением доходов и усилением конкуренции. Во Франции он давал представления приблизительно в течение девяти месяцев в год, а на зиму возвращался на родину и работал это худшее время года в Ломбардии и Тоскане.
Томазо Бескапе был больше чем простой скоморох. Он обладал разносторонними познаниями, взятыми неизвестно откуда, случайным образованием, почерпнутым не из книг, а из рассказов людей всевозможных национальностей, которых он расспрашивал, всячески вызывая на разговор, по дорогам и в других местах; он видел на своем веку бесконечное множество самых разнообразных людей. Помимо того, он обладал еще одной способностью – даром юмора, шутливым воображением. Он сочинял комические сценки, выходившие необычайно забавными. И, копаясь в часы досуга в своей коллекции старых итальянских пантомим, он иногда находил им действительно изящное и остроумное применение.
* * *Степанида, или по-французски Этьенетта, которую звали русским уменьшительным именем – Стеша, казалась еще совсем юной женщиной, хоть и была уже матерью двоих детей. Она была красива дикой красотой, полной надменной заносчивости в осанке и походке. Ее пышные, буйные волосы извивались крупными непокорными прядями над утонченным и пленительным овалом лица, овалом индийской миниатюры. В ее глазах играл темный электрический блеск; смуглый цвет лица этого мечтательного создания был слегка отмечен на щеках естественным румянцем, похожим на слабый след стертого грима, и неизъяснимо-странная улыбка временами появлялась на ее строгих губах. Своеобразие этой красоты прекрасно сочеталось с блестками, мишурой, сусальным золотом, блеском ожерелий фальшивого жемчуга, грубыми стекляшками балаганных диадем, золотыми и серебряными зигзагами на ярких лохмотьях.
Цыганка, выданная замуж за giorgio, за чужака, – что случается очень редко, – подобно своей расе, воздерживающейся в течение веков от ассимиляции с европейской семьей, осталась дочерью первобытных кочующих народов Гималаев, народов, живущих от начала мира под открытым небом и занимающихся покражами и ручным ремеслом. Прекратив всякие сношения со своими, вступив в плотский союз с христианином, ежедневно общаясь с уроженцами Франции и Италии, она держалась в стороне от мыслей, стремлений, умственных навыков, от сокровенного духа и внутренней жизни своих сожителей, мечтательно углубилась в самоё себя, упорно погружалась в прошлое, благоговейно поддерживая в себе наклонности, вкусы, верования своих таинственных предков. Она жила в странном и непонятном общении с таинственным повелителем ее племени, с неопределенным и далеким жрецом-царем, отношения которого с подданными осуществлялись, казалось, при посредничестве голосов природы; она поклонялась ему в тайном и суеверном культе, беспорядочно примешивая сюда обряды всех религий, и посылала своего сынишку к церковным причетникам за святой водой, которою кропила лошадей и внутренность странствующей повозки.