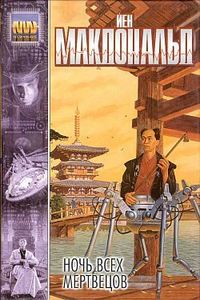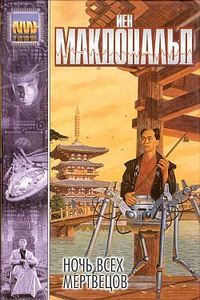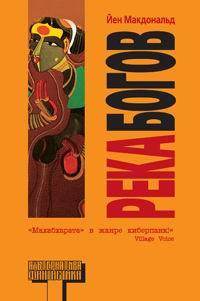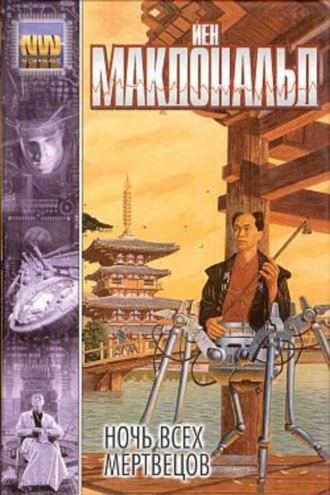 полная версия
полная версияИстория Тенделео

Макдональд Йен
История Тенделео
Начать мой рассказ лучше всего с имени. Меня зовут Тенделео, и родилась я здесь, в Гичичи. Вы удивлены? Действительно, поселок так изменился, что люди, жившие там в одно время со мной, теперь вряд ли его узнают. Одно название осталось прежним. Вот почему имена так важны – они не меняются. Родилась я в одна тысяча девятьсот девяносто пятом году – как мне сказали, это произошло после ужина, но до наступления сумерек. Именно это и означает мое имя на языке календжи[1]: ранний вечер вскоре после ужина. Я была старшей дочерью пастора церкви Святого Иоанна. Моя младшая сестра родилась в девяносто восьмом, после того как у матери было два выкидыша, и отец, в полном соответствии с местными традициями, попросил помощи у общины. Мы все называли девочку Маленьким Яичком. Я да она – в семье нас было только двое. Отец считал, что пастор должен служить примером для своей паствы, а в те времена правительство как раз пропагандировало компактные семьи.
На моем отце лежала обязанность окормлять сразу несколько приходов. Он объезжал их на большом красном мотоцикле, который выделил ему епископ в Накуру. Это был отличный японский мотоцикл фирмы «Ямаха».
Водить мотоцикл отцу очень нравилось; он даже учился прыгать на нем через небольшие препятствия и тормозить с разворотом. Впрочем, для своих упражнений он выбирал глухие проселочные дороги, считая, что духовное лицо не должно заниматься такими пустяками на глазах прихожан. Разумеется, все знали, но никто его не выдал – ни один человек!
Церковь Святого Иоанна построил мой отец. До него прихожане молились прямо на улице – на скамьях, врытых в землю в тени деревьев. Наша церковь была приземистой, с крепкими белеными стенами, сделанными из бетонных блоков. По красной жестяной крыше карабкались вьюнки и лианы, которые цвели крупными колокольчиками. Весной же за окнами церкви колыхалась настоящая завеса из цветов и листьев, и внутри было красиво, точно в раю. Во всяком случае, каждый раз, когда я слушала рассказ об Адаме и Еве, я представляла себе рай именно таким – зеленым, тенистым, благоухающим.
Внутри церкви стояли скамьи для прихожан, аналой и кресло с высокой спинкой для епископа, который приезжал на конфирмацию. В алтаре находились престол, накрытый белой пеленой, и шкафчик для чаши и дискоса. Купели у нас не было – тех, кого крестили, водили к реке и окропляли там.
Я и моя мать пели в церковном хоре. Службы были долгими и, как я теперь понимаю, скучными, но музыка мне нравилась. Пели у нас только женщины, а мужчины играли на музыкальных инструментах. Самый лучший инструмент был у нашего школьного учителя из племени луо; преподаватель был таким высоким, что за глаза мы кощунственно называли его Высочайшим. Он играл на поршневом кольце от старого «пежо» – по нему надо было бить тяжелым стальным болтом, и тогда кольцо издавало высокий звенящий звук.
Все, что осталось от строительства церкви, пошло на пасторский дом. У нас были бетонные полы, жалюзи на окнах, отдельная кухня и замечательная угольная печка, которую один из прихожан смастерил из бочки для солярки. В доме было электрическое освещение, две розетки и кассетная магнитола, но никакого телевизора. Иметь телевизор, говорил отец, все равно что приглашать на обед дьявола. Итак, кухня, гостиная, наша спальня, спальня мамы и отцовский кабинет – всего пять комнат. Как видите, в Гичичи наша семья имела определенный вес, во всяком случае – среди календжи.
Сам поселок в беспорядке вытянулся по обеим сторонам шоссе. В Гичичи имелось несколько лавок, школа, почта, кондитерская, заправочная станция и контора по найму матату. Все они находились почти у самой дороги: жилые дома стояли чуть в глубине, и почти от каждого начинались утоптанные пешеходные тропинки, которые вели к устроенным на склонах земляным террасам. В конце одной такой тропинки – примерно в полукилометре дальше по долине – находилась и наша шамба[2]. Идти к ней надо было мимо дома, где жила семья укереве. В этой семье было семеро детей, и все они нас ненавидели. Когда мы проходили мимо, они швыряли в нас камнями и кизяком и кричали: «Вот что мы думаем о вас, проклятые календжи, богомерзкие епископалы!» Сами укереве принадлежали к Внутренней Африканской церкви кикуйо и не подчинялись епископу.
Если для отца земным подобием Небес была его церковь, то для матери раем была шамба. Воздух на склонах долины был чист и прохладен, а внизу шумела по камням река. На шамбе мы выращивали маис, тыквы-горлянки и немного сахарного тростника. Его охотно покупали местные самогонщики, и когда приходила пора сбора урожая, отец делал вид, будто не знает, для чего тому или иному из наших соседей нужен сладкий сахаристый сок.
Еще на шамбе росли перец, бобы, лук, картофель и две банановые пальмы. Отец ни за что не хотел их срубить, хотя м'зи[3] Кипчоби вполне авторитетно утверждает: деревья высасывают из земли силу. Как бы там ни было, маис и тростник каждое лето вымахивали выше моего роста, и мне очень нравилось, забежав в эти заросли, притворяться, будто я перенеслась в другой мир.
На шамбе всегда звучала музыка – играл чей-нибудь радиоприемник на солнечных батарейках, или пели хором женщины, помогавшие друг другу вскопать землю или разделаться с сорняками. Я всегда пела с ними, так как, по общему мнению, у меня был неплохой слух.
Было здесь и свое святилище. В расщелинах коры между толстыми скрюченными ветками старого дерева, давным-давно задушенного золотистым фикусом, женщины оставляли маленьким деревянным божкам свои подношения – купленные у странствующих торговцев-индусов стеклянные бусы, мелкие монетки и чашки с пивом.
Вы спросите меня: а как же чаго? Вы, наверное, уже подсчитали, что, когда на Килиманджаро упал первый контейнер, мне было девять. Вы хотите узнать, почему столь важное событие, как завоевание нашей планеты пришельцами из другого мира, не оказало на мою жизнь никакого особенного влияния? На самом деле все очень просто. Для наших жителей Килиманджаро находится лишь немногим ближе, чем тот, другой мир, из которого явилось к нам чаго. Нет, разумеется, кое-какие сведения до нас доходили. Мы смотрели телепередачи, где рассказывали про Килиманджаро, читали статьи об этой штуке в «Нейшн» и знали, что чаго похоже одновременно на коралловый риф и тропические джунгли и что оно попало на Землю с какого-то летающего объекта. Мы слышали передачи по радио, в которых обсуждалось, как быстро растет чаго (пятьдесят метров в сутки, эта круглая цифра легко запоминалась), что оно может собой представлять и откуда оно появилось. Каждое утро в небе над Гичичи мы видели белые инверсионные следы больших ооновских самолетов, которые перевозили исследователей и научное оборудование. С каждым днем их становилось все больше и больше, но нас это не касалось. Церковь, школа, дом, шамба. Праздничная служба в воскресенье. Кружок по изучению Библии в понедельник. Спевки церковного хора. Вечерние посиделки с подругами. В промежутке я могла вышивать, полоть, гонять из маиса коз или играть с Маленьким Яичком, Грейс и Рут, но только чтоб не очень шуметь, потому что папа работает. Вот из чего состоял мой мир. Раз в неделю в Гичичи приезжал передвижной банк, раз в месяц – передвижная библиотека.
По шоссе носились громоздкие матату[4], с азартом обгонявшие друг друга и все, что двигалось, а на их подножках и окнах гроздьями висели пассажиры. Большие грязные рейсовые автобусы, словно сонные волы, тащились вверх по склону, и одетый в лохмотья деревенский дурачок Гикомбе – роскошь, которую мы едва могли себе позволить, – бросался на дорогу перед каждым из них, стараясь остановить. На смену дождям приходила жара, после знойного лета наступал сезон холодных туманов, и так происходило из года в год. Люди рождались, женились, разводились, болели, погибали от несчастных случаев. Килиманджаро? Чаго?.. Что нам было до них?.. Для нас это были только слова, картинки, которые попадали в наш мир из одного и того же далекого мира.
Мне было тринадцать, и я только вступила в женский возраст, когда чаго пришло в мой мир и разрушило его. В тот вечер я отправилась к своей подружке Грейс Мутиго, чтобы позаниматься вместе. Но мы, конечно, не занимались. Уроки были просто предлогом; на самом деле мы хотели послушать радио. После того как в нашу страну понаехали ооновцы, радиопередачи сделались намного лучше. Под радио теперь можно было петь и танцевать. Проблема была только в том, что музыку, которую оно передавало, мои родители не одобряли.
В тот вечер мы слушали трип-хоп. Вдруг музыка стала прерываться – она раздавалась то тише, то громче, то пропадала совсем. Сначала мы решили, что в студии слетел компакт. На всякий случай Грейс решила покрутить ручку настройки, но получилось еще хуже. Мы как раз выясняли, стоило или не стоило трогать приемник, когда из соседней комнаты вышла мама Грейс. Она пожаловалась, что в телевизоре пропало изображение: на экране были одни волнистые линии, и ничего больше.
А еще через какое-то время мы услышали первый удар. Это был глухой далекий звук, очень похожий на гром. На возвышенностях вокруг нашей долины по ночам часто бывают грозы, но это было что-то другое.
Бу-бум! Снова грохот, на этот раз – ближе. С улицы донеслись голоса, сверкнул луч фонаря. Вооружившись карманными фонариками, мы тоже вышли из дома. На шоссе толпился народ – мужчины, женщины, дети. Отблески света от фонарей и керосиновых ламп беспорядочно метались по стенам домов.
Бум-м! Третий удар был таким сильном, что в домах зазвенели стекла. Все, как по команде, направили фонари вверх, так что лучи их стали похожи на копья света. Многие дети заплакали, и я поняла, что тоже испугалась.
Один Высочайший сохранял спокойствие.
– Звуковая волна, – сказал он. – Там, наверху, что-то есть.
И как только он произнес эти слова, мы увидели это. На удивление, все происходило очень медленно. Ночь была безоблачной и ясной, как часто случается в конце мая после вечернего дождя, на небе высыпали звезды. И вот среди звезд мы увидели мерцающую точку. Она появилась над холмами восточнее Кириани и немного южнее нас. Нам казалось, она то плывет, то подпрыгивает на месте, словно искорки, которые пляшут в глазах, если долго смотреть на солнце. Светящаяся точка оставляла прямой как стрела след, похожий на след реактивного лайнера, только он не был белым, а светился чистым голубым светом, ясно видимым среди черноты небес.
Потом раздался двойной удар – такой близкий и громкий, что у меня заложило уши. В темноте запричитали старухи, и вскоре страх охватил всех. Теперь и женщины, и мужчины неотрывно смотрели на яркую голубую черту в небесах; из глаз их медленно текли слезы. Многие садились прямо на землю и, положив фонарики на колени, в растерянности качали головами, не зная, что им теперь делать. Старики накрывались платками, плащами, газетами; остальные последовали их примеру, и вскоре уже все жители поселка сидели на шоссе, спрятав головы под чем попало. Один Высочайший остался стоять. Выпрямившись во весь рост, он смотрел на яркий голубой след, разрезавший ночь надвое.
– Какая красота! – выдохнул Высочайший. – Подумать только: я вижу это своими собственными глазами!
Он стоял так до тех пор, пока светящийся объект не исчез во мраке за грядой холмов на западе, но я видела его отражение в глазах учителя. Прошло много времени, прежде чем эти крошечные искорки тоже погасли.
Казалось, все кончилось благополучно, но растерянность осталась. Люди были напуганы и в то же время испытывали радость от того, что непонятный предмет, словно ангел смерти, пролетел над Гичичи! Многие еще плакали, но слезы облегчения ни с чем не спутаешь.
Кто-то вынес из дома радио на батарейках. Другие поступили так же, и вскоре все мы собрались небольшими группами вокруг своих приемников. Буквально через несколько минут вечерняя музыкальная передача была прервана срочным выпуском новостей, и диктор объявил, что в двадцать часов двадцать восемь минут в Центральной провинции упал еще один биоконтейнер.
При этих словах многие снова заплакали и запричитали. Потом кто-то крикнул:
– Тише!
Жалобные вопли затихли, а я подумала, что каким бы страшным ни было сообщение, доносящиеся из мрака всхлипывания были стократ страшнее.
Еще диктор сказал, что контейнер упал на восточном склоне хребта Ньяндаруа неподалеку от Тусы – небольшой деревеньки кикуйо. Где находится Туса, мы все хорошо знали – у многих там были родственники. Через Тусу ходил междугородный автобус до Ньери. От Тусы до Гичичи было не больше двадцати километров.
И снова над темным шоссе раздались крики, стенания, молитвы, но большинство молчало. Мы все понимали – наше время истекло. За четыре года чаго поглотило Килиманджаро, Амбосели и приграничный район Наманга и теперь двигалось по шоссе А-104 к Каджадо и Найроби. Но мы никогда не задумывались об этом, продолжая жить, как жили, в глупой уверенности, что когда чаго наконец доберется до нас, мы не оплошаем. И вот оно оказалось в каких-нибудь двух десятках километров от Гичичи. Чаго как будто говорило: двадцать километров это четыреста дней – вот сколько времени у нас осталось.
Первым поднялся Джексон, владелец мастерской по ремонту «пежо». Он слегка наклонил голову набок. Потом поднял палец, и все затихли. Джексон посмотрел на небо:
– Вы слышите?
Я прислушалась, но ничего не услышала. Тогда Джексон показал на юг, и мы сразу поняли, что он имеет в виду. Ночь звенела от гула моторов. Над темными верхушками деревьев на дальнем краю долины один за другим вспыхивали яркие огни. Их становилось все больше – десять, двадцать, тридцать, еще и еще. Вертолеты кружили над Гичичи, словно саранча: казалось, грохот их турбин заполнил собой весь мир. Я замотала голову платком, заткнула ладонями уши и громко закричала, перекрывая шум, но все равно мне казалось, что моя голова вот-вот разлетится на куски, будто глиняный горшок.
Вертолетов было ровно сорок. Они прошли так низко над поселком, что от поднятого винтами ветра жестяные крыши домов гремели и лязгали, а взвихренная пыль засыпала глаза и скрипела на зубах. Многие дети кричали и махали им фонариками и белыми школьными рубашками, пока вертолеты не достигли гребня горы и рев турбин не растворился в звоне и стрекотании ночных насекомых. Для них это было просто забавой, но большинство понимало: ооновцы идут за чаго – словно собаки, преследующие кабана.
И действительно, не прошло и нескольких часов, как на шоссе появились первые грузовики. Громкое гудение поднимавшихся по серпантину машин разбудило весь поселок.
– Вам известно, что сейчас уже три часа ночи? – кричала грязно-белым грузовикам с голубой эмблемой ЮНЕКТА[5] на дверцах пожилая миссис Кариа, но ее никто не слышал, к тому же вряд ли кто-то из жителей поселка собирался ложиться спать. Почти все население Гичичи вновь высыпало из домов и выстроилось по сторонам шоссе, глядя, как идет через поселок колонна. Интересно, что подумали водители, когда в свете фар за поворотом вдруг возникли все эти лица с блестящими глазами. Впрочем, некоторые из них махали нам в знак приветствия, а дети махали в ответ.
Это продолжалось всю ночь. Когда на рассвете мы поднялись на шамбу, чтобы подоить коз, я увидела: по шоссе внизу все еще ползла бесконечная белая змея, петли которой повторяли извивы дороги. Когда же передние грузовики достигли перевала, косые лучи только что вставшего солнца перекрасили их из белых в золотые.
Грузовики, бензовозы, краны, тягачи с платформами, на которых стояли бульдозеры и другая специальная техника, шли по дороге два дня. Потом их поток иссяк, и на шоссе появились беженцы, двигавшиеся в противоположном направлении. Первыми были счастливые обладатели машин. Мы видели матату, нагруженные посудой, постельным бельем, мебелью и инструментами, и грузовички, в кузовах которых балансировали на грудах домашнего скарба целые семьи. Промчался микроавтобус, битком набитый чем-то, что на первый взгляд напоминало тюки пестрого тряпья; и только потом мы поняли: это просто женщины в цветастых платьях. Тракторы тащили прицепы на колесах. Древние легковушки, мотоциклы и мопеды едва виднелись под привязанными к ним узлами. Все эти механические чудовища и возглавляли своеобразную гонку, в которой богатые, как всегда, оказались в лучшем положении.
Следом за машинами двигалась основная масса беженцев. Шоссе запрудили тележки с впряженными в них осликами, влекомые волами фургоны и велосипеды с колясками, но больше всего людей шло пешком. Кто-то толкал перед собой тачку, груженную горшками, свернутыми матрасами и картонными коробками, кто-то тащил на веревках тележку или вез в коляске закутанную в канта[6] престарелую мать, бабку или тетку. Серпантин у перевала оказался довольно крутым, и спускаться по нему было небезопасно. Тележки так и норовили вырваться из рук, скатиться под уклон или свалиться с обрыва, и террасы у подножия горы были буквально усеяны осколками горшков, помятой посудой, разноцветными тряпками, покореженными лопатами и сломанными кирками.
Последними в этой гонке шли те, чье имущество умещалось в одном-двух узлах. Взрослые несли их на голове или на плечах. Дети тащили в руках завязанные в тряпки кастрюльки, пыльные клетки с крикливыми птицами, крошечные корзиночки из коры, в которых лежало по горсти ягод и куску зачерствевшей лепешки.
Мой отец предоставил беженцам свою церковь. Здесь они могли получить отдых, чашку горячего чая, миску угали[7] или бобов. Угали варилось прямо на кострах в больших кастрюлях и котлах, и я помогала мешать его, чтобы оно не подгорело. Местный врач открыл при церкви пункт первой помощи. В основном, впрочем, ему приходилось лечить вывихнутые или пораненные ноги да детей, страдавших обезвоживанием вследствие неизбежного расстройства желудка. Но далеко не все жители Гичичи одобряли такую благотворительность. Некоторые боялись, что, встретив подобный прием, часть беженцев останется в поселке и истребит наши запасы продовольствия. Владельцы лавок прямо говорили, что мой отец разорит их, раздавая бесплатно то, что они продавали за деньги. Недовольным – тем, кто осмеливался заявлять об этом открыто, – отец отвечал, что он поступает так, как, по его мнению, поступил бы Иисус. Возразить на это было трудно, но я знаю, что у него была еще одна причина. Ему было интересно слушать рассказы беженцев. Очевидно, отец уже тогда догадывался, что их судьба скоро станет и его судьбою.
– Так что там у вас, в Тусе?
– У нас-то нормально. Контейнер промахнулся по нам и грохнулся двумя километрами дальше, в Комбе. Нет, там нет ничего особенного – просто ферма кикуйо; они еще коров держат. Мы все слышали гром. Наши соседи взяли матату и поехали посмотреть, что стряслось. Они-то и рассказали, что от Комбе ничего не осталось. Да вон они сидят, эти ребята, – сами у них спросите.
– Это «ничего», братья мои, как оно выглядело? Как яма?
– Нет, это было нечто особенное, но что – мы описать не можем. Что? Ах, фотографии!.. На фотографиях видна только эта штука, они не показывают, как все происходит. Дома, поля, тропинки в полях растекаются, точно жир на сковородке. Мы видели, как сама земля таяла и из нее тянулись вверх такие штуки, похожие на пальцы тонущего человека…
– Что за штуки? Какие они были?
– Мы не можем сказать – у нас не хватает слов. Их можно сравнить разве что с коралловыми рифами, которые показывают по телевизору, но эти штуки были большие, как дома, и полосатые, как зебры. Они походили на кулаки, которые растут прямо из земли, поднимаются все выше, а потом – р-раз! – раскрываются, будто пальцы. Еще там были веера, пружины, воздушные шары и футбольные мячи.
– И все это произошло быстро?
– О, очень быстро! Так быстро, что пока мы смотрели, эти штуки добрались до нашего матату. Они поползли по покрышкам, поднялись по капоту, словно ящерицы по стене, и вся машина покрылась тысячами крошечных желтых почек или бутонов.
– Что же вы сделали?
– А вы как думаете? Бросились бежать, конечно!
– А те, кто жил в Комбе? Что сталось с ними?
– Когда мы привели подмогу из Тусы, нас остановили солдаты, которые прилетели на вертолетах. Они были повсюду. Солдаты сказали: все должны уходить, здесь будет карантинная зона. У вас есть двадцать четыре часа.
– Двадцать четыре часа?!
– Да. Все, что ты честным трудом нажил за целую жизнь, тебе велят собрать за каких-нибудь двадцать четыре часа! «Голубые береты» привезли с собой инженеров, которые тут же начали строить огромную башню из рельсов и железа. От сварки ночь стала как день. Комбе снесли, и разровняли место бульдозерами, чтобы строить аэродром, – теперь там будут садиться самолеты. А нас, прежде чем отпустить, заставили сдать анализы. Мы все выстроились друг за другом и по одному проходили мимо столов, за которыми сидели люди в белых халатах и масках.
– Но зачем?
– Я думаю, они проверяли, вдруг чаго попало в нас.
– Почему ты так думаешь? Разве врачи делали что-то такое… особенное?
– Да, пастор. Некоторых они легонько хлопали по плечу, вот так, совсем как Иуда – Господа, и солдат отводил таких в сторону.
– Что было с ними потом?
– Я не знаю, святой отец. Этих людей я больше не видел. И никто не видел.
Эти истории очень тревожили моего отца. Они смущали и тех, кому он их пересказывал; даже Высочайший испугался, хотя именно он радовался тому, что на нашу землю пришли чужие. Но больше всего эти рассказы пугали ООН. Два дня спустя в Гичичи приехали на пяти армейских вездеходах представители власти. Первое, что они сделали, это приказали отцу и доктору закрыть свой пункт помощи беженцам. Официальный центр Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев находился в Муранге. Все беженцы направлялись туда, ни один из них не должен был оставаться в Гичичи.
В частной беседе они сказали моему отцу: человеку, занимающему столь высокое положение, пристало вести себя более ответственно и выдержанно и ни в коем случае не способствовать распространению нелепых слухов и глупых выдумок, способных подорвать стабильность общества. А чтобы мы узнали настоящую правду, люди из ЮНЕКТА устроили в церкви общее собрание жителей.
В этот день в церковь пришли все, даже мусульмане. Те, кому не хватило места на скамьях, встали у стен и в проходах; многие теснились снаружи у окон и, приподняв жалюзи, заглядывали внутрь. Перед алтарем поставили длинный стол. За столом разместились мой отец, наш доктор и вождь, а также правительственный чиновник, военный и одетая в белый полотняный костюм китаянка, которая показалась мне напуганной. Как я узнала, она была ученым-ксенологом. В основном говорила именно она; правительственный чиновник из Найроби только вертел в руках карандаш и постукивал им по столу, пока не сломал кончик. Военный – французский генерал с богатым опытом участия в разного рода гуманитарных кризисах – сидел неподвижно и молчал.
Женщина-ксенолог рассказала нам, что появление чаго – это первый контакт человечества с внеземной жизнью. Характер контакта, по ее словам, оставался пока неясным; во всяком случае, события развивались совсем не так, как предсказывали специалисты. Пока что все сводилось к тому, что чаго физически преобразовывало наш земной ландшафт и растительность, однако то, что содержалось в контейнерах-посылках, не являлось ни семенами, ни спорами. Непонятные штуки, которые уничтожили Комбе, а теперь медленно поглощали Тусу, представляли собой что-то вроде крошечных механизмов, которые разлагали вещество нашего мира на молекулы и вновь воссоздавали в совершенно новых, непонятных формах. Еще мы узнали, что чаго реагировало на раздражители и отлично приспосабливалось к разрушительным внешним воздействиям. Специалисты ЮНЕКТА уже испробовали огонь, яды, радиоактивное опыление и генетически модернизированные вирусы, однако чаго успешно отразило все атаки. Несмотря на это, до сих пор не удалось выяснить, обладает ли оно собственным интеллектом или это – просто инструмент, агент каких-то разумных существ, обнаружить которые пока не удалось.
– А что будет с Гичичи? – спросил наш цирюльник Исмаил.
Ему ответил французский генерал:
– Всех жителей поселка эвакуируют в ближайшее время.
– А если мы не хотим, чтобы нас эвакуировали? – заговорил Высочайший. – Вдруг мы решим, что нам лучше остаться?
– Все гражданское население подлежит эвакуации, – повторил генерал.
– Но это наш поселок и наша страна! По какому праву вы указываете, что мы должны делать, а чего не должны? – крикнул Высочайший, и все зааплодировали – даже мой отец, сидевший за столом рядом с людьми из ЮНЕКТА.
Правительственный чиновник из Найроби недовольно нахмурился.
– ЮНЕКТА, Управление верховного комиссара по делам беженцев и командование миротворческих сил ООН в Восточной Африке действуют с ведома и согласия правительства Кении, – сказал он. – Чаго представляет собой серьезную опасность для жизни людей. Эвакуация необходима для вашего же блага.