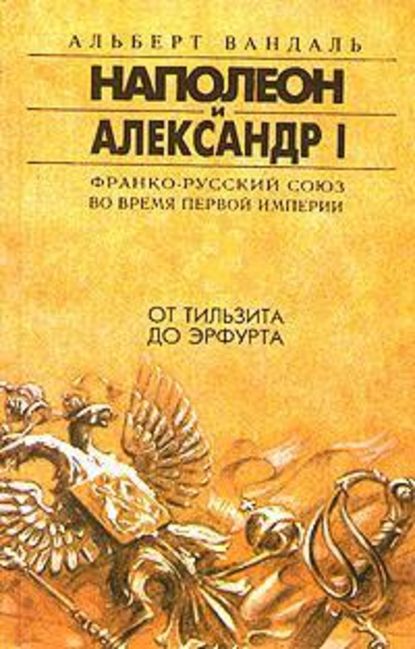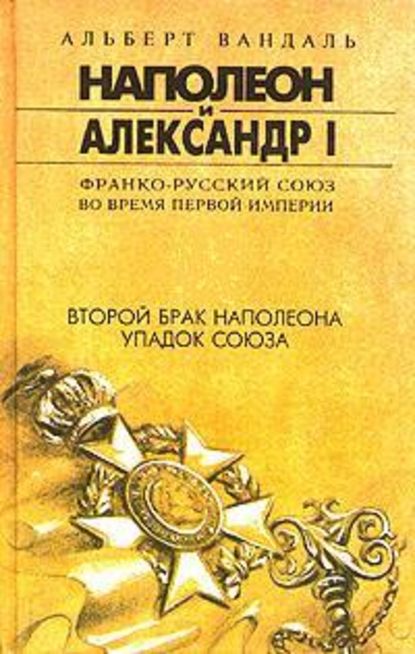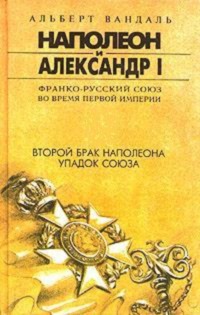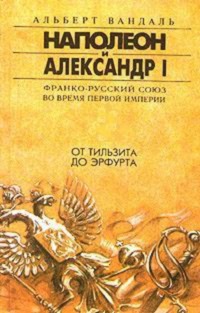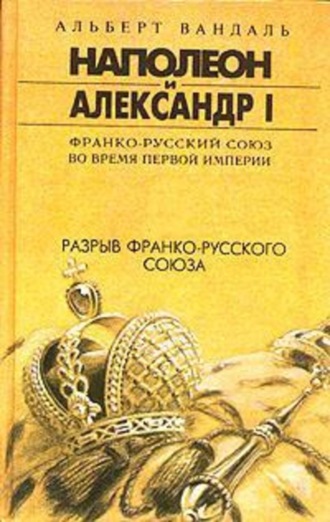 полная версия
полная версияРазрыв франко-русского союза
Ближайшим результатом этого затишья была приостановка переговоров, начатых императором на случай войны с Россией. Он не дает ответа на сомнительные уверения Пруссии и держит Австрию в неопределенном положении. Уже протянув Швеции и Турции руку, он поспешно отдергивает ее, лишь только миновала непосредственная надобность в этих компрометирующих союзах. Он оставляет своих представителей без приказаний, без инструкций, и, само собой разумеется, что его молчание обязывает их к бездействию.
В Стокгольме нашим предложениям оказан был восторженный прием. Но такой прием не мог быть искренним. Предложенный предмет совершенно не отвечал истинным желаниям наследного принца, и, когда барон Алькиер вызвал его на обсуждение плана диверсии в Финляндию, он оказался на этот счет плохо подготовленным; он затруднялся говорить и просил времени подумать. Однако, ввиду важности не отклонять доброго расположения императора, тем более, что одна партия в совете стояла еще за прежнюю политику и оплакивала Финляндию, министр Энгестрем сначала весьма горячо взялся за переговоры; но по прошествии нескольких недель, видя, что его собеседник еле говорит, он и caм перестал поддерживать разговор, а затем и совсем прекратил дело.[207] С турками тоже удовольствовались первоначальными предложениями. Так как наше посольство не настаивало на отправке в Париж уполномоченного, то таковой и не был отправлен. Оба правительства, протянув друг другу руки, застыли в этих позах.
Что же касается вооружений, то Наполеон, не отменяя ни одной меры, дает знать исполнителям своей воли, что есть основание не очень спешить, но что следует вести дело в большой тайне, а главное, с меньшими затратами. “Если вы увидите, – пишет он Даву, – что при употреблении на какое-нибудь дело лишних двенадцати или пятнадцати дней будет экономия, я думаю, что следует предпочесть последнее решение”.[208]
Он не перестает требовать, чтобы формирующиеся корпуса увеличивались непрерывно, но при этом приказывает, чтобы они снабжались необходимыми предметами снаряжения на месте, одни – в Германии, другие – в Италии или во Франции, и без всякого шума, который мог бы привлечь внимание”.[209]
В результате скорость, сообщенная военным приготовлениям, ослабевает; но воздействие направляющей их руки продолжается с логической последовательностью и большим расчетам. Благодаря возникшей тревоге, был сделан крупный шаг по пути военных мероприятий, и ни характер Наполеона, ни направление его мыслей не позволяли остановиться на пути, раз обстоятельства вынудили его стать на этот путь. Он живет под гнетом еще большего недоверия, еще большего чувства озлобления к России. Не давая себе ясного отчета в том, что происходило в уме Александра, он злится на Россию за то, что она нагнала на него страху. Он не далек от мысли, что русский государь хотел просто-напросто учинить против него большую военную демонстрацию, в надежде сломить его упрямство и угрозой вырвать у него клок Польши. Уже одного этого предположения достаточно, чтобы привести его в негодование. Разве он из тех людей, которым диктуют условия со шпагой в руке? Если хотят вести переговоры, к чему являться “с каской на голове, а не с белым флагом в руке?”.[210] Наступившее успокоение не укрепляет в нем желания покончить с распрей, а действует наоборот: давая ему время подготовить реванш, оно отклоняет его от прежнего намерения. Получив надежду выиграть время и довести свои военные приготовления до поразительной по своим размерам широты, он мало-помалу возвращается к мысли не избегать войны, а самому начать ее; он останавливается на мысля начать ее в 1812 г.; он решает вести наступательную кампанию во главе всей Европы, и, предприняв не имеющий примера в летописях новейшего времени поход, силой оружия разрешить конфликт. Его горячее желание вступить в переговоры ослабевает по мере того, как опасность отходит на задний план.
По сознавая, в какое трудное положение может поставить его слишком быстрый разрыв с Россией, сознавая, что возможность разрыва не исключается и в будущем, по временам приходя в ужас перед необъятной опасностью, в какую может его вовлечь поход на Север – даже после долгой и тщательной подготовки, он все еще стоит в нерешительности; он не уверен в успехе и не может окончательно отрешиться от мысли покончить мирно. Говоря правду, он очень хотел бы устранить со сцены польский вопрос, прогнать этот назойливый призрак. Он высказал это Куракину, сопровождая свои слова таким любезным вниманием, что у старого посланника, “несмотря на его подагру, хватило сил ходить взад и вперед с Его Величеством в продолжение двух часов”.[211] Он с некоторым раздражением высказывает ту же мысль графу Шувалову – русскому дипломату, бывшему проездом в Париже. “Чего хочет от меня император Александр? – говорит он. – Пусть оставит меня в покое! Неужто воображают, что я пожертвую чуть ли не двумястами тысяч французов ради восстановления Польши?”.[212] И он вполне основательно обращает внимание на то, что герцогство, в его теперешнем состоянии, т. е. слабое и покорное, для него гораздо выгоднее, чем независимая и сильная Польша, которая рано или поздно освободится из-под его опеки. Но неужели Россию можно успокоить только дроблением герцогства? – условие неприемлемое и позорное.
Затем существует еще вопрос, который Наполеон в глубине души никогда не прочь возбудить слова и вновь начать по нем переговоры. Это все тот же вопрос о нейтральных судах и блокаде. Допуская, что найдется средство уладить настоящие недоразумения, остается еще под вопросом, согласится ли Александр принимать более действенные меры против англичан, более стеснительные для их торговли? Вот вопрос капитальной важности, который в глазах Наполеона всегда осложняет задачу и придает ей еще большую остроту. Он надеется, что по всем нерешенным вопросам герцог Виченцы даст же когда-нибудь точные сведения или в ответе на два посланных ему письма или лично по своему возвращению. Ему как можно скорее хочется узнать, какой именно ценой будет он в состоянии избавиться от войны с Россией и снова заручиться ее содействием против вечного врага.
ГЛАВА V. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРЦОГА ВИЧЕНЦЫ
Как отразилась в Петербурге тревога, поднявшаяся в Германии и Франции. – Александр, узнав о передвижении наших войск, боится, чтобы Наполеон не напал на него. – Он все еще задает себе вопрос, не будет ли нападение лучшим способом защиты. – Общественное мнение думает иначе. – Веллеслей даст Европе уроки оборонительной войны. – Он создает целую школу. – Генерал Фуль и его план. – Мало-помалу Александр склоняется к чисто оборонительному плану войны. – Он желал бы избегнуть войны, не возобновляя союза. – Опять герцогство Варшавское. – Доверительный разговор с австрийским посланником. – Намеки и недомолвки в ответе на вопросы герцога Виченцы. – Император Александр и римский король. – Приезд Лористона. – Милостивый прием. – Александр рассчитывает на Коленкура, надеясь, что тот убедит Наполеона предложить ему то, чего сам он не хочет просить. – Он заявляет о своем решении защищаться до последней крайности; торжественность и искренность этого заявления. – Волнение Коленкура; тяжелое предчувствие. – Возвращение во Францию. – Поездка в Сен-Клу к императору. – Семичасовой разговор. – Коленкур ручается за миролюбивые намерения Александра. – Молчание в продолжение четверти часа. – Какое из двух решений? – Наполеон отклоняет мысль об уменьшении гарнизона в Данциге. – Коленкур настаивает на необходимости сделать выбор между Польшей и Россией. – Император мысленно пробегает то и другое решение. – Непреодолимое препятствие. – Коленкур указывает на опасность борьбы с климатом Севера, с его природой и пространством; он ручается за то, что Александр отступит в самую глубь России, и в доказательство приводит собственные слова царя. – Император потрясен, его собеседник думает, что выиграл дело. – Наполеон пересчитывает свои военные силы, им овладевает безумная гордость. – Он воображает, что все будет решено одним сражением. – Продолжение разговора. – Старый вопрос о браке. – Последнее слово Коленкура. – Верное рассуждение и роковые заблуждения.
I
Александр жил в вечной тревоге. Нерешительный от природы, он никак не мог остановиться на чем-нибудь определенном. Из донесений Чернышева и из других источников он знал, что нашим приготовлениям внезапно дано было резко ускоренное движение, что варшавская и саксонская армии спешно мобилизуются, а за ними поднимаются и все французские силы. Сверх того, напуганный резкими словами, которые Наполеон позволил себе сказать в Торговом Совете по адресу государств, допускавших контрабанду, он боялся, чтобы завоеватель, не откладывая дела в долгий ящик, не ринулся на его границы с тем, чтобы покарать его за его вооружения. Окружающие его даже думали, что война начнется в конце весны или самое позднее летом. Тревога перешла из Парижа в Петербург, и царь неоднократно задавал себе вопрос, не выгоднее ли ему использовать имеющееся пока в его распоряжении преимущество и не лучше ли двинуться навстречу завоевателю.[213]
В апреле подполковник Шёллер, прусский агент, часто имевший доступ к царю, не склонен был думать, чтобы царь совершенно отказался от мысли о нападении.[214] Несколько времени спустя швед Армфельт вынес то же впечатление. Непримиримый враг Наполеона, человек, который жил как будто только для того, чтобы ненавидеть, Армфельт только что приехал в Петербург из Стокгольма, откуда его выгнал напуганный интригами Бернадот, желавший доставить этим удовольствие императору. Прекрасно принятый в Петербурге, Армфельт старался доказать, что “все будет потеряно, если дадут Бонапарту предупредить себя”[215] и с радостью утверждал, что его слова нашли сочувственный отклик. Александр сказал ему, что в недалеком будущем пошлет его в Лондон вести переговоры о мире и союзе с Англией, а это было бы равносильно разрыву с Францией[216]. Итак, Александр не разрушал окончательно надежд сторонников нападения, хотя опасные и неудобные стороны такового с каждым днем делались ему яснее. Он знал, что его план, о котором смутно догадывались при многих дворах, вызвал всюду единодушное порицание, что в этом предприятии общественное мнение Европы не будет на его стороне. Считая, что ему необходимо заручиться добрым расположением Австрии[217] он от времени до времени делал попытки приобрести ее дружбу и привлечь ее на свою сторону, но в ответ получал только холодные и уклончивые фразы. Сверх того, чисто стратегические соображения, которые все настойчивее высказывались среди его окружающих, склоняли его к мысли искать спасения в заранее предрешенной и систематически подготовленной обороне.
Мысль вести войну с французами в стиле Фабия, т. е. уклоняться от боя, выжидать для сражений случаев, когда французы будут истощены походами и лишениями, давать сражения на позициях, покрытых укреплениями, предоставлять неприятелю вместо людей сражаться с препятствиями и одолевать необъятные пространства, – уже давно приходила некоторым на ум. О достоинстве этого плана с увлечением говорили Александру немцы, а именно – Вольцоген; восхваляли его и русские, например, будущий военный министр Барклай-де-Толли. Вскоре после битвы при Эйлау Барклай сказал: “Если бы я был главнокомандующим, я уклонялся бы от решительного сражения; я отступал бы,– так что, в конце концов, вместо победы, французы дошли бы до второй Полтавы”.[218] Однако, подобные советы давались боязливо отдельными лицами, пока одно крупное военное событие не доказало их высокой ценности. Весной 1811 г., когда кампания в Португалии приходила к концу, начали выясняться подробности дуэли на окраине западной Европы между Массеном и Веллеслеем. Массена не мог достигнуть существенных результатов, так как английский генерал, отступив перед ним, предоставил французам углубиться в скалистые горы Португалии, обращенные южным зноем в пустыни, и в конце изнурительного и тягостного пути выставил против них фронт из укреплений и редутов, о который разбилась ослабевшая уже энергия наших войск. В военном искусстве чаще, чем в каком-либо ином деле, встречается мания подражательности,—нигде так не складывается влияние моды. С этих пор в европейских военных штабах единодушно было признано, что Веллеслей нашел так давно отыскиваемый секрет сопротивления французам, рецепт победы над ними, и что при всех случаях следует применять его методу.
В Петербурге эта доктрина вышла в систематически разработанном виде из-под пера генерала Фуля – немца, служившего в России, трудолюбивого и весьма ученого кабинетного стратега, который был блестящим теоретиком, но плохим практиком. Фуль составил план кампании, положив в его основу данные, заимствованные из войны в Португалии, и приведя их в соответствие с общепризнанными классическими правилами. По его мнению, следовало отвлечь французов как можно дальше от их операционной базы и только тогда встретить на сильно укрепленных оборонительных линиях. В применении к России предлагалось на незащищенном пространстве между реками Днепром и Двиной, представляющими естественную преграду, соорудить нечто вроде центрального редута, нечто вроде укрепленного лагеря колоссальных размеров, – русский Торрес-Ведрас, который бы и закрыл оставшийся открытым путь. Главная русская армия должна медленно отступать до этой позиции; здесь она остановится и будет упорно защищаться, тогда как вторая армия, менее многочисленная и более подвижная, будет тревожить и утомлять врага постоянными нападениями. Это не было еще планом отступления до последней крайности, т. е. сплошным отступлением; это было сочетание фронтальной обороны с фланговыми нападениями. Что же касается Пруссии, то с ее стороны предполагалось только пассивное содействие. Она должна была без боя отдать столицу и провинции и не оказывать сопротивления вторжению; ее армия должна отступить и запереться вместе с правительством и администрацией в лежащих у моря крепостях. Эти превращенные в укрепленные лагеря крепости должны будут задержать часть французских войск. Это и будут прусские Торрес-Ведрас, которые издалека будут служить поддержкой русскому Торрес-Ведрас, выдвинутому впереди обеих столиц России, на далеком расстоянии от ее границы.[219] Главным недостатком предложенного Фулем плана было то, что по нему предполагалось разделить русские силы на две отдельно действующие армии, которые могли подвергнуться нападению в одиночку. Тем не менее, Александр не прочь был принять этот план, ибо он давал вполне определенный, почти научный характер начинавшей преобладать в его уме идее об обороне. В конце мая он явно поддался спасительному инстинкту, подсказавшему ему, что у себя дома Россия неуязвима и вне опасности[220].
Несмотря на все это, он желал поддерживать с Францией официальные отношения и не прерывать переговоров. По мере приближения войны, он в глубине души яснее сознавал ее ужасы и не хотел отказаться от мысли уладить дело мирным путем. Он счел бы себя удовлетворенным, если бы Наполеон согласился – за отступление русских войск на известное расстояние – увести войска из Данцига, герцога Варшавского и с линии Одера, и не очень бы торопил его с окончательным решением спорных вопросов. Он охотно примирился бы с подобным, плохо определенным положением, ибо оно, устраняя страшный риск войны, избавляло его от необходимости исполнять принятые на себя обязательства и со временем дало бы ему предлог сблизиться с Англией на экономической почве.
Что же касается того, чтобы навсегда покончить раздоры с Францией, то, признавая это весьма желательным, он спрашивал, где же средство для этого? Переданные Чернышевым встречные предложения императора, очевидно, были несущественным паллиативом. Правда, оставалось решение, дорогое сердцу Румянцева, которое сводилось к разделу герцогства Варшавского. Александр, допускавший только одно, известное уже нам решение польского вопроса, не прочь был примириться и с этой комбинацией, доказательством чего служат слова, сказанные им в одном доверительном разговоре. Говоря однажды австрийскому посланнику графу Сен-Жюльену об Ольденбурге и о том, где найти за него вознаграждение, он, “не высказываясь вполне”, сказал: – “Я отлично знаю эквивалент, который мог бы нам приличествовать”[221]; – и Сен-Жюльен, поискав в верном источнике объяснение этих слов, писал своему двору, что царь не прочь был бы взять “часть герцогства Варшавского, расположенную на правом берегу Вислы”.
Правда, что по поводу этого таинственного эквивалента Александр поторопился добавить: “Но пока об этом не может быть и речи”. Действительно, после приема, сделанного намекам Чернышева, он еще более считал неудобным слишком ясно высказаться о своих притязаниях, из которых Наполеон мог выковать против него напитанные ядом стрелы. Мы увидим, что в разговоре с нашим посланником он в определенных выражениях повторит свое требование, но при этом не столько будет стараться о том, чтобы его поняли, сколько о том, чтобы не компрометировать себя. Он будет говорить такими намеками, которые трудно даже передать в удобопонятной форме; он будет вести переговоры неискренно; прикроет свою мысль настолько густой вуалью, чтобы она только просвечивала, но чтобы никто не был в состоянии ясно разглядеть ее, а тем паче показать другим.
5 мая, согласно отправленным из Парижа 15 и 17 апреля приказаниям, Коленкур убедительно просил царя высказаться. Пользуясь выражениями французского министра, посланник начал разговор словами: “Если то, чего желают русские, не выходит из пределов возможного, это будет сделано”, Александр прежде всего ответил указанием на свое долготерпение; он сказал, “что касается желания объясниться и сговориться, то попытка к этому давным-давно была им сделана; что не он, а мы ни на что не даем ответа, а только каждый день обращаемся с одними и теми же просьбами, как будто три месяца тому назад, даже более, год тому назад, он не ответил уже на все вопросы; как будто что-нибудь во всем этом зависит от него: ничего подобного, все зависит от императора Наполеона. Никто,– продолжал он, – честнее меня не служил его интересам, никто так искренно не лелеял его славы и до сих пор никто не может уверять его в более искренней, в более полезной дружбе. Время признать это. Я всей душой был предан ему, не считаясь с обстоятельствами. Путь же, наконец, и он отнесется ко мне справедливо”.[222]
Коленкур снова повторил, что император и король искренно желают удовлетворить Россию; но что все-таки необходимо знать, “как и где, что относительно этого никогда еще не было объяснений”. Тогда Александр высказался за безусловное и точное соблюдение договоров, что было равносильно требованию возвратить лишенного владений принца в его герцогство. Это притязание было высказано исключительно ради соблюдения приличий, так как на него нельзя было смотреть серьезно. Спустя некоторое время, как бы против воли соглашаясь на уступку, царь допустил принцип вознаграждения “справедливого и приличного”. Чтобы дать понять, не называя точно, какое вознаграждение он имеет в виду, он воспользовался методом исключения. “Конечно, сказал он, одного Эрфурта недостаточно”. С другой стороны, “потребная прибавка должна быть взята от государств, состоящих под покровительством Франции, но не ему подобает обирать их”. Далее он сказал, что “Россия, конечно, не может взять вознаграждения за счет Пруссии, потому что было бы несправедливо и неразумно из любви к герцогу Ольденбургскому делать эту страну еще более несчастной, да и, помимо того, не в интересах России ослаблять и без того слабую Пруссию”. Таким образом, по исключении Пруссии и второстепенных немецких государств, оставалось только великое герцогство, Александр воздержался назвать его, если не считать фразы, “что он не имеет никаких притязаний ни на владения этого государства, ни на владения других соседей”. Это значило играть словами, ибо с уступкой части герцогства герцогу Ольденбургскому, все герцогство было бы с головой выдано России, После фраз, которым можно было придать разные толкования, после вторичного заявления, “что он ждет справедливого отношения к своему близкому родственнику, к дяде такого союзника, как он”, Александр сразу перескочил к делам Польши, настаивая на безотлагательной необходимости положить конец волнениям и упованиям поляков; и ясно было, что он старался сблизить и связать оба вопроса. Правда, большая часть его слов сопровождалась такими перефразировками, такими стыдливыми замалчиваниями, он так тщательно старался скрыть свое желание подсказать императору выбор вознаграждения, что, как видно, Коленкур не совсем ясно понял, что требуемая против восстановления Польши гарантия сливалась и отождествлялась с вознаграждением, просимым для герцога Ольденбургского. Тем не менее, из этого разговора и из нескольких бесед с канцлером посол вынес безусловное и глубокое убеждение, что оба вопроса должны быть решены совместно или в прямой зависимости один от другого; что решением первого вопроса само собой устранится второй или, по меньшей мере, потеряет свою остроту.
За время этих разговоров Александр с удивительным тактом сумел сохранить поведение, какое подобает другу, поистине оскорбленному, отринутому, которому вечно грозят и который из чувства собственного достоинства держится в стороне; но при всем том ничего так не желает, как вернуться к прежней дружбе, лишь бы к нему сделали первый шаг. Он относился к нашему посланнику с большим вниманием, отличал его, но не скрыл, что нападки на Чернышева во французской печати, равно как и речь императора в Торговом Совете, оскорбили его до глубины души. Он высказался в весьма сочувственных выражениях, не переходя, впрочем, известных пределов, по поводу рождения римского короля, и выразил большое участие к радостному событию, выпавшему на долю Франции. Чтобы отпраздновать это событие, Коленкур задумал дать такой бал, который составил бы эпоху в летописях Петербурга, и возымел намерение собрать в стенах своего дворца, который на этот случай предполагалось блестяще декорировать снаружи и внутри, все высшее общество. Русские власти любезно предложили ему свое содействие в устройстве бала, но царь уведомил, что при настоящем положении вещей не может присутствовать на балу. Он велел передать ему, что если к нему обратятся с просьбой официальным путем, он примет приглашение; но если до бала не придет известие “дружеского и успокоительного характера, он в день бала скажется больным”. “Какими глазами взглянут на меня Европа и мой народ, если я отправлюсь танцевать к французскому посланнику в тот момент, когда французские войска двигаются на меня со всех сторон?.. Дайте бал без меня, не приглашайте меня. Вам было оказано всевозможное содействие, чтобы бал вышел на славу и чтобы он превзошел все, что было и будет сделано иностранцами. Или же подождите несколько дней. Пусть император докажет мне тем, что он скажет – или Куракину, или Чернышеву, или тем, что сделает, что он действительно дорожит мною и союзом, и я с большим удовольствием приеду к вам, ибо у меня только одно желание – дать императору и его стране доказательства моей дружбы. Я же, со своей стороны, могу уверить вас, что у меня не останется ни задней мысли, ни воспоминания о теперешних обстоятельствах, и что я восстановлю все в духе союза и дружбы, лишь только вы искренно пожелаете этого”.[223]
Тем временем приехал в Петербург Лористон. Ему был оказан великолепный прием и всевозможные почести. На первой данной ему аудиенции Александр горячо жаловался на замеченное в Саксонии воинственное возбуждение, но среди своих жалоб нашел случай ввернуть и лестные слова. Как искусный политик, он выразил желание, чтобы графиня Лористон приехала к своему мужу и поселилась в России, ибо ее приезд доказал бы, что посланник рассчитывает надолго поселиться в России, а это было бы принято за симптом мира.[224]
В следующие дни, когда герцог Виченцы подготовлялся к отъезду, Александр несколько раз виделся с обоими посланниками. Он принимал их то вместе, то каждого порознь. Лористону он повторил то же, что говорил и Коленкуру, и, кажется, что новый представитель по некоторым оттенкам в словах Александра, по выражению его лица, лучше своего предшественника понял, что дело шло о желании посягнуть на неприкосновенность герцогства Варшавского. Делая робкий намек на своевременность уступки России некоторых земель в Польше, он писал: “Если только у императора Наполеона существует такое намерение, я думаю, что этим путем могли бы быть решены оба вопроса: вопрос о вознаграждении и вопрос о договоре относительно Польши”.[225]
Пока Александр доставлял Лористону случаи угадать его желания и сам пытался узнать от него о намерениях императора, он осыпал его всевозможными милостями: на него так и сыпались приглашения на воскресные парады, на обеды, которые завершались беседами с глазу на глаз. В свете, как бы угадавшем намерения своего государя, и, видимо, желавшем служить им, французский посланник видел только улыбающиеся лица.[226] Одуряющее действие чар тотчас же сказалось. Милостивый прием, обворожительная простота монарха, его приятный и изящный говор, талант, с каким он умел внедрять свои взгляды в ум собеседника, – все это произвело и на Лористона свое обычное действие. Как новичок в политике, этот генерал начал думать, что Александр гораздо меньше, чем это было в действительности, отдалился от Франции и императора Наполеона.