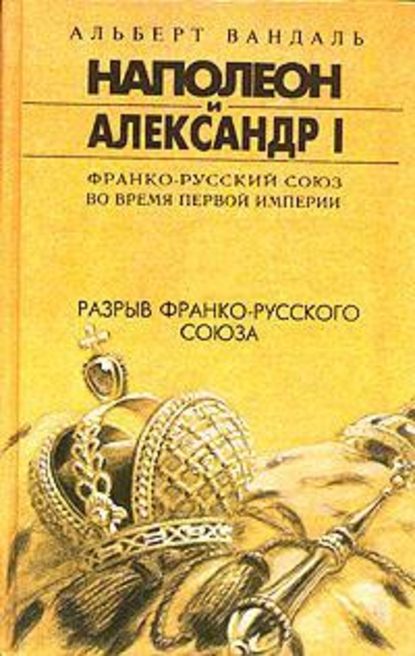полная версия
полная версияВторой брак Наполеона. Упадок союза
Когда Александр давал этот совет, он и не подозревал, что Наполеон в скором времени поймает его на слове и обратится к нему с просьбой посодействовать закрытию шведских гаваней. Узнав о втором пункте нашей просьбы, Александр был в большом затруднении. Он вовсе не хотел натравлять на англичан лишнего врага: но, главным образом, не хотел вредить самим шведам, так как его не покидала мысль не только отвратить их вражду, но и привлечь их на свою сторону. Избрание Бернадота не создавало препятствий его плану, напротив, оно могло способствовать его осуществлению.
Прибыв в середине октября в Стокгольм, новый наследник престола занял положение, которое могло вполне успокоить наших врагов. Он объявил войну англичанам только для виду, так как за этой демонстрацией до сих пор не последовало ни одного враждебного поступка, ни одной конфискации. С первых же встреч с русским посланником, Бернадот был на редкость любезен и милостив с ним. Он простер своe внимание до того, что написал царю письмо, в котором в самых изысканных выражениях высказал желание жить в дружбе с соседями. Можно ли было на основании такой предупредительности вывести заключение, что бывший маршал не был “человеком, преданным императору Наполеону”.[632] Восстановив в памяти свои личные впечатления, Чернышев высказал это как непреложную истину. Во время своего пребывания в Вене и во Франции, молодой офицер имел и случай сблизиться с принцем Понте-Корво, и достаточно времени изучить его. Он почуял в нем человека недовольного, завистливого, одного из тех людей, которых и благодеяния, и упреки озлобляют в одинаковой степени. Исходя из этого, он считал возможным использовать во вред Наполеону драгоценный качества этого желчного, злопамятного человека, не говоря уже о тех вполне законных причинах, которые препятствовали Швеции всецело перейти на сторону Франции. Ободренный этими сведениями, Александр с некоторых пор упорно предавался самым смелым надеждам. Каков был бы удар, если бы ему удалось похитить у Наполеона одного из его свитских генералов и превратить в агента России имперского маршала, назначенного главнокомандующим целым народом.
Но как поверить в чувства наследного принца, как поддержать его намерения? Как подойти к нему и, не возбуждая подозрения, осторожно поговорить с ним? Просьба Наполеона давала средство к этому. Опираясь на наши просьбы, царь мог, под предлогом придать большой вес предостережениям России, под маской агента, посланного в Стокгольм со специальным поручением, отправить к принцу доверенное лицо. В глазах Франции это будет агент, которому поручено сделать желаемое Наполеоном внушение, в действительности же он должен говорить как раз противоположное. Вместо угроз он должен ободрить и не скупиться на успокоительные слова; его истинная задача – войти в сношения с Бернадотом и вызвать его на более откровенные разговоры.
Благодаря давнему знакомству с принцем, Чернышев мог лучше всякого другого выполнить это щекотливое поручение. Ему было поручено доставить в Париж ответ Александра на императорское письмо от 23 октября, но при этом он получил приказание ехать через Стокгольм. В письме к императору Александр объяснял витиеватую фразу Чернышева, которая дает понятие, до какой степени он обладал искусством скрывать свои мысли и намерения за безупречными по искренности и правдивости фразами. “Мне кажется, что полковник Чернышев сумел снискать благосклонность Вашего Величества, почему я и избрал его для передачи этого письма, – писал он. – Я приказал ему ехать через Стокгольм, дабы объявить шведскому правительству о желании Вашего Величества, чтобы я поддержал шаги, сделанные вами с целью понудить Швецию порвать с Англией, хотя мною уже получено известие, что это сделано”. Эта фраза и по духу, и по букве вполне отвечала истине. Да, Чернышеву поручено сказать, как страстно, как упорно желает Наполеон, чтобы Россия обратилась к Швеции с протестом и угрозой, только, согласно инструкции, Чернышев тотчас же должен прибавить, что Александр решил не обращать внимания на это желание, что он предоставляет Швеции вполне располагать своими решениями, что она может избрать относительно Англии то поведение, какое ей будет угодно, и может не принимать участия в морской войне. Одним словом, истинная цель поездки а Стокгольм состояла в том, чтобы дать понять, что показную ее задачу никоим образом не следует выполнять. Выдавая, под предлогом исполнения желаний императора его намерения Швеции, Александр надеялся создать себе право на ее благодарность и положить начало примирению, а, может, и прочной дружбе с нею. Таким образом, императоры по-старому стараются тайком оспаривать один у другого позиции, которые дадут им возможность наблюдать друг за другом и успешно вести борьбу. Как только в этой непрерывной игре Наполеон делает какой-нибудь ход, Александр тотчас же протягивает руку, чтобы использовать его во вред своему противнику. Всячески добиваясь склонить на свою сторону Польшу и Австрию, он старается завладеть и Швецией; но в этот раз, далеко шагнув вперед в двуличии, он прикрывает свои происки личиной уступчивости, желанием угодить императору. Просьба Франции об услуге дает ему случай не только не оказать ей услуги, но даже повредить ей.
Чернышев уехал в Стокгольм в последних числах ноября. Чувствуя, что выступает на первые роли, что значение его возрастает, в восторге от поручения, отвечавшего его вкусам и талантам, он бодро пустился в путь и храбро боролся с трудностями, которые создавали ему во время его зимнего путешествия и природа, и дурное время года. Во время переправы через залив ему пришлось пробираться между Аландскими островами “частью пешком, по чрезвычайно тонкому льду, частью на лодке”.[633] Буря задержала его на три дня на пустынном островке, вследствие чего он мог приехать в Стокгольм только ночью с 1 на 2 декабря, страшно измученный и полузамерзший. Оказанный ему в шведской столице прием вернул ему силы. Тотчас по приезде его предупредили, что наследный принц будет очень рад повидаться с ним. Следовало только, чтобы молодой путешественник, по правилам этикета, был сначала представлен Карлу XIII. Чернышев исполнил эту формальность, и тотчас же после аудиенции у короля русский посланник, генерал Сухтелен, проводил его к Бернадоту. Шведский министр иностранных дел Энгерстрем присутствовал при свидании в качестве четвертого свидетеля. Увидев Чернышева, Бернадот тотчас же пошел ему навстречу, бросился ему на шею в буквальном смысле этого слова и несколько раз крепко облобызал. Благодаря присутствию обоих министров, сцена свидания ограничивалась некоторое время этой пантомимой и обычными уверениями в дружбе, но, “когда принц отошел немного от присутствующих”, Чернышев, улучив минуту, намекнул ему, что у него есть к нему поручение, которое должно устранить нежелательное недоразумение по поводу личных чувств русского императора, и что он просит Его Высочество соблаговолить дать ему частную аудиенцию. Крайне заинтересованный, Бернадот назначил свидание на другой день, в воскресенье, после проповеди. (С тек пор, как Бернадот вступил на Шведскую землю, он сделался усердным лютеранином и считал долгом добросовестно соблюдать все обряди религии, которых крепко держались его будущие подданные). Но, с ужасом думай о России, он, не откладывая до завтра, решился осведомить Чернышева со своими взглядами на политику, которой хотел держаться по отношению к ней. Он ничего так не желает, – сказал он, – как поддерживать с Россией наилучшие отношения и никогда не делал ей ни малейших затруднений. “Его Императорское Величество может двинуть свои войска на Восток, на Юг, на Запад”, – Швеция будет спокойна. Швеция отлично понимает, что ее безопасность зависит только от соседнего государства. Она может забыть весь свет, но не Россию. Все это было сказано второпях, полушепотом, но горячим и убежденным тоном. Затем, подойдя к присутствующим, принц “говорил только о безразличных вещах” В воскресенье после проповеди, когда они свиделись без свидетелей в кабинете принца, тот первый заговорил вполне откровенно. Он сказал, что будет говорить, “как с самим собой”. Правда ли, – спросил он, что Россия хочет принудить Швецию к известным решениям? Если это так, то Россия более, чем достигла этого, так как только страх ее вмешательства привел к объявлению войны англичанам – к этому гибельному для страны поступку. Конечно, справедливость требует, чтобы и Швеция “внесла свою лепту в дела континента”. Но отчего же не принять соображение ее положения и ее средств? Более восьми, или десяти месяцев она, не в силах обойтись без доставляемых ей Великобританией колониальных товаров, что же касается конфискации уже выгруженных и сложенных в амбарах товаров, то об этом нечего и думать. Этого не допускают ни уважение к частной собственности, ни законы Швеции. К тому же, Бернадот крайне скептически, относился к мысли воздействовать на Англию применением этих строгих мер. По его мнению, тормоз к установлению всеобщего мира был не в Англии, и, не произнося пока имени Наполеона, а пользуясь только перефразировкой, он дал понять, что главное препятствие к миру заключается “в честолюбии и эгоизме французского правительства”.
Из последней фразы Бернадота, полной задних мыслей, Чернышев понял, что может говорить безбоязненно и что его секретные сообщения встретят радушный прием. В своем донесении царю он говорит: “Подметив истинные чувства принца к Франции и видя, что он по-прежнему откровенен со мной, я сказал ему, что император Наполеон действительно обращался к Вашему Величеству с просьбой поддержать предъявленные им к Швеции требования, но, ввиду того, что со времени Фридрихсгамского мира требования и интересы политики Вашего Величества вынуждают вас желать внутреннего процветания Швеции и сохранения существующих между Россией и Швецией дружественных отношений, вы никоим образом не желаете оказывать давление на волю и решения Швеции, что в этом случае, как и во всех других, она может руководствоваться только своими собственными интересами, без всякой помехи с вашей стороны”.
Едва были произнесены эти слова, как на лице Бернадота явилось выражение величайшего удовольствия, почти восторга; как будто с него свалился тяжкий груз. Он сказал, что теперь ему возвращен покой. Как бы в ответ на полную откровенность Чернышева, он, без всяких околичностей, заговорил о неприятном и тяжелом положении, в какое ставили его французские требования. Разве такого обхождения должен был ожидать он “от государства, которому своей тридцатилетней службой приносил пользу, а, может быть, и честь, разве мог он ожидать чего-нибудь подобного от императора Наполеона, которого изо всех сил поддерживал в известные времена и неоднократно выручал из неприятных и затруднительных положений?” Заговорив на эту тему, он уже не сходил с нее, – и дал заметить и свою беспредельную преданность шведам, и дурные чувства, которые таил в душе против старого товарища по оружию, вcя вина которого состояла в том, что он так страшно обогнал его на пути карьеры, начатой ими в одно время. В этом отношении одна фраза всецело выдала его. “К несчастью, – сказал он, – судьбе угодно было, чтобы из товарища я сделался подданным”. Но, прибавил он, хотя он и простой маршал, он покраснел бы от стыда, если бы ему пришлось рабски подчиняться всем причудам деспотического характера; тем более он не должен переносить “подобных нагоняев” теперь, когда доблестная нация оказала ему честь, избрав его своим главой. Не довольно ли и того, что он привез в подарок шведам разорительную войну. Далее он говорил, что его мучит мысль, что он так дурно отплатил Швеции за здоровье, что эта мысль составляет несчастье его жизни; что он никогда не утешится. Его высокопарные и пылкие выражения, свойственные южанам оживленные жестикуляции, напыщенная речь, до гасконского произношения включительно, от которого он никогда не мог отделаться – все это придавало еще более пикантности странным признаниям, которые с наслаждением выслушивал Чернышев.
Видя, что Бернадот заговорил без удержу, Чернышев не прерывал его и только изредка вставлял свое слово с целью добиться от него еще более важного признания. Вскоре, как бы желая отблагодарить императора Александра за благосклонно-сочувственное отношение к его тяжелому положению, в особенности за то, что тот входит в его положение, и, сильнее подчеркивая сказанное им накануне, Бернадот сказал, что от своего имени и от имени шведского правительства обязуется честным словом: “ни при каких обстоятельствах не предпринимать ничего такого, что мало-мальски могло бы причинить неудовольствие” Его Величеству, императору, всей России. Он сказал, что не примет участия ни в чьих распрях, никогда не будет действовать заодно ни с Польшей, ни с Турцией, даже тогда, когда инициатива враждебных действий будет исходить от Петербурга. “Его Императорское Величество может вести войну с Константинополем, Веной или Варшавой, и Швеция не шелохнется. Жить всегда в единении с Россией – вот ее единственная цель”. С этих пор Россия должна смотреть на нее “как на свой верный сторожевой пост”, и верить, что новый наследный принц “стал человеком, всецело преданным Северу”. Такими речами, продолжавшимися в течение двух часов, Бернадот преисполнил сердце Чернышева радостью и надеждой. В заключение, желая сделать еще шаг к сближению, он пригласил Чернышева на другой день позавтракать запросто, вдвоем.
В период этих разговоров французский представитель в Швеции бессознательно оказал содействие планам Чернышева и облегчил его задачу. Барон Алькиер был человек деятельный, с твердым характером. К несчастью, как бывший член Конвента, где он подавал голос за самые гнусные меры, он сохранил от своего якобинского прошлого оттенок резкости и нетерпимости. Он был груб в обращении, обладал полным отсутствием такта и в придачу ко всему этому сохранил замашки члена народного Конвента. Вместе с тем, дурно сложившаяся семейная жизнь и незаконная семья, которую он привез из Неаполя в Стокгольм, не позволили ему бывать в свете, где, по своему положению, он должен был играть выдающуюся роль. Это ложное положение, причинявшее ему немало страданий, делало его еще более желчным и раздражительным. Из-под вышитого мундира дипломата в нем проглядывал характерный, своенравный революционер, и, что еще хуже – революционер ожесточенный. Его слова дышали надменностью, язвительностью и задором; он только тем и занимался, что бранил правительство и страну, при которых состоял представителем.
О наследном принце он говорил в совершенно неприличных выражениях. Он охотно допускал, что “принц добрый малый, добрый человек и не без талантов”, но с южной, горячей, “вулканической головой”. Он говорил, что принц легко поддается самым разнородным внушениям, что у него на дню семь пятниц, никакой последовательности в мыслях; полное или почти полное отсутствие характера – ничего такого, что требуется от него, как от человека, на долю которого выпала задача овладеть положением в тяжелые времена и подавить волнения, сделавшиеся в Стокгольме хроническими и заставляющие думать “о временах террора во Франции”. Принц, говорил он, никогда не сумеет восстановить порядок хорошим государственным переворотом, а, между тем, это единственное “что могло бы спасти Швецию”. Шведов же Алькиер считал народом легкомысленным, заносчивым, пустомелями и называл “северными гасконцами”. Впрочем, он признавал, что положение их отчаянное, что полный разрыв с Англией поставит их в самое бедственное положение, и не скрывал, что в инструкциях ему предписано требовать почти невозможного. Тем не менее, говорил он, раз такова воля императора, следует, чтобы невозможное свершилось. Он говорил это всякому встречному и более всего Чернышеву. Чтобы доказать, что Франция располагает Россией, он делал вид, что состоит в самых близких отношениях с эмиссаром русского двора, относился к нему с полным доверием, – что было громадной ошибкой с его стороны, – и распространял по городу, что флигель-адъютант царя приехал исключительно с целью вразумить упрямую Швецию.
Своими оскорбительными речами, которые не оставались неизвестными Бернадоту, он, без всякого повода, без всякой надобности, обижал и раздражал принца. В тот день, когда Чернышев завтракал у Бернадота, тот, лишь только сели за стол, “выслал лакеев” и тотчас же в выражениях, полных горечи, намекнул на слова французского посла и на приписываемые им России намерения. Видя, как он расстроен и удручен, Чернышев счел это обстоятельство чрезвычайно удобным, чтобы повторить свои утешительного свойства сообщения и постарался посильнее подчеркнуть их значение, ибо, думал он, при данных условиях они должны произвести еще большее впечатление. Поэтому он еще раз сказал, и положительно утверждал на все лады, что Россия никогда не примкнет ни к каким принудительным и суровым мерам против Швеции; что его государь нарочно прислал его, чтобы, полагаясь на скромность принца, передать ему свое непоколебимое решение.
При этих словах, вполне успокоившись, вне себя от радости, Бернадот не знал, как выразить свою благодарность. Он придумывал, как бы придать большую цену вчерашним уверениям. Накануне он дал честное слово никогда ничего не предпринимать против России, теперь же он давал клятвенное обещание и заговорил уже о письменном обязательстве. В дальнейшем разговоре он выставлял себя жертвой Наполеона. Его чрезмерное, мешавшее ему верно смотреть на вещи, тщеславие заставляло его иногда делать наивные промахи. Так он додумался до того, – и не на шутку воображал это, – что император завидует ему. – Император, – сказал он, – всегда обставлял его так, чтобы погубить его, что “император очень заботился, чтобы одной славой на свете было меньше. Если он так сурово относится к Швеции, то, конечно, делает это не только из желания властвовать над всем миром, но также и “из чрезвычайного нерасположения к нему”, из желания напакостить и сделать неприятное ему, Бернадоту. А между тем, сколько услуг оказал маршал Бернадот своему бывшему главе? Из каких только затруднений не помогал ему выкручиваться? Он неумолкаемо говорил о своей самоотверженности, о своем бескорыстии, и все его слова клонились к тому, чтобы доказать, что Наполеон был ему всем обязан и всегда платил ему черной неблагодарностью. Но, – сказал Бернадот, возвращаясь к прежней теме разговора, – тона, принятого с недавнего времени со Швецией, нельзя допускать во второй раз, и, воодушевляясь мало-помалу, опьяняясь своими собственными словами, он не удовольствовался обещанием России доброжелательного нейтралитета, а дошел до того, что начал строить предположения о разрыве и войне с Францией. Он скорее готов “с честью погибнуть с оружием в руках, – говорил он, – но не позволить унизить нации, которая избрала его своим вождем. Если Россия не вмешается в дело, император Наполеон не будет в состоянии добраться до нее, да если бы он и смог сделать это, посмотрим еще, чью сторону возьмут французские солдаты, раз они будут на шведской территории. Солдаты хорошо знают его, любят и уважают; он командовал ими во многих случаях и может до известной степени рассчитывать на них”.
“В это время, – прибавляет Чернышев в своем донесении, – разговор был прерван, и принц, которому нужно было ехать на парад, пригласил и меня. Перед фронтом Чернышев увидал снова того блестящего генерала, которого знавал в армии на Дунае, вождя с осанкой Марса, с орлиным взглядом, с развевающимися по ветру густыми волосами. Что его особенно поразило в Бернадоте, так это полная непринужденность, с какой он вошел в свою новую роль. Ничто не давало в нем чувствовать случайного человека; ни одного неверного или неуместного движения. С спокойным достоинством делал он смотр войскам, прекрасно держал себя перед собравшимся народом, принимал прошения, раздавал деньги бедным, принимал почести и приветствия, как будто был рожден царствовать.
Бернадот расстался с Чернышевым только для того, чтобы отправиться к королю, которому оказывал самое глубокое почтение. На другой день он снова пожелал повидать русского офицера. На этот раз он оставил его у себя завтракать и обедать. Ввиду того, что Чернышев не мог дольше откладывать своего отъезда в Париж, принц, прежде чем окончательно расстаться с ним, передал ему одно письмо для, императора Наполеона, другое – принцессе Полине. В первом он просил небольшой отсрочки для выполнения своих обещаний, во втором просил принцессу Полину быть его заступницей. Он просил и Чернышева оказать ему в Париже ту же услугу, т. е. взять под свою защиту его дело, ознакомить императора с печальным положением Швеции и просить снисхождения. Дело в том, что пока еще он боялся держать себя вызывающе с Наполеоном, и одну из причин, заставивших его отложить ссору, он не скрыл от своего нового друга. “Принц, – писал Чернышев, был настолько откровенен, что сказал мне, что вынужден сдерживать себя, ибо Швеция так бедна, что ему необходимо извлечь из Франции все свое имущество до последнего франка.
Но эта благоразумная осторожность не помешала ему, несколько минут спустя строить самые геройские планы. Пусть Наполеон, – говорил он, воздержится от нападения на Швецию; он может наткнуться “а вторую Испанию. “Если воодушевить шведов и талантливо руководить ими”, их можно сделать непобедимыми – и Бернадот уже видел себя укрывшимся в северных льдах, окруженным верным народом, подающим миру великий пример твердости и отваги.
Придумав для себя эту блестящую роль, он хвастливо рисовался в ней перед своим слушателем. Несмотря на то, что увлекаясь пылким воображением и страстью к хвастовству, он позволял себе иногда строить и развивать подобные планы, в нем было слишком развито понимание истинного положения вещей, чтобы серьезно останавливаться на своих мечтаниях. Осторожный и предусмотрительный, несмотря на свое фанфаронство, он думал про себя, что по всей вероятности, и для усыновившего его отечества, и для него лично ссора с Францией будет менее опасна, чем ссора с Россией; что они могут оставаться даже в выигрыше, и в этом-то отчасти и был секрет его поведения. По его мнению, предполагая даже, что победоносная война вернет шведам Финляндию, успех этот будет слишком кратковременным. Он будет только поводом к целому ряду войн, и победа, в конце концов, останется за тем, у кого больше батальонов, т. е., за государством, располагавшим сорока миллионами человек против четырех. Наоборот, если Швеция примирится с потерей Финляндии, если она бесповоротно откажется от мысли вернуть свои потери на континенте, если ограничит свои задачи Скандинавским полуостровом и на нем спокойно будет расширять свои владения, она не только обезоружит вражду своей грозной соседки, но и приобретет в ней покровительницу, и, таким образом, обеспечит безопасность своей единственной незащищенной границы. Устранив себя от Европы и ее великих дел, она поставит себя в более скромное, но зато более верное положение, положит начало своему спокойствию в будущем, не отказываясь, однако, от права получить немедленно весьма ценные возмещения. Не выгоднее ли ей искать не реванша, а компенсации? Вместо того, чтобы упорно смотреть на Восток – на Финляндию, отчего не обратить свои взоры на Запад – на Норвегию, которая как бы сама собой напрашивается ей в вознаграждение? По приезде в Стокгольм Бернадот в главных чертах предусматривал этот план, который ему пришлось осуществить впоследствии и который дал ему случай сыграть в истории роль не столько славного, сколько полезного деятеля.[634] Но он не смотрел еще на этот план, как на нечто непреложное. Склонный преувеличивать значение своих наблюдений, Чернышев, без сомнения, зашел слишком далеко, донося в Петербург, что император Александр отныне же мажет располагать наследным принцем и вертеть им, как ему угодно.[635] Как человек практичный, Бернадот будет считаться с обстоятельствами и руководствоваться их указаниями. Во всяком случае, корда наступит для него время окончательного решения, главную роль будут играть два элемента, с которыми он сроднился: политическая идея и страсть. С одной стороны, создавшееся в его уме представление об истинных интересах Швеции, с другой – ненависть к Наполеону всегда будут давать сильный перевес в пользу России! Быть может, Чернышев и заблуждался, приписывая уже теперь непреодолимую силу этим двум двигателям, но он отлично подметил и тот и другой двигатель, и, по всей справедливости, мог похвастаться, что не только подметил, но и сумел воспользоваться ими. Для этого стоило пожертвовать несколькими днями и задержать доставку письма, в которой Александр отвечал на требования Франции вежливо, но уклончиво.
III
Еще задолго до приезда Чернышева Наполеон из других источников узнал, что Россия откажется присоединиться полностью к его системе ведения войны. В последних числах октября Куракин передал ноту, в которой его правительство, вместо того, чтобы высказаться по двум вопросам – о тарифах и нейтральных судах – ограничилось неопределенными обещаниями содействия и утверждения строгого надзора за судами. В это время с Севера прибыли знаменательные вести. Часть собравшихся в Балтийском море судов, полное число которых дошло теперь до тысячи двухсот, выгрузили свою кладь в России. Громадный транзит товаров по-прежнему шел через Россию, наводнял колониальными товарами великое герцогство и снабжал ими Германию. Под впечатлением этих фактов Наполеон приказывает приготовить ответ на ноту Куракина. Он хочет, чтобы он был составлен “крайне вежливо и мягко”, но содержал в себе “истины, которые не мешали бы знать России”[636]. В нем, в весьма энергичной форме будут воспроизведены все наши доводы и наши просьбы, и в заключение будет сказано: “Доколе английские и колониальные товары будут идти через Россию в Пруссию и Германию, доколе мы будем вынуждены задерживать их на границах, до тех пор будет очевидным и тот факт, что Россия не делает того, что надлежит, дабы нанести вред Англии”.[637] Набросав план этой ноты, император поручил Шампаньи оформить ее, как вдруг в первой половине ноября получил отчет о разговорах Александра с Коленкуром, в которых царь принципиально высказался против поголовного изгнания нейтральных судов. По этому заявлению о невозможности согласиться на его просьбы, которое как бы заранее служило ответом на его письмо, он понял, что ему сказано достаточно. Теперь он потерял всякую надежду на то, что его выслушают с должным вниманием и исполнят его просьбы и понял, что Россия никогда не поможет ему доконать Англию.