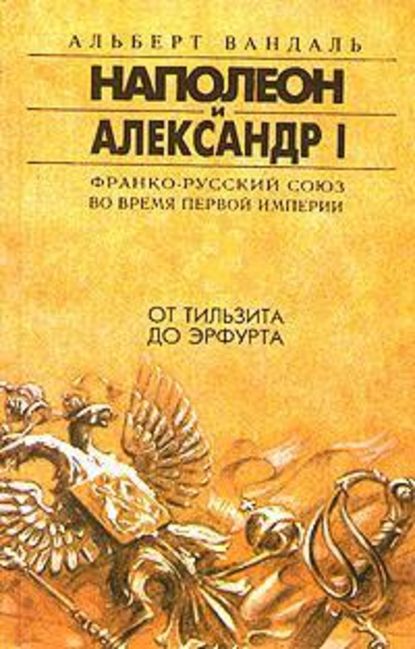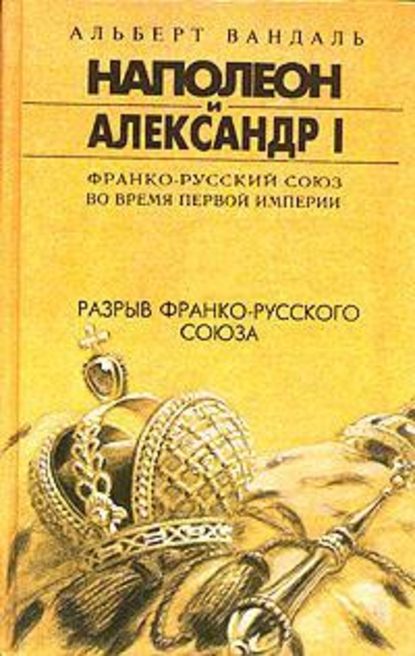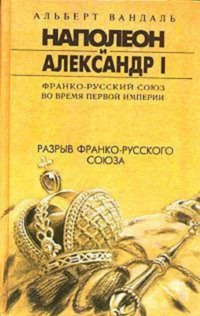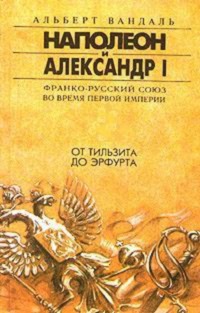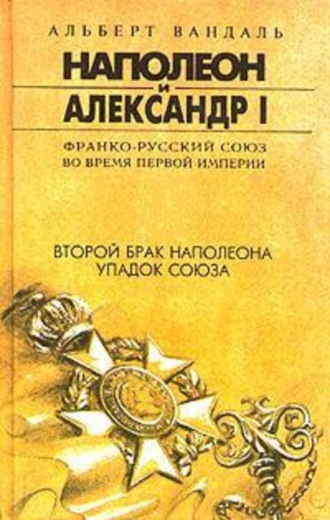 полная версия
полная версияВторой брак Наполеона. Упадок союза
Признав совершившийся факт, он счел нужным уверить Россию, что не принимал в этом деле никакого участия. На этот раз он не ограничился простыми уверениями; он хотел доставить доказательства и оправдаться с документами в руках. Он сообщил царю свою переписку со шведским королем, в которой, действительно, говорилось только о принце Августенбурге, и указал на отозвание Дезожье, как на удовлетворение, данное своему союзнику. Затем приказал напечатать в Moniteur'e статью, содержащую точный переcказ о совершившихся в Эребро событиях, В то же время он отдал Шампаньи следующее приказание: “Вы напишете герцогу Виченцы, что я ни при чем во всем этом деле; что я не мог противиться единодушной просьбе; что я желал избрания или принца Августенбурга, или датского короля. Вы подчеркнете, что все это безусловная правда; что, следовательно, герцог Виченцы должен заявить об этом искренним, полным достоинства, тоном, и затем не возобновлять об этом разговора. Если же будет выражено сомнение, он должен продолжать говорить в том же духе, так как это правда, а правду всегда следует защищать”.[587] Но, как ни старался он придать силу своим уверениям, он не заблуждался насчет их значения. Он понимал, что Россия не поверит ему; что, во всяком случае, от нее не ускользнет, что Франция наблюдает за ней, что сфера влияния Франции охватывает ее все более. Он сознавал, что теперь был сделан новый, и, быть может, решительный шаг на пути к охлаждению.
Во время сессии сейма русский двор держался выжидательной тактики и ничем не проявлял себя. Он тщательно избегал вмешиваться в дело, как будто хотел предоставить французским интригам возможность развиться на свободе, как будто копил свои обиды. Наполеон неоднократно заявлял, что так как он принципиально исключает кандидатуру принца Ольденбургского, он тем самым предоставляет царю полную свободу сделать то же самое относительно кандидатуры Бернадота. Александр не воспользовался предоставленным ему правом, и его безразличное отношение немало удивило императора.
Когда результат выборов стал известен, в Петербурге поднялась целая буря негодования. Никогда еще салоны не оглашались такой бранью по адресу Франции. “Это время, – писал позднее Коленкур, – было одним из самых трудных, какие только приходилось мне переживать здесь”.[588] Как и всегда, спокойствие государя составляло полный контраст со взрывом враждебных чувств в обществе. Александр все еще старался никаким внешним проявлением не выдавать своего сочувствия общественным страстям, влиянию которых с каждым днем поддавался все более. Впрочем, можно думать, что он смотрел на происшедшее событие с меньшим страхом, чем его окружающие. Не предвидел ли он, со свойственной ему прозорливостью, что Бернадот, водворившись в Стокгольме, не сделается послушным орудием императора; что он не будет работать на него, что на шведском троне недовольный императором, не склонный к повиновению француз будет для России полезнее всякого другого соискателя? Что такова была его затаенная мысль, доказывает то обстоятельство, что еще в Париже немедленно же явился к маршалу один из его офицеров с поздравлениями и чуть ли не со словами: добро пожаловать. Ответ на это приветствие не заставил себя ждать. Он пришел в Петербург окольными путями. Еще до отъезда из Парижа Бернадот признался, что намерен принести с собой на Север безусловно мирные стремления. Он склонялся к мысли, что лучший способ служить усыновившей его родине – это не поддаваться воинственным стремлениям партии, которая пользовалась его именем и выставляла его, как будущего мстителя за Швецию. “Я знаю тернии этого положения, – сказал он, говоря о своем новом сане. – Я избран небольшой партией, и не ради моих прекрасных глаз, а как вождь, с условием, которое обходят молчанием, – отвоевать Финляндию. Но начинать из-за этого войну было бы безумием, к которому я не приложу своих рук”.[589] Эти слова были сказаны в присутствии Меттерниха, который передал их в Вену. Там они дошли до Шувалова, сообщившего их в Петербург, где они послужили первым оправданием надежд Александра. Несмотря на то, что это сообщение почти успокоило царя, все-таки его встревожил и рассердил подмеченный им у императора умысел доставить себе новые средства к нападению и диверсии, – его стремление окружить Россию врагами, сплотить и поднять против нее второстепенные государства Севера и Востока. Под давлением этой мысли его недоверие усилилось и дошло до ожесточения, и результатом авантюры, открывшей путь к престолу Бернадоту, было то, что неприязнь России к нам возросла, а Швеции мы не приобрели.
IV
В отношениях Наполеона и Александра была одна особенность: всякое вновь возникавшее между ними трение тотчас же отражалось на болезненно-чувствительном пункте их политики. Так было и с событиями в Швеции: они ухудшили польский вопрос; они обострили его и сделали более жгучим. Правда, в своих любезных, но бессодержательных письмах, императоры считали бесполезным возвращаться к нему, воздерживались возобновлять уже исчерпанный спор. Но в сокровенных мыслях каждого из них. Польша с каждым днем занимала все более важную роль. И тот, и другой, прекрасно сознавая, что им придется воспользоваться ею в предстоящей борьбе, снова сделали ее предметом своих сокровенных планов; они старались втихомолку кое-что подготовить там в свою пользу, и сделали еще шаг вперед на пути враждебных интриг в стране, где предполагали встретиться и где в глубокой тайне друг от друга работали бок о бок.
Считая, что война делается все более вероятной, Наполеон обстоятельнее рассматривает средства, которыми ему придется пользоваться, и, мысленно заглядывая в арсеналы, где его политика держит всегда готовое к бою оружие, он прежде всего останавливается на Польше. Он думает о том, какую выгоду может он извлечь из варшавян и их соотечественников в России в том случае, если вспыхнет война. Он думает, что для того, чтобы возбудить мужество поляков, чтобы заставить их служить его целям, полезно будет дать им понять, что воскресение их родины, в том виде, как они сами понимают это, – не призрак, а дело вполне возможное. Он думает, что восстановление Польши, до сих пор допускаемое им только, как условная возможность, займет в войне с Россией, быть может, первое место. Но эта мера влечет за собой разного рода вопросы и затруднения: нужно заранее обсудить их, подготовиться к ним, составить новую карту Европы – словом, обставить дело так, чтобы Польша вполне естественно могла найти и снова занять в ней прежнее свое место, и только теперь идея, которую доселе так часто и так неосновательно приписывали Наполеону, впервые принимает в его уме определенную форму; только теперь срывается она у него с языка. 20 сентября в присутствии Меттерниха, который, по обыкновению, наблюдает за ним и подслушивает его мысли, он решается сказать: “В тот день, когда я вынужден буду начать войну с Россией, у меня явится сильный и ценный союзник в лице польского короля”.[590]
Теперь мы видим, что этими словами он оправдал упорное недоверие к нему Александра. Но нужно заметить, что, если бы он мог читать мысли царя, он нашел бы в нем свой собственный замысел, дошедший, по меньшей мере, до той же степени развития. В это время Александр склонен был искренно и серьезно следовать советам Чарторижского; он сам не прочь был осуществить мечту варшавян, сам хотел преобразовать и присоединить к себе Польшу и воспользоваться ею, как орудием нападения, т. е., свершить дело, в намерении осуществить которое он постоянно подозревал и обвинял Наполеона. Незадолго до этого он постарался найти себе для сношения с поляками новых посредников в самой Польше. Несколько влиятельных лиц были осведомлены о его планах и посвящены в подробности дела. Его проект получил настолько определенный и солидный характер, что вскоре о нем заговорили в известных кругах, и слух о нем не мог не дойти до наших агентов. Один из них, отправленный наблюдать за границами Австрии, Турции и Польши, проезжая в ноябре через Варшаву, пишет оттуда, обращая наше внимание на то, что существует план, которым страшно увлекается русский император и который не встречает возражений в провинциях русской Польши. План этот, – восстановление польского королевства, сохраняющего свою независимость и свои привилегии, но навсегда присоединенного к Российской империи, подобно тому, как в настоящее время Италия присоединена к Франции. Разработка этого проекта поручена графу Яну Северину Потоцкому. Несмотря на усилия русских скрыть его, он получил здесь широкую огласку. Он не особенно улыбается им, но он слишком льстит их эгоизму и их ленивой беспечности, чтобы не найти сторонников среди знатных вельмож русско-польских провинций, которые весьма склонны отнестись к нему сочувственно. К тому же, он найдет сильную поддержку в фанатически настроенных греках. Имеется в виду пригласить великое герцогство Варшавское присоединиться к большей половине прежней Польши. Таков план, который Россия намерена осуществить при первом сигнале войны, и было бы крайне важно заблаговременно выступить с подобным же планом, ибо такое выступление разделит поляков на две партии, и, по меньшей мере, вызовет между ними раздор”.[591]
Кто бы ни взял на себя инициативу восстановления Польши – Франция ли, Россия ли – им неизбежно придется считаться с третьим лицом. Этим лицом была Австрия. Необходимо было заранее узнать ее мнение, следовало обсудить вопрос совместно с нею, вознаградить ее и привлечь на свою сторону, в противном случае могли встретить в ней врага. Дело в том, что при осуществлении проекта Австрия почти неминуемо должна была потерять всю оставшуюся за нею часть Галиции. Этот оторванный кусок Польши стал бы тяготеть к своему телу, эта часть ее непреодолимо стремилась бы слиться воедино с восстановленным государством и, конечно, была бы поглощена им. Чтобы примирить Австрию с этой жертвой, необходимо было предоставить ей крупное вознаграждение, предложить ей обмен непрочной части Галиции на более солидные приобретения. Таким образом, ближайшей задачей было обсудить с нею вопрос о вознаграждении. Для начала необходимо было как можно скорее запастись средствами для сближения с Веной и заручиться ее доверием. И император, и царь, действуя под большим секретом, будут прилагать все усилия сблизиться с Австрией и втянуть ее в свою игру.
Упоминая в присутствии Меттерниха о Польше, Наполеон имел в виду выведать мнение министра. Яснее он высказался в дальнейшем разговоре. Нужно сказать, что и теперь он не имел в виду заключение союза с Австрией и не рассчитывал воспользоваться ее вооруженным содействием. Он был далек от этой мысли. Наблюдая за тем, что происходит в Вене, видя, что там по-прежнему живет неизгладимое чувство горечи и недоверия, он не верил, чтобы австрийцы и французы – побежденные и победители при Ваграме – могли искренно и без задней мысли маршировать рука об руку. Но он не довольствуется уже простым нейтралитетом, – он требует, чтобы Франц I и его советники сделались его пассивными сообщниками, чтобы они заранее обязались признать и одобрить те переделки в Европе, которые могут потребоваться будущим положением вещей. Имея это в виду, он теперь же старается сговориться с ними о их будущем вознаграждении. Из всех утраченных владений Австрия ничего так не желала вернуть себе, как берега Адриатического моря с их гаванями. Поэтому уже теперь Наполеон говорит Меттерниху: “Все это может быть вам возвращено; эти области для меня то же, что концы волос”.[592] Затем, намекнув на возможное возрождение Польши, он добавил: “Скажите, вы не откажетесь в надлежащее время начать переговоры ради обмена части Галиции на равную часть этих провинций?.. Если мне удастся избегнуть войны c Россией, – тем лучше, в противном случае, лучше заблаговременно определить, что делать после войны”.[593] После этих слов он довольно продолжительное время говорил на тему, что, вернув себе побережье, Австрия будет в выигрыше. Он сказал, что за это он не потребует активного содействия; что способ, каким русские оказали ему содействие в 1809 г., вселил в него отвращение к коалициям; что он не просит и даже не хочет ответа на свои предложения; что в том случае, если император Франц допустит в принципе идею обмена, пусть он начнет, мало-помалу, продавать владения короны в Галиции, а он из этого поймет, что Австрия не отказывается сговориться с ним о возможных последствиях кризиса, которого можно ждать в недалеком будущем.
Заручившись этим признанием, Меттерних нашел, что его осведомительная миссия выполнена, и приготовился покинуть Францию. Он был уверен, что разрешил вопрос, выяснить который было его задачей, Теперь он располагал основой, на которой мог построить все свои расчеты. Из последних слов императора он понял, что конфликт с Россией, за зарождением которого он так тщательно следил, по всему, вероятно, состоится. Предстоящая война, которая будет самым выдающимся событием недалекого будущего, открывала честолюбивым стремлениям его двора широкие горизонты. Австрии, которая будет на флангах обеих воюющих сторон, мог представиться случай бросить на весы решающий груз. С другой стороны, всякая неосторожность в начале кампании могла подвергнуть ее в подготовлявшейся грозной схватке смертельной опасности и, быть может, даже гибели. Она может с пользой проявить свою деятельность только в том случае, если будет весьма заботливо держаться выжидательной политики. В данный же момент Меттерних видит только один способ действовать: не принимая активного участия в войне, согласиться на предложения императора и принять обмен Галиции на иллирийские провинции. Поэтому он хочет посоветовать своему повелителю дать согласие на эту выгодную уступку, ибо, став на эту почву, император Франц но будет иметь повода бесповоротно ссориться с русскими, не станет к ним в враждебные отношения. Он сохранит за собой право перейти снова на сторону русских и использовать в своих интересах их успехи, если в один прекрасный день непостоянная богиня счастья перейдет в их лагерь, но при этом он будет иметь возможность обеспечить за собой гарантии и некоторые выгоды в том, гораздо более вероятном случае, когда победу одержат французы. Доведя Наполеона до того, что тот во всех своих планах принимал в расчет австрийские интересы, Меттерних достиг очень многого, и возвращался в Вену с уверенностью человека, исполнившего свой долг, радуясь тому, что привезет добрые вести, и с полной надеждой на радушный прием.
Но в Вене его ждал неприятный сюрприз. Можно судить, каковы были его изумление и гнев, когда он узнал, что незадолго до его возвращения завязавшаяся без его ведома тайная интрига могла уничтожить все плоды его миссии и бросить Австрию на самый опасный путь. И в этот раз Россия опередила Францию. Действуя уже несколько недель с удвоенной энергией, она достигла в Вене удивительных успехов. Более требовательная, чем Наполеон, она просила союза, и австрийский кабинет готов был согласиться. Огорчение и досада Меттерниха были тем чувствительнее, что его родной отец, которому он, ради сохранения за собой министерского кресла, предоставил председательствовать вместо себя в совете, ускользнул из-под его руководства и попался в сети русской дипломатии. Временный заместитель министра позволил себе следовать собственной политике, совершенно противоположной политике самого министра, задержанного вдали миссией, обещавшей столь ценные результаты. Пока сын, рассчитывая каждый шаг, крайне осторожно и осмотрительно шел навстречу Франции, отец его, не отдавая себе отчета в своих деяниях, внезапно бросился в объятия России.
Старому князю Меттерниху не доставало необходимой гибкости, чтобы вести игру, подобную той, какую с таким искусством вел его сын; он не сумел (удержаться в равновесии между Францией и Россией – так, чтобы, не переходя на сторону Франции, только немного склониться к ней. Сначала князь более, чем следовало, склонился к французам, но затем, не встретив с этой стороны поддержки, грузно опустился в объятия России. Несмотря на то, что русские победой при Батине и занятием крепостей блестяще закончили войну на Востоке, он все более цеплялся за надежду убедить их быть более умеренными и ограничить свои требования на Дунае, предлагая им за это союз гарантии в других местах.
Как мы видели, увлечение князя было подмечено Шуваловым, получившим приказание воспользоваться этим обстоятельством. Чтобы завязать более близкие отношения с князем Меттернихом, Шувалов подружился с Гюделистом, доверенным лицом князя, чиновником, занимавшим высокое положение в государственной канцелярии. “Живя на положении путешественника, – писал Шувалов, – я пригласил Гюделиста пообедать к себе, запросто. Он пришел; вероятно, получив на это разрешение”.[594]
Во время обеда завязался разговор, пошли на откровенности, и Гюделист кончил тем, что сказал, что, если бы Россия пожелала сблизиться, Австрия не прочь сделать полпути в этом направлении.[595] На эти слова петербургский кабинет немедленно же ответил предложением тайного договора. По виду дело шло о самом скромном акте. Оба двора– должны были дать простое обязательство “ни в каком случае не оказывать помощи”[596] третьему лицу при нападении на одного из них. Но мысль русских шла дальше их письменных предложений. Шувалову было поручено, одновременно с представлением проекта о договоре, возобновить предложение “об обмене восточной Валахии на некоторый части Польши”.[597] В Петербурге думали, что таким путем было бы положено необходимое начало для дальнейших соглашений. К тому же, недурно было приучить австрийцев к мысли отказаться от своих польских территорий и сделать их предметом торга. Кроме того, там говорили себе, что, раз Австрия будет связана подписью или каким-нибудь договором, не трудно будет привлечь ее окончательно на свою сторону; что, если бы возродились прежние дружба и доверие, получилась бы возможность во всех событиях идти дружно рука об руку. Эта сокровенная мысль выходит наружу в частном письме канцлера Румянцева Шувалову, которое было полно лести и любезностей по адресу князя Меттерниха и его правительства. “Его Величество, – пишет Румянцев, – в некотором роде уже предупредил шаги, только что сделанные венским двором навстречу петербургскому. Тем лучше, Дружба императоров, ввиду того, что оба они отлично сознают ее пользу, сделается от этого только прочнее. Вот все, чего я желаю. Император очень доволен вами, граф, и надеется, что вы доведете до конца так хорошо начатое вами дело. Благоволите поблагодарить князя Меттерниха за его добрую память обо мне. Я с удовольствием вспоминаю время, проведенное в его обществе, и охотно признаюсь всем, что часто пользовался его светлым умом и опытностью. Сколь был бы я польщен, если бы нам обоим суждено было возвратиться к былому счастливому времени, когда оба кабинета ничего не предпринимали без общего согласия”.[598]
Начатые такими любезностями переговоры пошли быстрым темпом. Меттерних-отец сделал доклад императору Францу, который одобрил его поведение и предоставил ему действовать. Единственным затруднением был вопрос о княжествах, переговоры о которых Австрия хотела вести параллельно с вопросом о союзе. Австрия желала добиться от русских, чтобы они дали ей обещание отказаться от некоторых требований, или, по крайней мере, допустили ее сделаться посредницей между ними и турками и предоставили ей право высказать свое мнение об условиях мира. Шувалов не был уполномоченным брать на себя какое-либо обязательство в этом роде. Тем не менее, австрийское министерство было не прочь заключить союз. Договор о простом нейтралитете был на пути к тому, чтобы превратиться в договор о взаимной обороне, и все было направлено к возобновлению союза между обоими древними императорскими дворами, когда неожиданное возвращение Меттерниха-сына, вступившего немедленно по приезде в управление делами, положило всему конец.[599]
Предупрежденный о готовящемся, Меттерних, не теряя ни минуты, помчался, чтобы покончить со всем этим. Только на самое короткое время заехав в Вену, он тотчас же отправился в Штирию, где находился император Франц; добился, что слабохарактерный монарх признал недействительными “предварительные” переговоры с Россией и убедил его отклонить русские предложения. После этого Меттерних вернулся в Вену, повидался с Шуваловым, и в любезном до приторности разговоре, уснащенном самыми изысканными фразами, но, тем не менее, вполне ясном, разрушил надежды русского посла. Австрия, сказал он ни с кем не может связывать себя обязательствами. Он утверждал, – и это была правда, – что не подписывал с Францией никаких обязательств, что его политические и личные симпатии влекут его к Петербургу. Но, прибавил он, настало ли время сбросить маску и обнаружить эти чувства? Далее он продолжал, что дружба между австрийским и русским государями существует спокон веку, что их взаимное доверие покоится на вековых традициях тесной дружбы и общности интересов. К чему же, в таком случае, компрометировать себя договором, который не ускользнул бы от внимания Наполеона? Что же касается обмена территорий, то Меттерних отклонил это дело с не меньшей энергией, чем Шувалов предлагал. Словом, он прекратил переговоры, вернул себе полную свободу действий и освободил Австрию от уз, которыми она так опрометчиво хотела опутать себя.[600]
Вне себя от такого несчастного оборота дела, Шувалов подумывал было ополчиться против Меттерниха, поискать других путей и действовать помимо и против министра. Конечно, при венском дворе, в этом оригинальном кругу, где скрещивалось столько разнородных влияний, можно было бы поискать посредников обоего пола, которые могли бы повлиять на императора. Император любил свою жену, высоко ставил сестру императрицы – эрцгерцогиню Беатрису, сохранил некоторое расположение к старику Меттерниху, охотно советовался с графом Зичи и не переставал выказывать непонятную слабость к своему секретарю Бальдачи, которого все считали злым гением династии. Шувалов подумал обо всех этих лицах, а затем еще и о других. Однако, перебрав всех, он убедился, что среди них нет никого, кто отвечал бы условиям, необходимым для того, чтобы довести до желанного результата порученное ему щекотливое дело, и кто мог бы подорвать кредит могущественного министра. В депеше, в которой он изливает свою досаду и признается, что дело его проиграно, он несколькими бойкими штрихами, посвященными каждому из этих лиц, набрасывает картину, не особенно лестную для приближенных монарха. “Императрица, говорил он, очень умна и желала бы вмешаться в дела, но ее августейший супруг устраняет ее от них. Князь Меттерних не пойдет открыто против сына, не говоря уже о том, что он может сказать императору только выученный заранее урок, да и тот наполовину забудет. Гюделист только у князя имеет значение. Эрцгерцогиня Беатриса боится вмешиваться в дела и не желает видеть своего имени в Moniteur'e. Граф Сикинген моя бы еще замолвить слово, но он в хороших отношениях с лицами, преданными графу Меттерниху. Остальные ничего не могут сделать, исключая Зичи, которого нужно подкупить, и Бальдачи. Но это уже последнее средство”.[601]
Спустя некоторое время после этой, блестяще начатой и печально окончившейся кампании, Шувалов, назначения которого всегда бывали только временными, был отозван. В это время аккредитованный посланник Штакельберг приехал уже в Вену. Штакельберг неоднократно пытался возобновить дело о союзе, на Меттерних всякий раз ускользал от него. Он всеми способами отклонял разговоры, избегал с ним свиданий и становился неуловимым, делая вид, что его более всего радует то, что он вернулся в Вену, что может повидаться с друзьями и знакомыми и что занят удовольствиями, а не делами. Со времени своего возвращения, оставаясь верным своим светским привычкам, Меттерних много выезжал и показывался всюду. Очевидно, желая смягчить неудовольствие, которое мог вызвать в Петербурге его уклончивый способ действий, он посещал русские салоны в Вене, где Разумовский и другие продолжали интриговать по-прежнему. Избегая разговоров с официальными и “посылаемыми к нему царем посредниками, он вознаграждал себя за это в обществе русских дам и рассыпался перед ними в любезностях. В то самое время, когда он отказывался выслушать Шувалова и Штакельберга, всеобщее внимание обратило на себя его упорное ухаживание за княгиней Багратион. На его языке это называлось “работать на почве примирения”.[602] Но вместе с тем он поддерживал самые дружеские отношения с французским посланником, который не мог достаточно нахвалиться им. При таком разнообразии способов держать себя, которыми он пользовался с одинаковой непринужденностью, он оставался верным начертанному себе плану: пользоваться благосклонностью Наполеона, не лишая себя возможности при случае сблизиться с другой стороной и войти в милость России.
Правда, русскому двору нужны были не любезности, которыми прикрывался отказ вести переговоры, а нечто более существенное. Его досада изливалась в резких выражениях. В своей переписке русские агенты не жалели оскорбительных эпитетов по адресу Меттерниха. Постигшую их неудачу они всецело приписывали этому государственному человеку, к которому до сих пор его современники относились не без внимания, но, нельзя сказать – с уважением. Шувалов считал его “скорее пролазом, чем умным”. Штакельберг, обладавший острым языком и бойким пером, видел в нем креатуру Наполеона – человека, безгранично преданного императору французов, и объяснял его поведение самыми предосудительными побуждениями. Вспоминая его роль в деле брака и его продолжительное пребывание в Париже, он вывел из этого заключение, что у Меттерниха – преднамеренная цель подчинить Австрию французской воле. “Не приобретает ли такое подозрение, – прибавляет он, – еще большую вероятность, раз есть основание думать, что политическое бытие этого министра зависит от близости с правительством, покровительство которого, правда, устраняет опасность его влияния на монарха, но не спасает его самого, если не от общего неуважения, то, по крайней мере, от недостатка в уважении, необходимом на столь высоком посту! Приведу только один пример, что, в самом деле, можно подумать о министре, часы занятий которого нужно угадывать? – до такой степени увлекается он светскими удовольствиями! Рассказывают о герцоге Шуазеле, что тот с наибольшей пользой служит Людовику XV не в своем рабочем кабинете; это – сущая правда, но наиболее важные дела его министерства обсуждались в салоне министра, а не в будуарах”.[603]