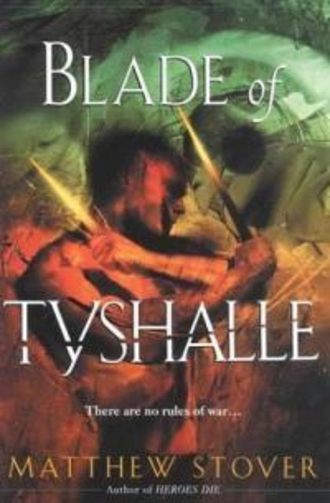
Клинок Тишалла
– Насчет богов спорить с тобой не стану, самодовольный ты сукин сын, – выдавил Дункан.
В тот день он мог сидеть, хотя и был привязан ремнями к поднятой спинке складной койки. Его ложе стояло по другую сторону столика, напротив Тан’элКота. Сквозь редкие седые космы бились, бугрились на черепе вены. Глаза закатывались поминутно, руки непроизвольно подергивались, из уголка рта стекала струйка пенистой слюны…. и все же Дункан оставался в сознании.
Споры о политической философии оставались единственным, что привлекало его внимание. Даже тогда. Прежде чем аутоиммунное расстройство, пожиравшее его мозг клетка за клеткой, начало проявляться, Дункан Майклсон был профессором социальной антропологии, филологом, специалистом по культурам Поднебесья. Он всегда любил споры, даже больше, наверное, чем своих близких.
Он едва не погиб в немом блоке соцлагеря имени Бьюкенена по приговору в антиправительственной деятельности. Причина была проста: он так и не научился вовремя затыкать себе рот.
Хэри никогда не удавалось его переспорить. Он не был склонен к борьбе фантазий за обеденным столом. Хэри всегда был слишком занят тем, чтобы выжить в реальном мире, чтобы тратить время, размышляя, каким этот мир должен быть. Порой он неделями не мог выжать из Дункана членораздельного слова. А вот Тан’элКоту как-то всякий раз удавалось вывести Дункана из той персональной нирваны, где держало старика безумие.
– Плевать на богов, – продолжал Дункан. – Боги тут ни при чем. Важны люди. Важно взаимное уважение .
– Я уважаю то, что уважения достойно, – парировал Тан’элКот. – Требовать уважения, когда оно не заслужено, есть детский каприз. А что в конечном итоге более достойно уважения, нежели служба? Даже твоего идола, Джефферсона, в конечном итоге судят по тому, как достойно он служил своему роду. Цена индивидуализма, его цель – самореализация. Это лишь другое наименование тщеславия. Мы восхищаемся людьми не за то, что они реализовали себя, а за то, сколько блага они принесли при этом человечеству.
– Ха, – отвечал Дункан, утирая подбородок. – Может, самореализация – единственный путь воистину служить человечеству. Может, это такие, как ты, губят его? Когда ты пытаешься служить человечеству, ты превращаешь людей в овец. Пастух тоже желает блага стаду. Но люди овец едят . – Он устремил затуманенный взгляд к Хэри и явственно подмигнул, будто приглашая к столу, к дискуссии, неслышно говоря: «Такие, как ты. Мой сын, хищник».
Тан’элКот промычал нечто, не соглашаясь.
– Овцы, как вид, добились большого успеха. Люди – по крайней мере, в моем мире – нет. Твой индивидуализм неизбежно ведет к появлению людей, которые ставят собственные желания выше блага других людей – многих, а возможно, и блага людей вообще.
– Таких, как Леонардо, Моцарт. Шарлемань. Александр Македонский.
– М-м. Или, – веско произнес Тан’элКот, точно убедился, что завел Дункана в неизбежный логический капкан, – Кейн.
Вот тут Хэри решил, что с таким спором пора завязывать.
– Хватит, – проговорил он, поставив на стол кружку. Слишком решительно – кофе расплескался. – Меняем тему.
– Я не желал нанести обиду… – миролюбиво начал было Тан’элКот.
– Плевать. Я не обиделся. Просто надоело уже слушать.
Дункан словно не слышал; а может, слышал, но решил не обращать внимания.
– Кейн принес много блага множеству людей…
– Сугубо нечаянно, – перебил его Тан’элКот.
– Ты же вроде бы не веришь в случайности?
– Э-эй! – гаркнул Хэри. – Кончайте, оба.
Дункан вяло мотнул головой, пытаясь обернуться к сыну.
– Я пытаюсь тебя прикрыть, Киллер, – пробормотал он дребезжащим голосом.
– Не надо меня защищать, папа, – оборвал его Хэри. – Лучше заткнись.
За катарактой в стариковских глазах сгустилась иная мгла, застилая рассудок от мира.
– Прости… прости…
Этим предрассветным часом те два слова жгли Хэри огнем. Как он мог такое ляпнуть? Как мог вести себя точно мальчишка?
И, как ни обманывай себя, ответ был ему ясен. Тогда рана, возникшая, когда из его жизни был с мясом вырван Кейн, была еще слишком свежа. Он не успел еще приспособиться к неизбежности: ему уже никогда не стать тем человеком. Никогда он не будет так силен. Так уверен в себе.
Так свободен.
Тогда он не понимал, откуда исходит боль. Повторял себе: «Я получил все, о чем мечтал. Я победил, черт! Так в чем, блин, проблема?!» Знал только, что ему все время больно, больно, и оставалось только тупое, животное непонимание и повадки росомахи, страдающей зубной болью.
Вскоре после этого у Дункана отнялся голос. Так даже и не вспомнишь, разговаривали ли они с отцом еще раз.
Хэри долго вглядывался в распечатки таблиц, заставляя себя мало-помалу осмысливать колонки цифр. «Господи, какая гадость», – мелькнуло в голове. Он перетасовал листы, собрал, перетасовал снова, опять разложил на столе. Как ни смотри, жестокая правда была неоспорима.
Он ни черта не понимал в своей работе.
За шесть фискальных лет, что он служил директором сан-францисской Студии, четыре года контора теряла деньги. Шел третий год подряд, и чем дальше, тем хуже. Он принял лучшую Студию на Земле, флагман всей системы «Неограниченных Приключений» – и облажался так, что на плаву ее держали только грузовые тарифы компании «Поднебесье».
«И что это – загадка? – горько подумал он. – Это кого-то удивляет?»
Пост директора – вместе с переводом в касту администраторов – он получил в рамках грандиозной рекламной кампании, прозрачной попытки противостоять катастрофическим последствиям последнего Кейнова Приключения – «Ради любви Пэллес Рил». В результате той истории лишился своего места прежний директор, Артуро Коллберг, а репутация Студий вообще оказалась безнадежна подмочена. На несколько недель Хэри оказался самым популярным человеком на Земле – «Ради любви Пэллес Рил» стало популярнейшим Приключением в истории, поставив рекорд продаж, не побитый и сейчас, семь лет спустя, – и мог бы причинить всей индустрии неисчислимые бедствия. Поэтому его подкупили.
«Это слишком мягко сказано, – подумал Хэри. – Купили меня. Со всеми потрохами купили».
Он заплатил надеждой на мирную жизнь с любимой женщиной. Заплатил возвышением дочери до ранга администратора. Заплатил шансом снова узнать отца. А взамен?
Ему надо было только сидеть и помалкивать.
Один из его новых коллег, директор Студии Санкт-Петербурга, при первой их встрече, через пару недель после возвышения Хэри, выразил это простой максимой: «Самое важное умение, какое может выработать у себя умелый администратор, – умение ничего не делать. Понимать, когда можно ничего делать не надо, гораздо важнее, чем знать, что делать».
Вот так: философская основа под его образ жизни. Будь хорошим мальчиком, не высовывайся, считай дни до пенсии. «Так трусами нас делает раздумье», – вспомнилось Хэри.
У него хватало сил, чтобы пережить один день. Но когда он поднимал голову, то вся жизнь представала перед ним как долгий, мрачный коридор, полный таких же ночей, когда сидишь за рабочим столом в четвертом часу с бетонной уверенностью, что сегодняшний день станет копией вчерашнего и дни будут ползти от завтра к завтра, без конца и края, аминь.
Это если тебе очень повезет.
Аккорд по клавишам вызвал на экран очередное заявление, поданное в социальный суд адвокатами Эвери Шенкс. Когда на Хэри нападала нестерпимая хандра – как сегодня, – он всегда мог заглянуть в растущий архив дела «Бм. Шенкс против адм. Майклсона» и поразмышлять над тем, что случится, если юридический департамент Студии на него плюнет.
Бизнесмен Эвери Шенкс – мать Карла Шенкса, мать Ламорака и глава электрохимического концерна «СинТек» – лично подала иск против Хэри по обвинению в насильственном межкастовом контакте через пару дней после завершения «Ради любви Пэллес Рил», прежде чем Хэри выписали из больницы. Юридический отдел корпорации она использовала словно гончих псов, изнуряя суд бесконечными жалобами. Основой иска служило спорное заявление, что статус Карла Шенкса как профессионала можно считать сугубо формальным в соответствии с его родом деятельности как актера. Законники «СинТек» продолжали настаивать, что в глазах суда Карл должен считаться бизнесменом.
Без защиты Студии этого было бы достаточно, чтобы Хэри киборгизировали и продали в рабочие.
Самыми темными ночами Хэри начинал подозревать, что Студия не закрыла дело окончательно, потому что хотела иметь козырь в рукаве на случай, если Кейн начнет бузить.
Он закрыл судебный архив, пошуршал распечатками, раздраженно сложил их стопкой, но внимание кругами, спиралями возвращалось к…
Одни только судебные издержки могли его уничтожить. Доходов Шенны не хватило бы, чтобы поддерживать семью, даже не учитывая траты на судебную бойню. Основная аудитория оставалась ей фанатично верна, но суммарные доходы продолжали неуклонно падать. У нее не осталось даже прямых подключенцев. Свои трехмесячные экскурсии, дважды в год, она проводила в прямом поиске, покуда ее впечатления записывались на микрокуб: ироническое эхо одного из нововведений Коллберга.
В том, чтобы ощутить себя богиней, имелся определенный шарм – нерушимый покой ее связи со всем миром, умопомрачительное чувство контакта со всякой живой тварью в бассейне водосбора Великого Шамбайгена, возвышающее чувство полного контроля за неизмеримой мощью, – но фаны быстро обнаружили, что записи дают тот же эффект. Даже одна запись. Поскольку для Шамбарайи каждый день не отличался от любого другого, записи продавались отменно плохо. Чтобы привлечь прямоподключенцев, чтобы повысить доходы от продажи и проката записей, нужен сюжет. А его-то как раз и не могла предложить Пэллес Рил. Она была завершена, ей не требовалось ничего, чего не могла бы дать река. Шамбарайя не знает необходимости. А без нужды все суть каприз.
Хэри встряхнул головой, чтобы сосредоточиться на графиках на столе, в которые пялился невидящим взором уже бог знает как давно. Цифры в строках потеряли всякое значение, превратившись в смутно пугающие иероглифы, апокалиптическое пророчество, начертанное линейным письмом А.
Вздохнув, Хэри признал свое поражение. Он снова сложил распечатки, потом согнул стопку и запихнул в мусоропровод под столом.
– Эбби, – позвал он, – звонок. Видео. Кунсткамера Студии. Личный вызов Тан’элКоту. Исполнить.
Секунду спустя логотип «ждите» на экране растворился, уступив место ясно видимому в каких-то фантастических красках лицу Тан’элКота.
– Кейн. Опять бессонная ночь?
– Ч-черт, – повторил Хэри уже в миллионный, наверное, раз. – Если мне приходится звать тебя Тан’элКотом, то будь добр, блин, обращаться ко мне «Хэри»!
Возмущение вырвалось рефлекторно, по привычке, и Хэри сам слышал, как лживо прозвучали его слова.
И Тан’элКот слышал. Взметнулась царственная бровь, обозначились морщинки в уголках глаз.
– Да-да.
– Что у тебя с экраном? Все в оранжевых тонах, и контрастность такая, что пол-лица не видно.
Тан’элКот пожал плечами и протер глаза.
– Экран в порядке. Я уже не могу читать с монитора, а от бесконечного мерцания ваших электрических огней у меня болит голова. – Он повернул экран таким образом, чтобы Хэри мог разглядеть лежащую на столе толстую книгу, а рядом с ней – струйку пламени за стеклом поддувной керосиновой лампы. – Но ты поднялся в столь ранний час не за тем, чтобы корить меня за дурное обхождение с техникой.
– М-да. – Хэри вздохнул. – Я тут подумал, если ты не слишком занят…
– Занят, администратор? Я – занят? Я – как был на протяжении, о, стольких лет! – всецело в вашем распоряжении, господин директор.
– Забудь, – пробурчал Хэри. Сил терпеть убийственную иронию Тан’элКота у него сегодня не оставалось. Он протянул руку к выключателю.
– Кейн, – произнес Тан’элКот, – подожди. – Он отвел взгляд, провел ладонью по лицу, будто хотел стереть свои черты, заменив иными. – Прошу… Хэри… прости мне злые слова. Слишком долго сидел я в одиночестве, копя горечь, и сказал не подумав. Если желаешь, я буду рад сегодня твоему обществу.
Хэри вгляделся в изображение на экране: темные мешки под глазами, новые морщинки и складки на безупречной некогда коже, опущенные уголки губ, не знавших ничего, кроме улыбки. «Черт, – мелькнуло в голове, – неужто и я выгляжу настолько скверно?»
– Я тут подумал, – медленно проговорил Хэри, – надуться кофе и выйти. Прогуляться не желаешь?
Губы Тан’элКота изогнулись в некоем подобии улыбки.
– В район?
Хэри пожал плечами с показным равнодушием, не обманув ни себя, ни Тан’элКота.
– Пожалуй. Готов?
– Разумеется. Мне нравятся твои родные места. Они бодрят. Напоминают ваши старинные документальные фильмы о природе: океан, полный мелких терзающих друг друга хищников. – Он склонил голову к плечу и со сдержанным весельем парня, отпустившего сальную шутку в переполненном ресторане, поинтересовался: – Когда ты в последний раз кого-нибудь убивал?
Скрытая столешницей рука Хэри непроизвольно нашарила нечувствительный рубец на пояснице.
– Ты должен помнить. Сам видел.
– М-м. Верно. Но кто знает, быть может, сегодня нам повезет и нас обидят.
– Ага. Может быть. – «Если мы напоремся на банду слепых идиотов», – добавил Хэри про себя. – Ладно. Иду.
– Встретимся у Южных ворот через полчаса.
– Увидимся.
– Верно… – прежде чем разорвать связь, собеседник ухмыльнулся, – Кейн .
Хэри покачал головой и презрительно фыркнул в потемневший экран. Потом выключил машину и обнаружил, что почти улыбается.
– Хэри! Ты не вернулся в спальню…
Он поднял глаза, и улыбка увяла снова. В дверях стояла Шенна, укоризненно глядя на мужа из-под копны спутанных волос. Лицо ее хранило тающий отсвет благодати, умирающий призрак сверхъестественного покоя – ей снилась река.
Хэри захотелось чем-нибудь в нее бросить.
– Ага. Я… – Он опустил голову, пытаясь сделать вид, что ему совсем не стыдно, и махнул рукой в сторону распечаток на столе: – Решил поработать.
– С кем ты говорил? С Тан’элКотом, да?
Взгляд его упал на стиснутые кулаки.
– Знаешь, лучше бы тебе не проводить столько времени с…
– Да, я знаю, – перебил Хэри. Это был привычный спор, и затевать его снова в такой час ему не хотелось. – Я выйду ненадолго.
– Сейчас? – Трансцендентный покой никогда не задерживался на ее лице надолго; вот и сейчас его уже смыло рекой. – Ты собрался гулять посреди ночи ?
– Да. Иногда, знаешь, находит. – Он не стал добавлять: «И ты бы это знала, если бы проводила со мной и дочерью времени больше, чем шесть месяцев в долбаном году», но слова и без того повисли между ними, отравляя воздух.
Шенна отбросила волосы со лба, и лицо ее обрело напряженное, стылое выражение, которое Хэри помнил слишком ясно, с недобрых старых деньков, когда они рта не могли открыть, чтобы не затеять свару.
«Недобрые старые деньки? Кого я обманываю?»
«Недобрые нынешние деньки».
– К завтраку ты вернешься? – спросила она и, не удержавшись, нанесла удар ниже пояса: – Или мне наврать что-нибудь ради Веры?
Хэри собрался было накричать на нее, но осекся. Ему ли жаловаться? Он выдохнул набранный было воздух, покачал головой.
– Нет. Нет. К завтраку вернусь. Слушай, Шенна, прости. Просто иногда хочется поговорить с кем-нибудь…
Увидев, какое у нее сделалось лицо, Хэри тут же пожалел о сказанном.
Шенна зажмурилась, губы превратились в ниточки.
– Иногда я позволяю себе надеяться, что ты захочешь поговорить со мной.
– Ох, Шенна, не на… слушай, мы же говорим.
Хэри терпел эти беседы всякий раз, когда мог вынести в миллиардный, язви его, раз лекцию о том, Как Легко Быть Счастливым, если только позволить себе Плыть По Течению и все такое прочее. Он отвернулся, чтобы мысли его нельзя было прочесть по лицу. Шенна не виновата, и он раз за разом обещал себе, что не будет срывать на ней злость.
– Оставь. Я пойду.
Он в последний раз сложил распечатки стопкой и поднялся. Шенна переступила порог, будто могла остановить его.
– Будь осторожен с Тан’элКотом. Ему нельзя доверять, Хэри. Этот человек опасен.
Он прошел мимо, стараясь не коснуться ее в дверях.
– Верно, – ответил он и добавил вполголоса, уже удаляясь: – Как я когда-то.
За ним с бесконечным неживым терпением следовал Ровер.
4
Шенна глядела, как он уходит, прислонившись лбом к прохладному оконному стеклу. Его машина – даймлеровский «ночной сокол» – по рассчитанной компьютером пологой траектории черной каплей взмыла к низким облакам.
Она тосковала по реке.
«Сорок дней, – подумала она. – Это всего-навсего пять недель… ну ладно, шесть. Шесть недель можно что угодно вытерпеть».
Через сорок дней, считая с сегодняшнего, в девять часов утра начнется ее очередная смена на посту богини. В восемь тридцать она натянет респиратор, опустится в гроб свободного поиска, захлопнет крышку изнутри и будет лежать на гелевом матраце, пережидая бесконечные минуты масс-балансировки, – свободный переход требует точнейшего масс-энергетического обмена между двумя вселенными – и эти неторопливые секунды станут мгновениями сладчайшего предвкушения, прежде чем грянет, раздирая рассудок, неслышный грохот переноса. И зазвучат первые ноты Песни Шамбарайи: неторопливый, басовитый приветственный гимн, который наполнит сердце, вызывая к жизни ответную мелодию. Дважды в год по три месяца кряду она имела право быть частью реки.
Дважды в год она могла быть целой.
Они никогда не говорила Хэри, как тоскует по этой песне; никогда не объясняла, какой пустой и пресной стала для нее Земля. Она слишком любила его, чтобы рассказать, как мучительно быть с ним одинокой. «Неужели ты не видишь?!» – кричало вслед улетающей машине сердце.
Неужели ты не видишь, как мне одиноко?
По щекам медленно катились слезы. Как можно жить, когда в сердце у тебя ничего, кроме надежд и воспоминаний?
– Мама! – послышался за спиной робкий голосок Веры. – Мама, ты хорошо себя чувствуешь?
Шенна отодвинулась от окна. Она не потрудилась вытереть слезы: связь, которая существовала между ними на протяжении полугода, не позволяла им врать друг другу.
– Нет, – призналась она. – Мне очень грустно.
– Мне тоже. – Вера потерла глаза кулачками, медленными шажками заходя в кабинет. Шенна обняла ее, оправляя пижамку, убирая с лица растрепанные легкие золотистые волосы. Вера со вздохом прильнула к ее плечу. – Грустишь по реке, да?
Шенна молча кивнула. Она присела на подоконник и взяла дочь на руки. Потом обернулась и взглянула на облака, подсвеченные оранжевыми городскими огнями.
– Я тоже, – серьезно призналась Вера. – По музыке. Когда ты дома, всегда так тихо – я даже боюсь иногда.
Шенна крепко обняла дочь, остро ощущая, насколько хрупко ее тельце, как легка опустившаяся на плечо голова. Физический контакт был, однако, лишь бледным отзвуком той нежности и любви, которую они разделяли, когда их связывала река. Вера родилась через девять месяцев – с точностью до дня – после битвы в доках Анханы. Клетки, из которых развился потом организм Веры, уже находились в матке Шенны, когда Пэллес Рил впервые коснулась реки и услышала ее Песнь.
Мощь, обоготворившая Пэллес Рил, пронизала и ее дочь.
– Когда ты здесь, я по тебе очень скучаю, – проговорила Вера. – Без музыки так одиноко. Но ты и папе нужна.
– Да, – проговорила Шенна. – Знаю.
– Ты поэтому грустишь? Вы с папой поссорились?
– Нет, не ссорились. С твоим папой теперь никто не ссорится, – безнадежно отозвалась Шенна, глядя туда, где исчез в облаках «ночной сокол». – По-моему, в том и беда.
5
Дом оседал. Двести лет без ремонта. Почерневшие от смога стены впитывали свет единственного треснувшего уличного фонаря, не отражая. Кривоватый прямоугольник высился в мутной ночи, словно окно в забвение.
Хэри стоял на искрошенной мостовой переулка, глядя туда, где было окно его комнаты: квартира 3F, третий этаж, дальняя дверь от лестницы. Три комнаты и встроенный шкаф, куда едва помещалась койка восьмилетнего мальчишки. В этом шкафу он жил еще месяц после своего шестнадцатого дня рождения.
И окно, которое открывалось бесшумно, только если очень постараться; будь его глаза чуть позорче или свет чуть поярче, он точно различил бы следы от веревки на древнем алюминиевом подоконнике.
Моток той веревки до сих пор врезался в ребра из тайника между тонким армейским матрасом и стальным каркасом раскладушки. Веревка десятки раз спасала ему жизнь. Порой единственное, что могло спасти от приступов отцовского убийственного гнева, это запереть комнату изнутри и через окно вылезти на улицу. Там, среди шлюх, наркоманов, извращенцев, молодой Хэри чувствовал себя в большей безопасности, чем рядом с отцом.
Лучше так, чем дышать безумием в закрытой квартире.
– Я когда-то думал, – проговорил за его плечом Тан’элКот, – что понимаю, почему мы приходим сюда. Я думал, что ты хочешь напомнить себе, какой необыкновенный путь проделал в жизни. Отсюда можно видеть и начало этого пути, – он мотнул головой в сторону дома, потом обернулся и глянул на шпиль главного здания Студии в трех километрах от края трущоб, – так и пик твоих достижений. Контраст, мягко говоря, потрясающий. И все же это явно не приносит тебе удовлетворения.
Хэри не требовалось видеть Тан’элКота, чтобы знать, какое выражение застыло на его лице: маска вежливого интереса, скрывающая хищный голод. Бывшего императора живо и непрестанно интересовало все, что может причинить его спутнику боль. Хэри не обижался; он знал, чем заслужил такой интерес.
– Я прихожу сюда не за этим, – мрачно отозвался он.
Он оглянулся, озирая полуразвалившиеся дома, склоненные над трещиноватой мостовой, полутемные бары в подвальчиках на каждом углу, где под громовую музыку топтались на одном месте, на банк провизии, где родители с пустыми глазами и их молчаливые дети выстраивались в очередь на завтрак, до которого оставалось еще два часа. Невдалеке шевельнулась куча тряпья, разоблачая синяка в последней стадии долгого падения – суматошно бегающий слепой взгляд выжженных метанолом глаз, нос и верхняя губа проедены гноящимися язвами насквозь. Синяк вытащил из пластикового пакета свое сокровище – пропитанный горючкой грязный платок – и, содрогаясь, прижал ко рту, вдыхая испарения.
Хэри приподнял руку – и тут же опустил. Этот короткий, безнадежный жест будто охватывал весь район Старой Миссии.
– Порой приходится себе напоминать, что до дна очень далеко.
Припомнилась старая шутка, исполненная такой горечи, что весь юмор вытек: «Падать-то легко – приземляться бывает трудно…»
– Собрался прыгнуть? – медленно промолвил Тан’элКот.
Хэи пожал плечами и двинулся дальше. Ровер, жужжа, последовал за ним, механически держа дистанцию. Тан’элКот шел рядом, двигаясь с тяжеловесным величием крейсера на малом ходу.
– И зачем ты притащил сюда меня? Надеешься, что я из ненависти попробую тебя убедить?
– А то нет?
Прищурившись, Хэри уставился на вышагивающего рядом великана. Тан’элКот был одет в вязаный свитер и вельветовые брюки модника-профессионала, темная грива собрана в старомодный конский хвостик. Возраст смягчил резкие очертания его лица, но титаническое сложение бога, которым он был когда-то, сохранилось. Металлические ленты модамп-упряжи, которую Тан’элКот носил поверх свитера, блестели в свете фонарей, будто кираса. Казалось, что мостовая дрожит под его поступью.
– Разумеется, да, – легко согласился Тан’элКот.
В дружеском молчании они прошли еще квартал, то выходя на свет, то ныряя в тень.
– Я мечтал о твоей погибели, Кейн, – проговорил наконец Тан’элКот. – Я жаждал ее, как проклятые души в вашем христианском аду жаждут забвения. Твоя смерть не вернет мне Империи, не возвратит мне любви Детей моих, но она облегчила бы – хоть на те мгновения, покуда твоя жизнь утекает из моих пальцев, – страдания моей ссылки. – Он опустил голову, словно вглядываясь в трещины на асфальте. – Но… свершив это единожды, я останусь опустошен. Мне больше не о чем будет мечтать.
Хэри обошел пару алкашей, которые прислонились друг к другу, будучи не в силах решить, пойти домой или рухнуть прямо на улице. Тан’элКот легко смел обоих с дороги. Вслед ему понеслось что-то неразборчивое и злое. Хэри и Тан’элКот двигались дальше.
– И кроме того, – пробормотал великан, – признаюсь, я буду скучать по тебе.
– Да ну?
– Увы, да. – Он вздохнул. – Я нахожу, что все более и более живу прошлым. Воспоминания – единственное утешение моего заточения. Ты единственный, с кем я разделяю их. Единственный из живущих, кто воистину помнит – воистину ценит, – кем я был прежде. – Он смиренно развел руками. – Сантименты, да? Какой мерзкой тварью я стал!
Эта стрела попала, на вкус Хэри, слишком близко к цели. Пару кварталов оба шли молча.

