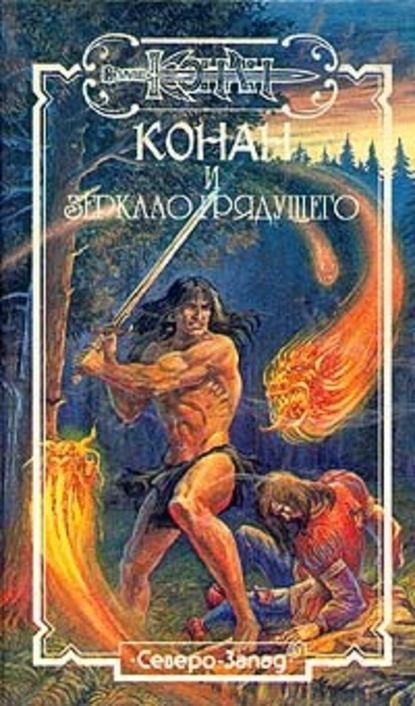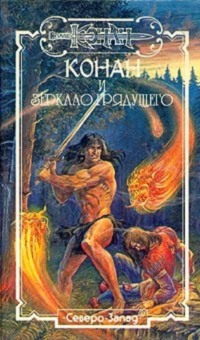полная версия
полная версияВремя жалящих стрел
Неожиданно он вспомнил себя маленького, трясущегося мокрого от слез и вечерней росы перед страшным волколаком. Как он шептал тогда «Митра всемогущий, сделай так, чтобы все это было понарошке…» Да уж воистину, все повторяется. «Митра всемогущий, сделай так, чтобы этот человек ничего не знал о Релате!»
Валерий внезапно понял, почему никому не рассказал об Амилии.
Потому что он втайне был рад смерти барона и его сыновей!
Только боялся признаться себе в этом. Потому и не стал искать останки в горящем замке. Не потому, что это было бесполезно. Всегда можно что-то предпринять… А потому что страшился, что найдет кого-нибудь живого. Кого-нибудь из тех, кому бы лучше было умереть… По крайней мере, если бы такое случилось, то он сам оставался в безопасности.
Но, оказывается, один из них жив, и только Митра ведает, что за слова сейчас сорвутся у него с языка.
Он замер в ожидании.
Вилер сделал знак рукой, и острия алебард, нацеленные на юношу, были отведены. С появлением молодого амилийца он весь как-то сжался, поник, точно чуял недоброе, но не видел возможности отвести беду, что с минуты на минуту грозила обрушиться на него и на Аквилонию.
– Винсент, сын Тиберия, барона Амилии, если не ошибаюсь?.. Что за беда привела тебя к нам?
Взбудораженные, перешептывающиеся придворные напирали со всех сторон, и Валерию даже пришлось исподтишка ткнуть локтем в живот кого-то особо ретивого. Впрочем, их можно было понять. Впервые за много зим Малый Выход, одна из самых скучных и формальных церемоний, прерывалась подобными эксцессами.
И в их приглушенном ропоте неодобрение мешалось с любопытством.
Винсент вытер рукавом пот с грязного, исцарапанного лба, гордо вскинул голову и поднялся с колен.
– Ваше Величество! Я требую справедливости – и отмщения!
Наследник Антуйского Дома напрягся. Начало не сулило ничего хорошего. Впрочем, оно могло относиться к чему угодно.
Гул в зале усилился.
Обычно столь степенно-сдержанные, вельможи не скрывали своего возбуждения. Женщины кудахтали испуганно, точно квочки. В толпе Валерий заметил напряженное, сосредоточенное лицо немедийца, злорадную физиономию кузена.
И лишь один король, казалось, оставался спокоен во всеобщем смятении.
– Никто не вправе требовать чего бы то ни было от властителя Аквилонии, – отчеканил он, и пунцовая краска стыда залила щеки юноши.
Однако он продолжал стоять на своем.
– Молю простить меня за дерзость, государь! Страх и гнев говорили моими устами, на миг заставив позабыв о почтении. Однако выслушайте, прошу вас… Вилер Третий милостиво кивнул.
– Говори, сын Тиберия. Открой, что за дурные вести ты нам принес.
Молодой вельможа обвел взглядом ряды придворных, ни упустивших ни звука из разговора, точно прося у них поддержки. Валерию показалось, он ищет кого-то глазами, но, не найдя, продолжил:
– Ваше Величество, ужасное злодеяние совершено было вчера во владениях барона, моего батюшки…
Он вдруг совсем по-детски шмыгнул носом, что так не вязалось с трагичностью его вида, и придворные невольно заухмылялись.
Однако уже следующие слова Винсента сорвали с их лиц улыбку, как срывает пожелтевшие листья с дерев пронизывающий осенний ветер.
– Отряд разбойников напал вчера на замок барона Тиберия, разорил и спалил его дотла. Отец мой и брат погибли. Большинство слуг убиты. Негодяям же удалось скрыться. Ваше Величество! Долг короны – отыскать и покарать преступников!
Вилер молча выслушал его, в знак скорби склонив голову на грудь.
– Тиберий… Верный мой Тиберий, – пробормотал он в отчаянии и, взяв юношу за плечи, заставил его подняться с колен, пристально вглядываясь в потное, все в потеках запекшейся крови лицо, точно силился прочесть в нем нечто, невыразимое словами.
– Так это правда? – прошептал он наконец, отпуская Винсента. – Он мертв, мой Тиберий?
Сын барона опустил голову, словно не в силах выдержать взгляд короля.
– Да, Ваше Величество. Они убили его. Вид короля сделался страшен.
Но кто?! Кто и зачем осмелился совершить подобное злодейство здесь, в Аквилонии, не страшась правосудия ни короля, ни самого пресветлого Митры?
Наступило долгое молчание. Все в зале ждали, затаив дыхание, хотя и понимали, что ответа не последует, ибо кто мог знать… Но, вопреки их безмолвной уверенности, юноша подал голос. И лишь сейчас вся так долго сдерживаемая боль и ярость прорвались наружу.
– Я не знаю, зачем это было сделано, Ваше величество! Но – я знаю, кто! И я готов сказать об этом здесь, перед всеми вами, призывая Митру в свидетели своей правоты.
И, дождавшись, чтобы все взоры обратились на него, громогласно продолжил:
– Люди, что сожгли амилийский замок и убили моего отца, носили цвета Антуйского Дома. Я видел их собственными глазами!
Несколько мгновений в зале стояла напряженная тишина, подобная той, что длится так мучительно-бесконечно между вспышкой молнии и ударом грома. А затем все взоры обратились на Валерия.
На миг его охватило головокружение, когда он ощутил себя центром всеобщего внимания, – возбужденного, недоброго. Все оказалось куда хуже, чем он предполагал. Недоуменная мысль поразила его: что сделал он, чтобы заслужить такую нелюбовь?
Однако почти тут же он понял, насколько нелепо его удивление, ибо в отношении придворных, в сущности, не было ничего личного – лишь обычное человеческое торжество перед чужим падением. Лишь несколько глаз наблюдали за ним с явным сочувствием, и среди них, как ни странно, сам король и Амальрик. И злобное, звериное торжество было в глазах Нумедидеса, точно тот знал о том, что должно случиться, и заранее наслаждался победой.
Однако Валерий не позволил себе задержаться на этой мысли – король ждал ответа. Собравшись, точно на поле боя, перед тем как ринуться в атаку, он втянул в себя воздух и произнес, внешне совершенно спокойно:
– Государь, мне нечего сказать вам, ибо я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я ничего не знал о несчастии, постигшем Амилию… – сразу же, заметив торжествующий блеск в глазах Нумедидеса, он осознал, что допустил роковую ошибку, однако менять что-либо было поздно, и продолжил, как мог твердо:
– Любой, кто скажет иначе, – лжец и изменник, и я готов повторить это хоть перед Судом Герольда.
И тяжелым взглядом он вперился в лицо кузену.
Тот, не выдержав, поспешил отвести глаза.
Король покачал головой. Очевидно было, что смысл сделанных обвинений еще не дошел до него. Он в недоумении обернулся к сыну Тиберия.
– Винсент! Твои слова необъяснимы, и я могу лишь предполагать, что горе затмило твой разум. Как мог принц Антуйского Дома, мой племянник и наследник престола, злоумышлять против твоего отца, которого уважал и любил, как и все мы? Ты, должно быть, ошибся. Ты же слышал – принц отрицает, что причастен к преступлению, и я верю ему. Скажи, что ты ошибся, амилиец… – Последние слова короля прозвучали мольбой.
Но юноша был неумолим.
– Вы просите меня отречься от своих слов, Ваше Величество! – воскликнул он с горечью. – Вы не верите мне – так езжайте в Амилию! Возможно, вид пепелища и земли, пропитавшейся кровью, убедит вас в моей правоте. Ибо горе лишь добавило мне зоркости, и я говорю вновь, и если меня не послушают здесь, готов обойти всю Аквилонию, крича об этом на всех площадях: принц Валерий Шамарский – убийца моего отца. И я требую справедливости!
Валерий почувствовал, как стоящие рядом незаметно пытаются отодвинуться от него, и вскоре вокруг принца образовалась пустота.
Он растерянно огляделся по сторонам.
Все это не могло быть правдой… Это лишь кошмар, который сейчас развеется без следа… Но он видел изумленное, посуровевшее лицо короля, полные ненависти глаза Винсента – и понимал, что это не может быть сном.
– Я не повинен в том, в чем меня обвиняют, – пробормотал он неловко, не решаясь возвысить голос. – Это какая-то ошибка! Зачем мне желать зла барону?
Зачем?
В этот вопрос упиралось все.
И он заметил сочувствие и сомнение в глазах придворных, услышал, как кто-то прошептал: «Юнец ошибся. Зачем бы сыну Орантиса Антуйского идти на такое?..»
Валерий воспрял было духом – как вдруг голос подал Нумедидес:
– В самом деле, брат? А не ты ли говорил мне, что если Тиберий не отдаст за тебя свою дочь Релату, ты готов на все?!
Пораженный столь наглой ложью, Валерий мог лишь пробормотать:
– Никогда я не говорил ничего подобного!
На что кузен его лишь презрительно отмахнулся, и принцу сразу ясна стала вся безнадежность его положения.
Это был заговор – чудовищный, продуманный до мелочей.
Ловушка, из которой у него не было ни единого шанса выбраться.
Умоляюще он взглянул на короля, с трудом удерживаясь, чтобы не пасть на колени.
– Ваше Величество! Теперь мой черед воззвать к вашей справедливости! Обвинения возведены на меня облыжно, и я не приму их ни в большом, ни в малом! Мне неведомо, кто мои враги, и кто пытается погубить меня, но я невинен в глазах людей и Пресветлого. Лишь прикажите – и я готов с мечом в руке отстаивать свое доброе имя!
Вилер Третий устало покачал головой. Сейчас у короля был вид человека, совершенно утратившего власть над событиями, не поспевающего за их стремительным ходом. Он чувствовал себя, подобно вознице кареты, чьи лошади понесли, и желал лишь одного – остановки, покоя. Времени на раздумья.
Сумрачным взглядом правитель обвел напряженно ожидающих его решения придворных.
– В королевстве случилось нечто страшное, – произнес он медленно. – Признаться, я надеялся, что на своем веку не увижу более ни крови, ни таких смертей, что Аквилонию мне удалось надежно защитить от подобной участи… Но, видно, и впрямь Пресветлый отвернулся от нас за грехи наши. Что же толку теперь взывать к правосудию?!
Неожиданно для всех, он развернулся и направился к выходу из зала, тяжелой, шаркающей походкой. У него был вид сломленного горем старика, невесть зачем надевшего на голову золотой обруч. Точно почувствовав на себе их взгляды, у самой двери Вилер обернулся.
Несколько секунд он молча смотрел на придворных, точно силясь припомнить, зачем все они собрались здесь и чего ждут с таким напряжением, а затем с трудом проговорил:
– Уходите все. Тиберий мертв – зачем же вы стоите здесь? Подите прочь!
Сын барона был единственным, кто осмелился подать голос, ибо он был слеп и глух ко всему, оглушенный яростью и болью:
– Ваше Величество! Но правосудие…
– …свершится! – в тон ему отозвался Вилер. – Правосудие Митры, которое ждет всех нас!
И, не слыша ничего больше, удалился, согбенный, разом состарившийся, убитый горем.
Удалился оплакивать того, кто был ему ближе, чем брат; и тех двоих, что были ему родней, чем сыновья.
Валерий обвел глазами придворных.
Теперь они намеренно избегали его, точно человека, у которого проявились первые симптомы опасной болезни. Стоило ему случайно встретиться с кем-то глазами, и тот поспешно отворачивался, отходил с дороги, как будто опасаясь даже просто коснуться его. Стоило королю скрыться за дверью, как разнаряженные вельможи гурьбой устремились к выходу на другом конце приемной, словно мутный поток обтекая застывших неподвижно племянников короля и сына барона.
Принц скользнул взглядом по дышащей ненавистью фигуре Винсента, чью ярость он ощущал, подобно волне жара от раскаленного очага, и задержался на Нумедидесе. Тот стоял неподвижно посреди зала, и на жирном вислощеком лице отражалась странная смесь радости и недоумения. В его позолоченных зубах Валерий вдруг увидел свое отражение – маленькое, кривое, жалкое.
Шамарца одолело искушение подойти к Нумедидесу, встряхнуть за грудки и потребовать ответа – зачем ему понадобилось это нелепое представление, что за злобный умысел стоял за его словами, однако он знал, что все равно не услышит правды.
Развернувшись на каблуках, Валерий двинулся к выходу. Подумать только, мелькнула у него шальная мысль, – только сегодня утром он был уверен, что испил чашу горестей до дна, и ничего хуже с ним случиться не может.
Горький смешок сорвался с губ принца.
Должно быть, боги преисподней отверзли свой черный мешок, что несет беду и погибель, прямо над его головой.
Хмельная, жестокая веселость захлестнула его мутной волной. Он сказал себе, что будет счастлив вернуться к Релате. Двое безумцев, несомых, точно щепки, по воле бурлящих волн судьбы, – они были прекрасной парой!
Ускорив шаг, Валерий двинулся по бесконечному коридору, даже не дав себе труда обернуться на чей-то знакомый голос, что окликал его сзади.
Когда двери приемной захлопнулись за ним, король Вилер быстрым шагом прошел по узкому коридору на лестницу, что вела в его покои. На полпути, словно спохватившись, он обернулся и раздраженным жестом велел последовавшим за ним канцлеру и сенешалю убираться прочь. Опасаясь, как бы гнев повелителя не обрушился на их головы, барон Латро и герцог Беррийский поспешили повиноваться. Вилер удалился в одиночестве. Он сразу прошел в библиотеку – крохотный оазис в огромном дворце, единственное место, где он мог ощущать себя в безопасности и вне досягаемости для тревог внешнего мира, – однако сегодня даже здесь, в окружении древних пергаментов и свитков, начертанных на шелке карт далеких материков, рисунков, изображавших неведомых животных, и прочих диковин королю не суждено было обрести успокоение. Он прогнал слуг, не позволив им разжечь в камине огонь, и, убедившись, что никто не нарушит его драгоценного одиночества, принялся расхаживать по комнате, вполголоса бормоча себе под нос.
То была нелепая привычка – однако она помогала Вилеру сосредоточиться.
Митра, как же мог ты допустить, чтобы такое случилось с Тиберием?!
Он до сих пор не в силах был поверить, что давний друг его и наперсник мертв, пал жертвой неведомых злодеев… Пока король не мог даже думать о том, что означало это нападение для всей страны, – насколько его бароны разомлели, дружины их утратили боеспособность, насколько нага и беззащитна оказалась вдруг Аквилония, отданная на растерзание любому разбойнику с большой дороги, у которого достанет дерзости замахнуться на столь жирный кусок. И в том была вина и самого Вилера, – однако сейчас он был попросту не способен мыслить о судьбах державы.
Скорбь его была слишком глубока, чтобы впустить в душу иные печали.
Но кто же мог сотворить такое? Он не мог заставить себя поверить, несмотря на всю уверенность молодого Винсента, в том, что Валерий причастен к злодейству.
Валерий… С детства готовый вступиться за слабого, прямодушный, горячий – или именно эта горячность его и погубила? И принц стал жертвой страстей, совладать с которыми у него не достало сил?
Вилер покачал головой. Невозможно поверить!
Хотя… Нумедидес ведь указал на возможный мотив. Женщина! Ради нее мужчины идут на любые безумства!
Но не на такое, тут же возразил он себе. Если только не предположить, что Нумедидес еще тогда, после Осеннего Гона, говорил правду, и шамарский принц и впрямь обуян демоном.
Тогда становится понятным все. И странное его поведение последние дни, и убийство несчастного Гретиуса, чей преемник на днях должен будет вступить в должность, и многое, многое другое…
Однако можно ли доверять Нумедидесу?
Король вынужден был признать, что в последнее время племянник порой просто пугал его – он совершенно перестал понимать, что у того на уме. Когда он наблюдал украдкой за Нумедидесом, ему казалось, он видит перед собой дикое животное, готовое в любой момент сбросить человеческую личину, обнажив свою звериную сущность. Даже глаза принца стали иными – янтарными, точно у оленя-самца, и когда взгляд их, холодный, немигающий, останавливался на короле, тот невольно чувствовал, как его пробирает дрожь.
Так можно ли верить хоть одному из них?
Вилер перестал метаться по комнате и, застыв перед холодным очагом, судорожно сжал висевший на груди талисман. Однако, вместо ожидаемого тепла, могильный холод объял его душу, и ледяная дрожь пробрала короля. Выругавшись, он отпустил медальон.
Проклятье! Как же ему узнать правду? Где искать убийц Тиберия?
Разумеется, все обвинения против принца он замнет, чего бы это ни стоило: у него просто нет иного выхода. Помимо его личного долга перед Валерием, – о котором тот даже не подозревал, но это не делало его менее весомым в глазах Вилера, – ему нужно было еще позаботиться о чести трона. Грязные слухи должны быть жестоко пресечены! Как ни горевал он о Тиберии и его родных, он не мог, даже во имя их памяти и святой справедливости, поступить иначе. И все же короля снедала тревога. На миг ему показалось, что он что-то упустил в своих размышлениях, сделал ошибку, что неминуемо станет роковой для всех них… Однако он тут же приказал внутреннему голосу умолкнуть.
С глубоким вздохом король опустился в удобное мягкое кресло, стоявшее у полки с древними фолиантами, иные из которых написаны были еще в довалузийскую эпоху, и позвонил в колокольчик, призывая слуг.
– Пусть разожгут камин – здесь холодно, – велел он бесстрастно, и даже самый внимательный глаз не заметил бы на лице короля следов тревоги и отчаяния. – И принесите вина. Я хочу помянуть моего доброго друга Тиберия.
Он задумался на миг.
– Да, и передайте верховному жрецу Декситею, что король желает его видеть. Нам есть, о чем поговорить со служителем Митры.
Аой.
ВРЕМЯ РАЗДУМИЙ
Дым остролиста, пряный и чуть горьковатый, поднимался от жаровни, белесыми шлейфами стлался по полу и стенам лесного скита. Дверь была наглухо закрыта, однако ни запах, ни духота, казалось, совершенно не мешают колдунье. Усевшись скрестив ноги перед огнем, она ворошила палочкой с вырезанными рунами тлеющие угли в очаге, лишь время от времени утирая пот со лба свободной рукой. Она была обнажена, но это не тревожило ее. Щенок, она знала наверняка, напуганный событиями последних дней, никогда не посмеет войти без приглашения.
Да и почувствовала бы она его приближение за десяток шагов…
Когда почти весь остролист обратился в пепел, с довольной усмешкой колдунья разломала на части палочку с рунами и бросила ее в жаровню. Та вдруг вспыхнула ярким алым пламенем и рассыпалась сухой зеленоватой золой.
Колдунья застыла, простирая над огнем руки. Было бы легче, будь при ней сейчас медиум-человек. Чужими глазами ей видеть куда проще, нежели напрямую воспринимать смутные летучие образы, рожденные изменчивым дымом, – однако за последнее время она так часто вызывала эти видения, что уже не нуждалась в посредниках. От Ораста же, поглощенного ныне лишь одной задачей, исполнить которую ему вскоре предстояло, ей было мало проку.
Перед мысленным взором ведьмы возникла Тарантия.
Она видела ее глазами птиц, что пролетали сейчас над столицей, держа путь в далекие южные страны.
Город предстал перед ней таким, каким не видел его ни один человек, – бессмысленное, хаотическое нагромождение островерхих крыш, крытых красной и бурой черепицей, с высокими дымоходами и остроугольными флюгерами. Эти домишки жмутся друг к другу, и карабкаются вверх по холму, где светлым серпом сверкает на солнце королевский дворец. Его опоясывает сеть переплетенных дорог, оттого Лурд похож на лепесток цветка, занесенный ветром в паутину.
По маленьким кривым улочкам снуют крохотные человечки в темных нарядах. Кое-где видны небольшие проплешины – площади, на которых муравьи-людишки толкутся подле возов с игрушечными мешочками и бочонками, поодаль мельтешат их собратья, одетые в разноцветное платье, – это акробаты, канатные плясуны и жонглеры. Вокруг них плотное кольцо зевак. Тут и там на солнце что-то блестит, будто капельки ртути – это начищенные доспехи городской стражи, которая совершает обход, смотрит, чтобы добрые жители Тарантии могли спокойно жить и трудиться. На улицах много мулов с повозками, всадников в черных и красных мантиях, их становится все больше и больше, по мере приближения ко дворцу.
А вот и сама тарантийская цитадель. Ее донжон украшен вымпелами и королевским штандартом. На мощеном дворе проводится развод караула – мундиры Драконов чернеют, словно бобы на выщербленной тарелке.
Теперь ведьма могла обойтись без глупых птичьих глаз.
Магическое зрение колдуньи охватило весь дворец целиком, до самых его потайных уголков и закоулков, словно со строения срезали крышу.
Среди аккуратно уложенных штабелей сухого сена пожилой конюх тискал краснощекую служанку. Прежде чем брезгливо отвести взгляд, Марна успела еще заметить отвращение на лице девушки…
На кухне повар трепал за чуб ученика, пролившего соус. Криков его ей не было слышно, но из глаз мальчишки катились крупные, как горох, слезы.
На несколько мгновений Марна позволила себе помедлить, не спешить прямо к намеченной цели, наслаждаясь этим случайно уловленным дыханием далекой жизни. Она уже успела позабыть, что это значит – жить среди людей, и теперь их суета оглушала и опьяняла, подобно крепкому вину. Дворец бурлил жизнью, от нее невозможно было спастись, невозможно укрыться.
Жизнь была повсюду, суматошная, кипящая, яростная, и на мгновение колдунью охватило желание убраться оттуда, спастись бегством, вернуться в покой и безмолвие одинокого лесного домишки, где пахнет свежей травой и мшистой сыростью, и нет иного движения, кроме трепета ветвей под дуновением ветерка, ряби воды на зеркальной глади озера, да случайно мелькнувшего зверька или птицы. Впрочем, она мгновенно преодолела эту нелепую слабость.
Взгляд, от которого ничто не могло укрыться, проник в самое сердце дворца, в небольшую комнату в башне донжона, где стены были заставлены шкафами с бесчисленными фолиантами, расползшимися от времени томами с обтрепанными страницами, и на миг ей показалось, она ощутила кисловатый запах книжной пыли.
В комнате стояла низкая кушетка, изножье которой было слегка приподнято, чтобы давать отдых натруженным стопам, и два кресла с резными деревянными спинками и подлокотниками в форме свившихся кольцом змей. Однако ни один из тех двоих, что находились в библиотеке, не пожелал присесть и не притронулся к вину, разлитому в высокие серебряные кубки.
Марна с жадностью вперилась в их лица, точно желая впитать в себя черты обоих.
Первым был сам король Вилер.
Колдовское зрение позволило Марне увидеть его истинный облик – а не просто грубую телесную оболочку.
Лицо его было черно. Плечи опустились, точно под тяжестью непосильного бремени, лоб изрезали глубокие морщины. Глаза покраснели и слезились, кожа на лице посерела и обвисла. Аура вокруг его головы была темная, с редкими всполохами багрового, точно небо пред грозой. Казалось, пламенник души его стремительно угасал, лишая владыку тяги к жизни.
Он стоял, тяжело опершись о стену у узкого, высокого окна, светлый, почти прозрачный витраж которого изображал золотого аквилонского змея, удушающего вепря Валузии. Руки бесцельно теребили расшитый золотой тесьмой пояс длинной домашней туники. Взгляд казался пустым и отсутствующим.
Принц Нумедидес, что стоял напротив и рьяно что-то доказывал повелителю, напротив казался редкостно бодрым и преисполненным энергии.
Перемены, произошедшие в нем за последние дни, не могли бы укрыться от внимательного наблюдателя, однако внутреннее зрение позволяло Марне увидеть и кое-что еще: принц обрел властность и силу, которой не было прежде в его ленивом, раскормленном теле. В его темно-желтых глазах мелькал недобрый огонек, который наследник престола старательно прятал за опущенными веками. То был лишь отсвет внутреннего пожара, разгоравшегося все ярче внутри недр темной скользкой души, и источником его была Магия Хаоса, более древняя, чем мир. Но лишь равные Марне могли узреть, как огонь этот яростно пожирает крохотные остатки человеческих чувств в душе принца, наполняя его новой животной силой.
– Проклятие Цернунноса, – пробормотала она сквозь зубы.
Здесь перед ней была мощь, подобной которой ей еще не приходилось встречать, и самая мысль о том, чтобы противостоять сей жуткой стихии, вызывала трепет и отвращение. Марна не боялась за себя – однако это вмешательство, что грозило в последний миг расстроить все ее давние, столь тщательно вынашиваемые планы, настораживало и вызывало недобрые предчувствия в душе.
Искушение отказаться от всего, предоставить событиям развиваться своим чередом, было почти неодолимым, ибо она чувствовала, что в борьбу вступили силы, неподвластные ей, перед которыми вся ее волшба казалась песчинкой перед натиском урагана, – но гордыня не позволяла ей отступить. Ради этих дней, и только ради них, она жила столько лет, у нее не было иной цели в существовании, и если она сдастся теперь, она погибнет, заживо сгорев на огне собственной ненависти и бессилия. Уж лучше погибнуть, пытаясь исполнить задуманное…
И все же ей было страшно. Впервые за много зим.
Колдунья вынуждена была признать, что неспособна уже не только держать происходящее под контролем, но и хотя бы опознать те силы, что боролись за господство в этом мире посредством человеческих марионеток. Сила древняя и черная пыталась пробиться наружу, – магическим восприятием она ощущала ее подобной лаве вулкана, что тщится прорвать каменную корку и выбиться на поверхность раскаленным фонтаном.