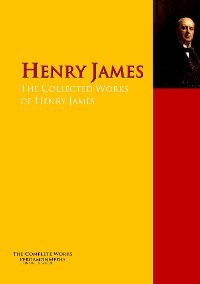Полная версия
Крылья голубки

Генри Джеймс
Крылья голубки
Henry James
THE WINGS OF THE DOVE
Издание выпущено при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»
© О. Чумичева, перевод, 2018
* * *Как читать эту книгу, или Несколько слов от переводчика
«Крылья голубки» считаются одним из самых сложных по структуре романов Генри Джеймса, классика американской литературы XIX века, широко признанного современниками в Европе, названного неоднократно блестящим стилистом – и в то же время невозможным, порой невыносимым по витиеватости речи и многослойности образов и мыслей. Судить о романе – дело читателей, и остается надеяться, что перевод сохраняет не только нюансы смысла, но и структуру фразы, характерную авторскую манеру Генри Джеймса с обилием вводных оборотов, оговорок, уточнений – мучительных и очаровательных, как дыхание человека, из духоты города поднимающегося в альпийскую долину вслед за героинями романа, или как колдовство венецианских и лондонских улиц, по которым скитаются неприкаянные персонажи «Крыльев голубки».
Стоит отметить, что популярный прекрасный фильм 1997 года с Хеленой Бонем Картер, Шарлоттой Рэмплинг, Майклом Гэмбоном и другими знаменитыми актерами включает в себя далеко не все сюжетные линии романа, превращает некоторых персонажей во второстепенных, других вообще не показывает. Конструкция фильма обладает ясностью и простотой, против которых решительно боролся Генри Джеймс, отстаивая загадочность и туманность истории, в которой четкие контуры проступают лишь по мере развития действия и особенно к финалу. Так что тех, кто смотрел фильм, в книге ожидают открытия.
При составлении этого издания показалось важным включить в него не только текст романа, но и рассуждения Генри Джеймса о его изобретении и построении. И тут необходим краткий комментарий. Книга завершается авторским предисловием 1909 года, вызванным критикой в адрес автора после «серийной» журнальной публикации романа. Обращаясь к тем, кто книгу уже читал, романист предлагает то, что сегодня принято называть «спойлерами» (причем весомыми), а с другой стороны, не объясняет детали, полагая, что читатель предисловия и так все это знает. Однако начинать с предисловия не стоит – скорее всего, им нужно закончить знакомство с историей.
Начинать надо с романа. Затем, во вторую очередь, будет любопытно познакомиться с выдержками из записных книжек Генри Джеймса: так можно увидеть реальное рождение сюжета и понять, как сильно менялось отношение автора к персонажам в процессе работы. Несколько писем отражает переживания писателя после первого издания книги, его общение с коллегами, редактором и друзьями. И вот после этого, третьим этапом, интереснее всего познакомиться с предисловием. И обнаружить, как поменялась позиция автора после романа и читательских отзывов, как далеко он ушел от первоначального замысла, сохранившегося в записных книжках, а в чем остался верен ему. И история романа имеет все шансы оказаться самостоятельным сюжетом, в котором главным героем будет сам Генри Джеймс. Не случайно он сегодня появляется в качестве персонажа на страницах современных романов, привлекает внимание не только своими книгами, но и весьма своеобразной личностью, сложной судьбой и серьезным отношением к работе писателя.
Хотелось бы верить, что «Крылья голубки» и история романа в заметках Генри Джеймса станут двумя «крыльями» одной большой и увлекательной истории о молодых людях, увлеченных Роком и сильными страстями и устремляющихся навстречу непредсказуемой судьбе.
Ольга ЧумичеваТом I
Книга первая
IОна, Кейт Крой, ждала, когда придет отец, но он самым бессовестным образом держал ее в напряжении, и время от времени она замечала в зеркале над камином свое бледное от гнева лицо – ей хотелось развернуться и уйти, отказаться от встречи с ним. Однако она не заходила так далеко, лишь меняла место, перемещаясь с потертого дивана в кресло, обитое вощеным ситцем, и невольно касалась ткани, скользкой и немного липкой. Она разглядывала пожелтевший рисунок обоев, листала случайный журнал годичной давности. Под лампой с абажуром из цветного стекла и рядом с вязаной ослепительно-белой салфеткой скатерть на большом столе выглядела пурпурной; время от времени Кейт выходила на крошечный балкон, куда вели два французских окна. Перед ней открывался вид на заурядную улочку, но после заурядной тесноватой комнаты он вносил хоть какое-то разнообразие; и это все наводило ее на мысль, что узкие темные стены, слишком убогие даже для задних фасадов, соответствовали не менее жалким интерьерам этих домов. Эта комната была подобна сотням других, возможно, еще худших, по всей улице. Каждый раз, когда она возвращалась внутрь – каждый раз в нетерпении и досаде, – пространство комнаты представлялось ей все более глубоким, она все острее чувствовала слабое, вялое воздействие предметов, утрату удачи и чести тем, кто здесь живет.
В каком-то смысле, продолжая ожидать его, она сохраняла себя, не умножая прочие оттенки позора постыдным страхом и крушением личности. Эта улица, комната, скатерть, салфетка и лампа все-таки успокаивали ее – по крайней мере, во всем этом не было бегства или лжи. Хуже всего была общая картина – включая разговор, к которому она тщательно готовилась, хотя и понимала, что хорошего от него ждать не приходится. Она старалась вызвать в себе печаль, чтобы не сердиться, но сердилась еще больше, оттого что не могла испытать желанную грусть. Она удивлялась, что не чувствует себя ничтожеством – непременного чувства того, кому судьбой уготовано стать товаром на аукционе. Хотя разве не служат проявлением ничтожности все эти жалкие, слишком приглушенные чувства?
Жизнь ее отца, сестры, ее собственная, как и жизнь двух покойных братьев, – вся история их семьи казалась изысканной, витиеватой, цветистой фразой, скорее, даже музыкальной – сперва произнесенной словами, затем преображенной в ноты, но лишенной смысла, незавершенной, в конце концов не сохранившей ни слов, ни нот. Зачем приводить в столь мощное движение нескольких людей, заставлять их готовиться к интересному и полезному путешествию лишь для того, чтобы все рассыпалось в прах – без повода, без видимой причины превратилось в ничто? Ответа на этот вопрос не найти было на Чёрк-стрит, улица сама порождала каскад подобных вопросов, и девушка вновь и вновь замирала перед зеркалом и камином, словно они открывали перед ней путь к спасению от докучливых мыслей. Может быть, она могла спастись от «худшего», вернув себе привлекательность? Она всматривалась в помутневшее стекло слишком пристально, чтобы ограничиться созерцанием своей безусловной красоты. Вот она поправила черную, плотно отделанную перьями шляпку, слегка коснулась тяжелой волны темных волос, искоса взглянула на прелестный овал своего лица – скорее отвернувшегося от зеркала, чем обращенного к нему. Она была в черном платье, которое контрастировало со светлой кожей и подчеркивало оттенок волос. Снаружи, на балконе, было видно, что глаза у нее синие, но здесь, перед зеркалом, они казались почти черными. Она была хороша, ей не нужно было подделывать свою красоту, однако впечатление, производимое ею, сильно зависело от внешних обстоятельств. И это впечатление не складывалось, как сумма отдельных деталей. Она была статной, но не высокой, грациозной, но не слишком подвижной, внушительной, но не массивной. Стройная и естественная, часто молчаливая, она каким-то непонятным образом всегда привлекала взгляды окружающих – неизменно радуя взор. Ее счастливое умение прекрасно выглядеть не было связано ни с пышностью наряда – она зачастую использовала меньше аксессуаров, чем другие женщины, – ни с пренебрежением к выбору одежды. В ней была загадка, о существовании которой знали друзья; для них обычным объяснением был ее ум – независимо от того, был ли он причиной или результатом ее очарования. Если и могла она что-то разглядеть в тусклом зеркале отцовской квартиры – нечто большее, чем утонченные черты своего лица, – так это то, что в конечном счете не ее внешний вид был причиной катастрофы. Она не считала себя ни дешевкой, ни убогой. По крайней мере, сама она не воспринимала себя товаром на аукционе. Она еще не сдалась, и если за ней оставалось последнее слово, то она желала, чтобы таковое имело смысл и значение. На какое-то мгновение, пристально вглядываясь в глаза своего отражения, она едва не потерялась в мыслях о том, как повернулось бы все, будь она мужчиной. Она бы обладала именем – драгоценным именем, которое ей так нравилось, – несмотря на ущерб, нанесенный ему отцом, оно еще чего-то стоило. Она любила отца тем нежнее, чем больше кровоточила его рана. Но что могла поделать девушка без денег?
Когда наконец появился отец, она, как обычно, мгновенно ощутила всю тщетность усилий добиться от него хоть какой-то определенности. Он написал ей, что болен, слишком болен, чтобы покидать комнату, что они должны немедленно встретиться; и если все это было лишь умыслом и игрой – должно быть, именно так, – он даже не потрудился придать обману облик правдоподобия. Он, безусловно, хотел увидеться с ней, какими бы извращенными причинами ни было вызвано его желание, – и она была готова к разговору; но теперь в неизменной свободе и непринужденности его манер она снова почувствовала прежнюю боль, ту боль, которую переживала ее мать, – любая встреча с ним пробуждала в ней эти воспоминания. С ним нельзя было поговорить достаточно коротко или формально, чтобы не испытать страдания, и это происходило каким-то невероятным образом помимо его желания – ему было бы выгодно не провоцировать подобное чувство, однако он не мог оставить без внимания малейшую ошибку и тем более допустить ее невозможность, и именно эта уверенность в собственной правоте придавала ему сил. Он мог бы ждать ее на диване в гостиной или лежа в постели, подчеркивая обстоятельства, в которых вынужден ее принимать. Она была довольна, что он избавил ее от подобной интимности, однако это напомнило ей, как мало доверия он заслуживал. Каждая встреча оборачивалась знакомой рутиной, он лгал непрестанно, словно карточный шулер, оперирующий засаленной колодой, он разыгрывал дипломатическое представление, вовлекая в него других и вынуждая подчиняться его правилам. Неловкость, неизбежно возникавшая в таких ситуациях, не была следствием очевидной, почти вызывающей лжи – скорее, она вытекала из отсутствия правды. Он действительно мог заболеть, но было бы удобнее знать об этом наверняка и избегать контакта, чтобы не задаваться вопросом, обман это или нет. Даже если бы он умер, Кейт не смогла бы по-настоящему поверить в его смерть.
Он не спустился из своей комнаты – она знала, что та расположена непосредственно над той, в которой они теперь находились; его просто не было дома, хотя если бы она решилась сказать об этом, он бы все отрицал и даже постарался представить это как доказательство своей беспомощности. Однако у нее уже не было сил и не осталось решимости; столкнувшись с ним лицом к лицу, она ощутила, как раздражение покидает ее, – весь облик его источал трагизм, которому она не могла противостоять. И затруднительность ее положения отнюдь не смягчалась тем, что во всем происходящем было нечто комическое; она едва ли не готова была найти ему оправдание. Он не был забавным – для этого ему не хватало человечности. Безупречный вид, отработанный до совершенства, давно стал для него банальной привычкой. И ничто не могло бы отчетливее демонстрировать его правоту. Он был сама непринужденность: розовая кожа, серебристые волосы, прямая осанка, некая чопорность фигуры и одежды – светский человек, не причастный ни к чему неприятному. Воплощение английского джентльмена – благополучного, уверенного, здорового. Появляясь в ресторане за границей или на приеме в посольстве, он вызывал лишь естественное изумление: «Как же безупречны англичане!» Взгляд его был добрым и спокойным, а голос глубоким и чистым, причем ему не доводилось повышать его ни при каких обстоятельствах. Жизнь сама шла ему навстречу, а потом сопровождала и поддерживала его, мягко подхватив под руку и нежно направляя его к цели кратчайшим путем. Знакомые замечали: «Как он одет!» – а те, кто знал его лучше, недоумевали: «Как ему это удается?» Но только его дочь замечала легкий отблеск комического, особенно на фоне убогой обстановки меблированных комнат. Мгновение ей казалось, что он – всего лишь случайный посетитель, а она хозяйка квартиры. У нее возникало порой странное, не поддающееся определению чувство, связанное с воспоминаниями о том, как он приходил к ее матери – пока та еще готова была принимать его. Зачастую они даже не знали, откуда он прибыл, но являлся он так, словно осчастливил Лексэм-гарденз самим своим присутствием.
На этот раз Кейт выразила досаду лишь коротким замечанием:
– Я рада, что тебе намного лучше!
– Мне ничуть не лучше, дорогая, мне чудовищно плохо, и свидетельство тому – необходимость посетить аптекаря, того грубияна на углу. – Мистер Крой сделал нарочито слабый жест, словно указывая на место действия. – Я забрал кое-какие препараты, которые он приготовил для меня. Именно поэтому я и послал за тобой, чтобы ты сама увидела, каково мне.
– Ох, папа, я давно уже поняла, что ты из себя представляешь! Полагаю, мы все уже подобрали для тебя верное определение – n’en parlons plus[1]. Ты прекрасен, как всегда, и выглядишь отлично.
Некоторое время он пристально, критически рассматривал ее лицо и одежду оценивающим и не вполне одобрительным взглядом, тем самым демонстрируя, что не утратил искренний интерес к дочери. На самом деле интерес этот не был глубоким – впрочем, ко всем остальным на свете он был еще более безразличен. Иногда она пыталась угадать, чем могла бы по-настоящему порадовать его. Пожалуй, тем, что была хороша собой, и это делало ее в некотором роде ценным капиталом. Другое его дитя не заслуживало, по мнению отца, ни капли внимания. Ему и дела не было до бедняжки Марианны. Несмотря на безусловную красоту, сестра ее овдовела и теперь отчаянно нуждалась, на ее попечении остались четверо детей. Какую ценность могла она представлять с таким багажом?
Она спросила, как долго он проживает в этой квартире, хотя это было не важно, да и правдивого ответа она не ждала. Она и не придала значения ответу, не задумалась, насколько он соответствовал действительности, мысли ее уже перенеслись к более важному предмету – тому, что она собиралась сообщить отцу. Ради этого она так долго ждала его, преодолевая раздражение и обычное свое нетерпение. Но теперь у нее уже не оставалось сил тянуть, и она поспешила заявить:
– Да, я хочу поехать с тобой; не знаю, что ты собираешься мне сказать, но даже если бы ты не написал мне, я бы пришла – не сегодня, так завтра. Все стало ясно, и я лишь ждала встречи с тобой, чтобы окончательно убедиться. Теперь я вполне уверена. Я еду с тобой.
Вот это уже произвело на него впечатление.
– Едешь со мной?
– Куда угодно. Я останусь с тобой. Даже здесь. – Она сняла перчатки и уселась с таким видом, словно все шло согласно ее плану.
Лайонел Крой помедлил – он искал предлог, чтобы непринужденно выйти из положения, в котором оказался из-за ее заявления; именно на такую реакцию она и рассчитывала – он окажется в затруднении. Он уже пожалел, что позвал ее, он совершенно не желал, чтобы она поселилась у него, но отказать надо было с достоинством, не потеряв лица. Часть его очарования состояла в том, чтобы принять облик жертвы, – именно так он пытался добиваться своих целей. Но какой уж тут стиль, если она не откажется от своего намерения? Ему пришло в голову, что надо уступить ей, проявив благородство; это позволит снять напряжение и избавиться от нее. Она, судя по всему, нимало не заботилась о его затруднении. Она столько раз наблюдала его блистательные представления, что едва ли ее можно было удивить новым. И она отчетливо прочитала досаду в его интонации, когда он наконец произнес:
– О, дитя мое, я никак не могу согласиться на это!
– Что же ты собираешься делать в таком случае?
– Я еще не принял решения, – сказал Лайонел Крой. – Вообрази, я пока даже не думал об этом.
– А о моих словах ты подумал? – спросила дочь. – Я имею в виду, что я готова следовать за тобой.
Он стоял перед ней, заложив руки за спину и слегка расставив ноги, покачиваясь туда-сюда, словно приподнимаясь на цыпочки и опускаясь. Это была поза нарочитой задумчивости.
– Нет, я не могу, я не могу сейчас думать об этом.
Он произнес эти слова весомо, так что она вновь оценила силу его артистизма, одновременно припоминая прежние разочарования и то, как мало можно было доверять производимому им впечатлению. Он всегда казался искренним, и это был крест, который пришлось нести ее матери; каждый его жест был рассчитан на публику – и слава богу, что окружающие не знали, на что он был способен на самом деле. В силу особого склада характера он был совершенно невыносимым мужем, и это накладывало ужасный отпечаток на связанную с ним женщину. Кейт признавала, что противостоять ему, расстаться с человеком, обладающим такой внешностью, такими безупречными манерами, было вовсе не легко. Чего она не знала и не могла предполагать, так это то, что у него был большой опыт подобных затруднительных ситуаций. Если он и считал младшую дочь потенциально выгодным капиталом, все же главным сокровищем в его глазах был он сам. Величайшее чудо заключалось не в том, что это всегда выручало его, а в том, что на этот раз привычка не могла ему помочь. Традиционная интонация, универсальная и отлично работавшая прежде, не могла сломить ее терпение. Она угадала его следующий шаг.
– Ты хочешь, чтобы я поверил в то, что ты вот так взяла и передумала?
Она знала, как ответить.
– Боюсь, папа, меня не очень беспокоит, во что ты веришь. Я никогда не считала тебя доверчивым. – Она решилась и добавила: – Я вообще полагаю, ты ни во что не веришь. Видишь ли, папа, я совсем не знаю тебя.
– И ты думаешь, что способна с этим справиться?
– О нет, что ты! Об этом и речи нет. Я и не рассчитываю на это, но это и не важно. Мне кажется, я могла бы жить с тобой, но не могла бы тебя понять. Конечно, я понятия не имею, как ты собираешься справиться с ситуацией.
– А я и не собираюсь, – почти весело ответил мистер Крой.
Все возвращалось на круги своя, даже странно, как мало требуется, чтобы продемонстрировать суть дела. И сутью этой было нечто отвратительное – столь определенное, что казалось материально ощутимым. Суть проступала в самой обстановке, в каждой детали его скудной жизни, которую она воспринимала так остро, что не смогла удержаться от ехидного тона:
– О, прошу прощения. Ты ведь процветаешь!
– И в чем ты меня упрекаешь? – снисходительно бросил он. – В том, что я не покончил с собой?
Она сочла этот вопрос чисто риторическим, в конце концов она пришла ради серьезного дела.
– Ты знаешь, как все мы встревожены маминым завещанием. Она оставила даже меньше, чем сама предполагала. Мы не понимаем, как нам удавалось жить. Все, что у нас есть, это две сотни в год для Марианны и две для меня, но я уступила сотню Марианне.
– О, ты, как всегда, проявила слабость, – добродушно вздохнул отец.
– Для нас с тобой и одна сотня кое-что.
– А что с остальным?
– А ты сам способен что-то сделать?
Он выразительно взглянул на нее, а потом засунул руки в карманы, вывернул их наружу и замер на минуту перед окном, которое она прежде открыла. Ей нечего было добавить – она уже все сказала и теперь ждала его ответа. Повисла тишина, нарушаемая лишь отдаленными криками уличного торговца, разрезающими прохладный мартовский воздух. Комнату заливало неяркое солнце, доносился приглушенный шум Чёрк-стрит. Он приблизился к дочери и произнес с легким недоумением:
– Не могу понять, что тебя заставило принять столь внезапное решение?
– Мог бы и догадаться. Но, позволь, я объясню. Тетя Мод сделала мне предложение. Но вместе с ним она поставила условие. Она готова позаботиться обо мне.
– Чего же она могла пожелать?
– О, не знаю… многого. Я не такое уж ценное приобретение, – сухо ответила девушка. – Прежде никто не выражал намерения заботиться обо мне.
Казалось, теперь ее отец испытывал если не подлинный интерес к теме, то хотя бы любопытство.
– Тебе еще ни разу не делали предложение? – он словно не мог поверить, что такое могло происходить с дочерью Лайонела Кроя, отсутствие предложений явно казалось ему чем-то невероятным и абсурдным.
– По крайней мере, не от богатых родственников. Она очень добра ко мне, но говорит, что потребуется немало времени, чтобы научиться понимать друг друга.
Мистер Крой одобрительно кивнул:
– Конечно, это справедливое замечание про время, но я не понимаю, что именно она имела в виду.
– В самом деле?
– О, отлично. Она готова позаботиться о тебе, если ты полностью прекратишь общение со мной. Ты упоминала некое условие. Несомненно, речь шла об этом.
– Именно это и заставило меня изменить планы, – сказала Кейт. – Поэтому я здесь.
Он жестом показал, как высоко ценит ее решимость, а несколько секунд спустя с легкостью вывернул все наизнанку:
– Ты и вправду полагаешь, что я в состоянии принять тебя на свое попечение?
Она немного помедлила с ответом, а потом просто сказала:
– Да.
– Ну, в таком случае ты еще большая дурочка, чем я предполагал.
– Почему же? Ты жив. Ты процветаешь. Ты полон оптимизма.
– Ты всегда меня ненавидела! – пробормотал он, уставившись в окно.
– Мало у кого так мало приятных воспоминаний, – заявила она, пропустив мимо ушей его последнее замечание. – Но ты живешь настоящей жизнью, если такое вообще возможно. Ты прекрасен. Знаешь, иногда ты поражаешь меня: в каком-то смысле ты крепче меня стоишь на земле. И не пытайся выставить меня чудовищем, если я напоминаю тебе, что мы, в конце концов, папа и дочь и мы можем хоть в чем-то рассчитывать друг на друга. Я думаю, это важно для нас обоих. Я не собираюсь портить тебе жизнь, но прошу принять мое существование. Со своей стороны я готова сделать для тебя все, на что способна.
– Ясно, – сказал Лайонел Крой, а затем добавил торжественно: – И на что ты способна?
Она на мгновение заколебалась, и он тут же взял инициативу в свои руки.
– Ты наверняка думаешь, что совершаешь красивый поступок, раз уж решилась отказаться от щедрот тети и прийти ко мне, но я хотел бы знать, что доброго принесет мне твой побег? – Он выдержал паузу, а поскольку она молчала, продолжил развивать свою мысль: – Мы немногим располагаем, и ничего не выигрываем от твоего решения, и едва ли долго протянем вместе на имеющиеся средства. Но мне нравится, девочка моя, как ты решительно заявляешь, что готова от всего отказаться! Не стоит отказываться от ложки, если намерена питаться бульоном. А твоя ложка – это тетя. Причем отчасти она и мой шанс.
Она встала, довольно резко, признавая тщетность своих усилий и слабость своей позиции, и вернулась к маленькому темному зеркалу, перед которым стояла, пока ждала отца. Снова поправила шляпку, и этот жест заставил его в нетерпении бросить ей:
– О, ты в полном порядке! Тебе не надо связываться со мной!
Она обернулась и взглянула на него:
– Условие тети Мод заключается в том, что я не должна иметь с тобой ничего общего, никогда не встречаться, не разговаривать, не писать тебе, не приближаться к тебе и не подавать никаких знаков, не обмениваться с тобой никакими новостями. Она требует, чтобы ты просто перестал существовать для меня.
Многие находили невыносимой его привычку разговаривать, покачиваясь с носка на пятку, с неким пренебрежением и даже вызовом. Однако самое забавное, что в этом жесте не было намеренного оскорбления. По крайней мере, он не ставил такой цели. Но именно сейчас он стал покачиваться, когда разговор стал напряженным.
– Дорогая, твоя тетя Мод выдвигает весьма справедливое требование – не имею в этом ни малейших сомнений!
Она почувствовала, как подкатывает тошнота, она не находила больше слов, а он продолжал:
– Таково, значит, ее условие. А что она обещает взамен? Что она готова сделать для тебя? Знаешь, тебе следует хорошенько поработать над этой стороной соглашения.
– Ты имеешь в виду, что я должна показать ей, как дорожу тобой и как много теряю? – поинтересовалась Кейт.
– Ну, продемонстрируй, что это соглашение крайне жестокое, несправедливое. Я старый бедный папочка, который должен отступить и дать тебе дорогу к лучшей жизни. И я готов принять это. Но, в конце концов, мне, старику, тоже можно кое-что подкинуть за мое смирение.
– О, полагаю, она уверена, что я только выигрываю от такого соглашения, – заметила Кейт почти весело.