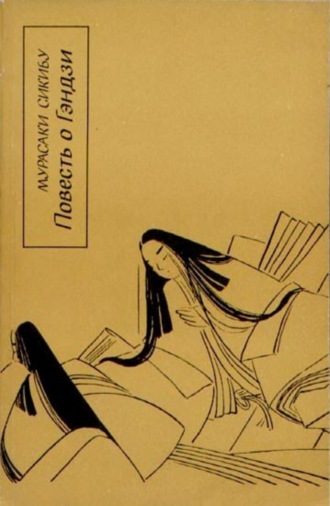 полная версия
полная версияПовесть о Гэндзи (Гэндзи-моногатари). Книга 2
– Небеса, куда вознеслась Кагуя-химэ, в самом деле недостижимы для обычных людей, и никому из нас не дано их познать, – отвечают правые. – Но посмотрите, какова ее судьба в нашем, земном мире. Возникла она из коленца бамбука, происхождение, которое вряд ли можно считать благородным. Вы скажете, что она озарила своим сиянием дом старика, и это действительно так, но почему-то это сияние оказалось недостаточно ярким для того, чтобы соединиться со светочем, за Стокаменными стенами обитающим. Абэ-но ооси потерял тысячи золотых слитков[7], но пламя в одно мгновение уничтожило платье из мышиной шкурки, и вместе с ним беспомощно угасла его любовь. А принц Кура-моти? Зная, сколь недоступна настоящая гора Хорай, он все-таки попытался обмануть Кагуя-химэ, и ветка из драгоценных камней стала его позором. Все это вряд ли можно считать достоинствами повести.
Картины к «Повести о старике Такэтори» принадлежали кисти Косэ-но Ооми[8], а текст написал Ки-но Цураюки. Свитки были сделаны из бумаги «канъя», подбитой китайским шелком, имели красновато-лиловое обрамление и сандаловые валики – словом, ничем особенным не отличались.
– Ужасная морская буря занесла Тосикагэ в неведомую страну[9], но ему все-таки удалось достичь желанной цели, и в конце концов слава о его чудесном даре распространилась и в чужих землях, и в нашей, а имя сделалось достоянием потомков. Во всем этом есть истинное ощущение древности. Картины же замечательны чередованием китайских и японских пейзажей, им поистине нет равных, – говорят правые.
Свитки «Повести о Тосикагэ» были сделаны из белой бумаги с зеленым обрамлением и валиками из золотистого камня. Живопись принадлежала кисти Цунэнори[9], надписи были выполнены Митикадзэ[10]. Написанные в новом стиле, картины эти привлекали внимание яркой изысканностью. Левой стороне нечего было им противопоставить.
Затем принимаются сопоставлять «Повесть из Исэ»[11] и «Дзёсамми»[12] и опять не могут прийти к единому мнению. Пожалуй, преимущество и теперь оказывается на стороне правых, которые представляют ярко и живо написанные картины с изображением различных сцен из современной жизни, и прежде всего из жизни дворцовых покоев. Тут Хэйнайси произносит:
– Не умея проникнуть В морские глубины Исэ, Неужели сотремДела минувшие в памяти, Как волна стирает следы?Разве эта пустая, искусно приукрашенная любовная история способна затмить имя Аривара Нарихира?
Право, довод не очень убедительный. Со стороны правых отвечает Дайни-но сукэ:
– Если душаВоспаряет к заоблачным далям, Ей оттуда и море В много тысяч хиро глубиной Непременно покажется мелким.– Разумеется, возвышенные чувства Хёэ-но оогими[13] не могут не вызывать уважение, но и к Дзайго-но тюдзё[14] нельзя относиться пренебрежительно, – говорит Государыня, затем добавляет:
– Случайному взору Показаться могут увядшимиТравы морские,Но разве увянут речиРыбаков с побережья Исэ?Долго состязались обитательницы женских покоев, одно мнение приходило на смену другому, каждый свиток становился предметом ожесточенных споров, однако согласие так и не было достигнуто. Менее искушенные молодые дамы умирали от желания посмотреть на спорящих, но никому из них – прислуживали ли они Государю или Государыне – не удалось ровно ничего увидеть, ибо Государыня пожелала обойтись без огласки.
Министр Гэндзи время от времени заходил во Дворец, и его немало забавляли эти шумные споры.
– Раз уж так получилось, отчего не разрешить окончательно ваш спор в присутствии Государя? – заявил он в конце концов.
Собственно говоря, именно это он и имел в виду, когда перевозил в Сливовый павильон картины из своего собрания. В покоях жрицы собралось немало прекрасных произведений, но Гэндзи счел целесообразным добавить к ним еще два свитка, привезенные из Сума и Акаси. Не отставал от него и Гон-тюнагон, В те времена собирание картин стало самым любимым занятием в Поднебесной.
– Мне кажется, не стоит нарочно для этого случая заказывать что-нибудь новое. Достаточно тех картин, которыми мы располагаем, – решил Гэндзи, но Гон-тюнагон, никому ничего не говоря, устроил в своем доме тайные покои и, посадив туда мастеров, дал им соответствующие задания. Даже до отрекшегося Государя дошел слух о том, что происходит, и он изволил прислать обитательнице Сливового павильона некоторые из принадлежащих ему картин.
Среди них оказался свиток с изображением важнейших годовых праздников. Различная по стилю живопись была выполнена древними мастерами и сопровождалась пояснениями, принадлежащими кисти самого императора Энги[15]. На другом свитке воспроизводились события тех лет, когда миром правил отрекшийся Государь, и среди них столь глубокий след оставившая в его сердце церемония отправления жрицы в Исэ, имевшая место когда-то во дворце Дайгоку. Государь особо поручил Киммоти[16] запечатлеть этот эпизод, дав ему точные указания относительно того, как и что должно быть изображено. Этот великолепный свиток, уложенный в футляр из аквилярии с изящнейшей ажурной резьбой и украшениями, придававшими ему весьма современный вид, тоже был отослан в Сливовый павильон вместе с устным посланием от Государя, которое передал Сакон-то тюдзё, служивший теперь и во дворце Красной птицы. В той части свитка, где было изображено, как жрицу торжественно подносят на носилках к дворцу Дайгоку, Государь собственноручно сделал такую надпись:
«Живу я теперь Вне священных пределов, Но думы моиДо сих пор стремятся к далеким, Ушедшим в прошлое дням…»Не ответить было бы непочтительно, и бывшая жрица, вздохнув, надломила конец той самой шпильки и, написав:
«В священных пределахИ следа не осталось от прошлого.Печально смотрюВокруг, с тоской вспоминаяГоды, отданные богам»,-завернула письмо в светло-синюю китайскую бумагу и велела отнести во дворец Красной птицы. Гонец получил богатые дары. Письмо обитательницы Сливового павильона растрогало бывшего Государя до слез. О когда б можно было вернуть прошлое! Как все-таки жестоко поступил с ним министр!
Впрочем, не правильнее ли было считать, что все эти неудачи посланы ему в наказание за прошлые заблуждения?
Картины свои Государь унаследовал от Государыни-матери, причем значительная их часть была, очевидно, передана даме из дворца Кокидэн. Большой любительницей живописи оказалась и Найси-но ками, сумевшая собрать немало прекрасных произведений, вполне отвечающих ее тонкому вкусу.
Наконец день был назначен, и, хотя времени почти не оставалось, дамы сумели подготовить самое необходимое и с приличным случаю изяществом разместить картины в покоях Государя.
Сиденье для Государя было устроено в помещении придворных дам, а с северной и южной сторон от него расположились спорящие, предварительно разделившись на левых и правых. Придворные собрались на галерее дворца Грядущей прохлады, Корёдэн, приготовившись выражать сочувствие той или другой стороне.
Левые, уложив свитки в сандаловые ларцы, поместили их на столики из сапанового дерева, стоявшие на подстилках из лиловой китайской парчи и покрытые китайским сиреневым шелком, затканным узорами. Им прислуживали шесть девочек-служанок в красных платьях и накидках кадзами[17] цвета «вишня». Нижние одеяния у них были алые или же цвета «глициния»[18] с узорами. Девочки привлекали внимание необычайной миловидностью и изяществом манер.
У правых ларцы из аквилярии стояли на столиках из того же дерева, только более светлого. Столики были покрыты желтовато-зеленой корейской парчой. Форма ножек и обвивающиеся вокруг них шнуры отвечали последним требованиям моды. Девочки-служанки были облачены в зеленые платья, кадзами цвета «ива»[19] и нижние одеяния цвета «керрия». Внеся ларцы со свитками, они поставили их перед Государем. Дамы из Высочайших покоев, разделившись на две группы, различающиеся цветом платья, разместились перед Государем и позади него. Особые приглашения были посланы министру Двора и Гон-тюнагону. Пришел и принц Соти, который пользовался в мире славой истинного ценителя прекрасного и был к тому же страстным любителем живописи. Скорее всего дело не обошлось без тайного вмешательства Гэндзи, ибо, хотя принцу не было послано официального приглашения, Государь устно изъявил желание видеть его в этот день во Дворце. Придя в Высочайшие покои, принц Соти принял на себя обязанности судьи, – такова была воля Государя. Однако отдать предпочтение чему-то одному оказалось не столь уж и просто, ибо взорам собравшихся предстали произведения поистине замечательные, лучшее из того, что когда-либо было создано кистью.
Взять хотя бы уже упоминавшиеся свитки с празднествами четырех времен года. Выбирая наиболее достойные внимания сцены, старые мастера запечатлели их с непревзойденной легкостью и свободой. Казалось, что прекраснее ничего и быть не может. Однако живопись на бумаге[20], представленная другой стороной, имела свои преимущества. Поскольку на сравнительно небольшом бумажном листе трудно передать в полной мере необозримость гор и вод, современный художник старается произвести впечатление прежде всего изощренностью, ловкостью кисти и необычностью взгляда на мир. Поэтому, отличаясь некоторой поверхностностью, новая живопись в целом не уступает старой, а по яркости и занимательности иногда даже превосходит ее. Надобно ли сказывать, сколь много заслуживающих внимания доводов приводилось в тот день и с той, и с другой стороны?
Государыня наблюдала за происходящим, отодвинув перегородку Зала для утренних трапез. Воодушевленный ее присутствием – ибо он был весьма высокого мнения о ее познаниях в этой области, – министр Двора довольно часто, особенно когда суждение о тех или иных произведениях не удовлетворяло его, вставлял свои собственные замечания, неизменно оказывавшиеся чрезвычайно тонкими.
Настала ночь, а спорящие так и не пришли к единому мнению. Но вот наконец левые извлекли последний из оставшихся у них свитков – свиток с видами Сума, и сердце Гон-тюнагона затрепетало.
Правые тоже оставили напоследок свой лучший свиток, но что могло сравниться с замечательным творением Гэндзи, этого удивительного мастера, который, очистив сердце от суетных помышлений, сумел в движения кисти вложить сокровенные движения души? Все, начиная с принца Соти, были растроганы до слез.
Когда Гэндзи был в изгнании, многие печалились и сочувствовали ему, но мог ли кто-нибудь вообразить?.. Только теперь, глядя на свиток, люди словно переносились на пустынный морской берег, проникали в мысли и чувства изгнанника. Кисть Гэндзи с величайшей точностью запечатлела место, где жил он долгие годы: никому не ведомый залив, дикие скалы… Надписи, сделанные китайскими скорописными знаками и каной, перемежались трогательными песнями, которых не найдешь в настоящих суховато-подробных дневниковых записях, – словом, хотелось смотреть и смотреть без конца. Показанные прежде картины были забыты, и внимание растроганных и восхищенных зрителей целиком сосредоточилось на свитке с видами Сума. Все остальное уже не имело значения, и стало ясно, что победа на стороне левых.
Близился рассвет. Министр был чрезвычайно растроган и, когда подали вино, пустился в воспоминания.
– С малых лет питал я пристрастие к китайским наукам, и, как видно, опасаясь, что излишнее рвение скорее повредит мне, Государь сказал: «Разумеется, книжная премудрость весьма почитается в мире, но не потому ли успешное продвижение по стезе наук редко сочетается с долголетием и благополучием? Тебе же высокий ранг обеспечен рождением, ты и так не будешь ни в чем уступать другим. А потому не особенно усердствуй в углублении своих познаний». Наставляя меня подобным образом, он следил за тем, чтобы я в достаточной мере усвоил все основные науки. Меня нельзя было назвать неспособным, но сказать, что я достиг в чем-то совершенства, тоже нельзя. И только с живописью дело обстояло немного иначе. Как ни малы были мои дарования, иногда у меня возникало мучительное, безотчетное желание добиться того, чтобы кисть полностью отвечала движениям души. Неожиданно для самого себя я стал бедным жителем гор и, получив возможность проникнуть в сокровенную суть морских просторов, окружавших меня с четырех сторон, познал все, что только можно было познать. Но далеко не все подвластно кисти, и мне казалось, что я так и не сумел выразить то, что замыслил… К тому же до сих пор у меня не было повода кому-то показывать эти свитки. Боюсь, что и сегодня я поступил опрометчиво и потомки не преминут осудить меня, – говорит он, обращаясь к принцу Соти.
– Никакими знаниями нельзя овладеть вполне, не отдавая учению всех душевных сил. Поскольку на каждой стезе существуют свои наставники и свои способы обучения, постольку все ученики, усваивая те или иные приемы, могут достичь уровня своих учителей. И здесь не имеет значения, стремятся ли они проникать в глубины или предпочитают оставаться на поверхности. Только искусство кисти и игра в «го», как ни странно, требуют от человека в первую очередь особой предрасположенности духа. Даже какой-нибудь неуч может научиться неплохо писать или играть в «го», ежели есть у него к тому способности. Так что же говорить о детях благородных родителей? Среди них еще больше таких, которые, обнаруживая необыкновенные дарования, легко достигают успехов на любом поприще. Покойный Государь с удивительным рачением воспитывал своих детей, внушая им знания, приличные полу каждого. Вас же он любил более других, а потому уделял вашему обучению особое внимание, и, как видно, не зря. «Значение книжных премудростей не подлежит сомнению, – изволил наставлять нас Государь, – но если говорить о прочем, то прежде всего вам следует овладеть искусством игры на китайском кото «кин», а затем освоить продольную флейту, бива и кото «со»«. Остальные придерживались того же мнения, поэтому я всегда считал живопись просто забавой для кисти в часы досуга. Мог ли я предполагать, что вам удалось достичь такого совершенства? Боюсь, что даже прославленные старые мастера разбегутся кто куда, увидев ваше творение. Ну не дурно ли это? – говорит захмелевший принц Соти, и Гэндзи вдруг так живо вспоминается ушедший Государь, что он не может сдержать слез. Впрочем, не хмель ли тому виною?
На небо выплывает двадцатидневный месяц, и, хотя свет его еще не достиг места, где расположились придворные, все вокруг озаряется чудесным сиянием. Распорядившись, чтобы из Книжного отделения принесли музыкальные инструменты, Государь вручает Гон-тюнагону японское кото. Ведь что ни говори, а в игре на кото мало кто может с ним сравниться. Принц Соти берет кото «со», министр – «кин», а бива отдают госпоже Сёсё. Отбивать такт поручают придворным, обладающим превосходным чувством ритма. Получается великолепно!
Постепенно светлеет, вот уже различимы оттенки цветов в саду, фигуры людей… Светло и чисто поют птицы. Наступает прекрасное утро. Гости получают дары от Государыни. Принцу Соти Государь сверх того жалует полный парадный наряд.
В те времена в мире только и говорили что об этом сопоставлении картин.
Свиток с видами залива министр распорядился передать Государыне. Разумеется, ей хотелось увидеть и все остальные свитки, привезенные из Сума, но Гэндзи ограничился обещанием, что со временем… Он был очень рад, что сумел доставить удовольствие Государю.
Видя, что министр Двора не упускает случая оказать покровительство бывшей жрице, Гон-тюнагон забеспокоился, опасаясь, как бы дочь его не лишилась высочайшего расположения. Но, тайком наблюдая за ней, убедился, что чувства Государя не переменились и он питает к ней прежнюю доверенность. Это позволяло Гон-тюнагону надеяться на будущее.
Гэндзи всегда старался изыскивать разнообразные средства для того, чтобы придать новый блеск обычным празднествам и церемониям. Ему хотелось, чтобы потомки говорили: «Этому начало было положено при таком-то Государе». Неудивительно поэтому, что он уделял особенное внимание подготовке столь, казалось бы, незначительных, неофициальных увеселений. Это был воистину блестящий век.
Сам же Гэндзи по-прежнему сетовал на непостоянство мира и, искренне желая удалиться от него, лишь ждал: «Вот повзрослеет Государь…»
«Люди, выделяющиеся своими талантами и уже в молодые годы достигшие высоких чинов и званий, ненадолго задерживаются в этом мире. Древние времена дают немало тому примеров, – думал Гэндзи. – Слишком велики почести, которыми осыпают меня теперь. Боюсь, что, когда б не горести и не лишения, на время прервавшие мое благополучное существование, мне не удалось бы дожить до сего дня… Легко может статься, что дальнейшее возвышение будет стоить мне жизни. Поэтому лучше всего, отказавшись от света, заключиться в монастырь и посвятить себя заботам о грядущем. Быть может, это и продлит мой нынешний век…»
Подыскав тихое место в горах, Гэндзи велел построить там молельню и собрать в ней изображения будд и священные сутры. Однако сразу же отказаться от мира он не мог, и прежде всего из-за детей, которым должно было дать достойное воспитание. Так что трудно было проникнуть в его истинные намерения.
Ветер в соснах

Основные персонажи
Министр Двора (Гэндзи), 31 год
Дама из Сада, где опадают цветы (Ханатирусато), – возлюбленная Гэндзи
Особа из Акаси (госпожа Акаси), 22 года, – возлюбленная Гэндзи, дочь Вступившего на Путь из Акаси
Корэмицу – приближенный Гэндзи
Девочка, 3 года, – дочь Гэндзи и госпожи Акаси
Югэи-но дзё (Укон-но дзо-но куродо) – приближенный Гэндзи, сын правителя Хитати (Иё-но сукэ)
Госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 23 года, – супруга Гэндзи
Строительство Восточной усадьбы было завершено, и Гэндзи поселил там особу, известную под именем Ханатирусато, дама из Сада, где опадают цветы. В Западном флигеле и примыкающих к нему галереях были должным образом размещены необходимые службы и домашняя управа. Восточный флигель предназначался для особы из Акаси, а в Северном, расширенном нарочно для этой цели, министр Двора намеревался поселить женщин, с которыми когда-то был мимолетно связан и которые имели основания рассчитывать на его покровительство в будущем. Для их удобства флигель был разделен на небольшие уютные покои, заботливо и изящно убранные.
Главный дом Восточной усадьбы Гэндзи пока оставил свободным и, рассчитывая, что сможет иногда жить там сам, распорядился, чтобы его убрали соответствующим образом.
Все это время он поддерживал постоянные сношения с Акаси и недавно снова написал туда, предлагая женщине перебраться в столицу, но она по-прежнему терзалась сомнениями, сетуя на незначительность своего положения в мире.
«Я слышала, что легче вовсе не видеть его, чем жить рядом, страдая от его холодности, – думала она. – Причем так говорили, имея в виду дам самого высокого происхождения. На что же надеяться мне, если, приехав в столицу, я стану одной из женщин, живущих его милостями? Мое низкое состояние ни для кого не останется тайной, и дочери вряд ли удастся смыть с себя это пятно. Скорее всего придется жить в одиночестве, всеми презираемой, довольствуясь случайными его посещениями. Право, что может быть унизительнее?»
Вместе с тем ей слишком трудно было примириться с мыслью, что дочери придется расти в глуши и что она никогда не займет достойного положения. Поэтому ответить Гэндзи решительным отказом женщина не могла.
Родители, признавая справедливость ее сомнений, тоже печалились и вздыхали, так что письмо Гэндзи стало источником новых волнений, хотя, казалось бы…
Между тем Вступивший на Путь вспомнил, что дед его супруги, принц Накацукаса, имел когда-то владения в окрестностях реки Ои[1], которые после его смерти за отсутствием прямого наследника постепенно пришли в запустение. Он решил вызвать человека, которого род на протяжении многих лет неизменно присматривал за поместьем, и побеседовать с ним.
– Окончательно порвав с суетным миром, я поселился в этой глуши и спокойно жил здесь, пока не возникло одно совершенно неожиданное для всех нас обстоятельство, принудившее меня снова искать пристанища в столице, – говорил Вступивший на Путь. – Но, признаться, меня пугает необходимость погрузиться в гущу столичной жизни, полной блеска и суеты. Я слишком долго жил в провинции, и всякий шум претит мне. Потому-то мне и захотелось отыскать какую-нибудь тихую, старую усадьбу. Все расходы я возьму на себя. Нельзя ли так перестроить этот дом, чтобы в нем можно было жить вполне прилично?
– За долгие годы не нашлось никого, кто предъявил бы права на это жилище, и оно постепенно приобрело весьма жалкий вид, – отвечал сторож. – Сам я живу в служебных помещениях, которые мне удалось привести в порядок. Должен вам сказать, что начиная с весны в окрестностях царит небывалое оживление: господин министр Двора строит неподалеку храм. Здание будет, очевидно, внушительным, во всяком случае людей собрано немало. Так что, если вы желаете тишины, это место вам вряд ли подойдет.
– Да нет, почему же? Тем более что по некоторым обстоятельствам мое семейство вправе рассчитывать на покровительство господина министра. Что касается состояния дома, то со временем все наладится. Вас же мне хотелось попросить как можно быстрее подготовить самое необходимое.
– Видите ли, я не являюсь владельцем этих земель, но, поскольку передать их мне было некому, я и жил там все это время в тишине и покое. Дабы луга, поля и прочие угодья не пришли в полное запустение, я распоряжался ими по своему усмотрению, заручившись предварительно разрешением покойного Мимбу-но таю и выплачивая все что полагается, – недовольно скривившись, сказал сторож.
Судя по всему, он испугался за нажитое добро. Нос его покраснел, на безобразном, заросшем волосами лице застыла недоверчивая ухмылка.
– До полей и прочего мне нет дела. Можете распоряжаться ими так же, как распоряжались до сих пор. Разумеется, у меня есть все, какие положено, грамоты на владение этими землями, но, не желая обременять себя мирскими заботами, я до сих пор пренебрегал ими. Надеюсь, что теперь мне удастся наверстать упущенное, – сказал Вступивший на Путь, а поскольку было упомянуто имя министра Двора, сторож забеспокоился и поспешил приступить к перестройке дома, получив на это весьма значительные средства из Акаси.
Гэндзи, ничего не ведавший о замысле старика, недоумевал, не понимая, почему женщина так упорно отказывается переехать в столицу. Он боялся, что имя его дочери окажется навсегда связанным с диким побережьем Акаси – обстоятельство, которое могло иметь губительные последствия для ее будущего.
Но тут как раз закончили перестройку дома, и Вступивший на Путь сообщил Гэндзи: «Вот, дескать, вспомнил случайно о существовании такого жилища…»
Разумеется, Гэндзи сразу понял, что мысль о собственном доме возникла не случайно: видимо, женщина боялась затеряться среди прочих дам, живущих под его покровительством. «Что ж, вполне достойное решение», – подумал он и отправил в Ои Корэмицу, неизменного помощника своего в таких делах, поручив ему позаботиться о том, чтобы все было устроено надлежащим образом.
– Место прекрасное, есть даже некоторое сходство с морским побережьем, – доложил Корэмицу, вернувшись, и Гэндзи успокоился: «Что ж, может, это и к лучшему».
Храм, который по его распоряжению строили в горах, чуть южнее Дайкакудзи[2], производил прекрасное впечатление, а Павильон у водопада[3] был не хуже, чем в самом Дайкакудзи.
Усадьба, предназначавшаяся для женщины из Акаси, стояла на берегу реки. Редкой красоты сосны окружали главное здание, строгое и простое, отмеченное особым очарованием сельского жилища. Обо всем, вплоть до внутреннего убранства, позаботился министр.
И вот наконец он тайно отправил в Акаси самых преданных своих слуг.
«Увы, пора…» – вздыхала женщина, понимая, что разлука с Акаси неизбежна. Ей было грустно покидать этот дикий берег, где она прожила столько лет, не хотелось оставлять отца одного. Мысли одна другой тягостнее теснились в ее голове.
«Неужели рождена я для того лишь, чтобы вечно предаваться печали?» – думала она, мучительно завидуя тем, на кого не упала роса его любви.
Могли ли старые родители не радоваться счастью дочери, увидав, сколь пышную свиту прислал за ней Гэндзи? Наконец-то исполнялись их заветные чаяния, и когда б не омрачала радости мысль о близкой разлуке… Вступивший на Путь, в старческой расслабленности пребывая, и днем и ночью повторял: «Неужели никогда больше не увижу нашей малютки?» И кроме этого, от него нельзя было добиться ни слова. С жалостью глядела на него супруга. Они давно уже не жили под одним кровом, и, решись она остаться здесь, в Акаси, ей совершенно не на кого было бы положиться. И все же… Люди, соединенные случайно и не успевшие сказать один другому даже нескольких слов, и те, словно «сроднившись давно» (160), печалятся, когда приходит разлука. Чем же измерить горе супругов, проживших рядом долгие годы? Разумеется, своенравный старик никогда не был для нее надежной опорой, но, примирившись со своей участью, она вовсе не собиралась оставлять его теперь, когда к концу приближался ей отмеренный срок (161), и полагала, что это побережье будет ее последним прибежищем. И вот приходилось расставаться…



