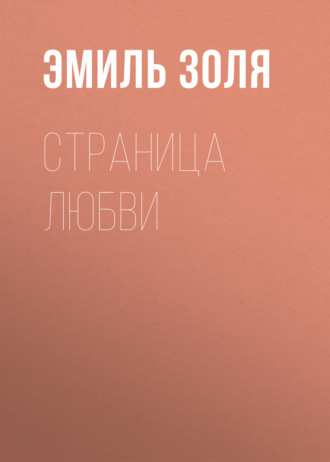 полная версия
полная версияСтраница любви
Сначала Элен заинтересовалась обширными пространствами, расстилавшимися под ее окнами, склонами, прилегавшими к Трокадеро, и далеко тянувшейся линией набережных. Ей пришлось наклониться, чтобы увидеть обнаженный квадрат Марсова поля, замыкающийся темной поперечной полосой Военной школы. Внизу, на широкой площади и на тротуарах по берегам Сены, она различала прохожих, кишащую толпу черных точек, уносимых движением, подобным суете муравейника; искоркой блеснул желтый кузов омнибуса; фиакры и телеги, величиной с детскую игрушку, с маленькими, будто заводными лошадками, переезжали через мост. На зелени откосов, среди гуляющих, выделялось пятно света – белый фартук какой-то служанки. Подняв глаза, Элен устремила взор вдаль; но там толпа, распылившись, ускользала от взгляда, экипажи превращались в песчинки; виднелся лишь гигантский остов города, казалось, пустого и безлюдного, живущего лишь глухим, пульсирующим в нем шумом. На переднем плане, налево, сверкали красные крыши, медленно дымились высокие трубы Военной пекарни. На другом берегу реки, между Эспланадой и Марсовым полем, группа крупных вязов казалась уголком парка; ясно виднелись их обнаженные ветви, их округленные вершины, в которых уже кое-где пробивалась зелень. Посредине ширилась и царствовала Сена в рамке своих серых набережных; выгруженные бочки, очертания паровых грузоподъемных кранов, выстроенные в ряд подводы придавали им сходство с морским портом. Взоры Элен вновь и вновь возвращались к этой сияющей водной глади, по которой, подобные черным птицам, плыли барки. Она не в силах была отвести глаза от ее величавого течения. То был как бы серебряный галун, перерезавший Париж надвое. В то утро вода струилась солнцем, нигде вокруг не было столь ослепительного света. Взгляд молодой женщины остановился сначала на мосту Инвалидов, потом на мосту Согласия, затем на Королевском; казалось, мосты сближались, громоздились друг на друга, образуя причудливые многоэтажные строения, прорезанные арками всевозможных форм, – воздушные сооружения, между которыми синели куски речного покрова, все более далекие и узкие. Элен подняла глаза еще выше: среди домов, беспорядочно расползавшихся во все стороны, течение реки раздваивалось; мосты по обе стороны Старого города превращались в нити, протянутые от одного берега к другому, и отливавшие золотом башни собора Парижской Богоматери высились на горизонте, словно пограничные знаки, за которыми река, строения, купы деревьев были лишь солнечной пылью. Ослепленная, Элен отвела глаза от этого блистающего сердца Парижа, где, казалось, пламенела вся слава города. На правом берегу Сены, среди высоких деревьев Елисейских Полей, сверкали белым блеском зеркальные окна Дворца промышленности; дальше, за приплюснутой крышей церкви Св. Магдалины, похожей на надгробный камень, высилась громада Оперного театра, еще дальше виднелись другие здания, купола и башни, Вандомская колонна, церковь Сен-Венсан-де-Поль, башня Св. Иакова, ближе – массивные прямоугольники павильонов Нового Лувра и Тюильри, наполовину скрытые каштановой рощей. На левом берегу сиял позолотой купол Дома инвалидов, за ним бледнели в озарении солнца две неравные башни церкви Св. Сульпиция; еще дальше, вправо от новых шпилей церкви Св. Клотильды, широко утвердясь на холме, четко вырисовывая на фоне неба свою стройную колоннаду, господствовал над городом неподвижно застывший в воздухе синеватый Пантеон, шелковистым отливом напоминавший воздушный шар.
Теперь Элен ленивым движением глаз охватывала весь Париж. В нем проступали долины, угадываемые по изгибам бесконечных линий крыш. Мельничный Холм вздымался вскипающей волной старых черепичных кровель, тогда как линия главных бульваров круто сбегала вниз, словно ручей, поглощавший теснившиеся друг к другу дома, – черепицы их крыш уже ускользали от взгляда. В этот утренний час стоявшее невысоко солнце еще не освещало сторону домов, обращенную к Трокадеро. Ни одно окно еще не засверкало. Лишь кое-где стекла окон, выходивших на крышу, бросали в красноту жженой глины окружающих черепиц яркие блики, блестящие искорки, подобные искрам слюды. Дома оставались серыми, лишь высветляемые отблесками; вспышки света пронизывали кварталы; длинные улицы, уходившие вдаль прямо перед Элен, прорезали тень солнечными полосами. Необъятный плоский горизонт, закруглявшийся без единого излома, лишь слева горбился холмами Монмартра и высотами кладбища Пер-Лашез. Детали, так отчетливо выделявшиеся на первом плане этой картины, бесчисленные зубчатые вырезы дымовых труб, мелкие штрихи многих тысяч окон, постепенно стирались, узорились желтым и синим, сливались в нагромождении бесконечного города, предместья которого, уже незримые, казалось, простирали в морскую даль усыпанные валунами, утопавшие в лиловатой дымке берега под трепетным светом, разлитым в небе.
Элен сосредоточенно смотрела на Париж. Тут в комнату весело вошла Жанна.
– Мама, мама, погляди-ка!
Девочка держала в руках большой пучок желтых левкоев. Смеясь, она рассказала матери, как, улучив минуту, когда вернувшаяся с рынка Розали убирала провизию, она осмотрела содержимое ее корзинки. Она любила копаться в этой корзинке.
– Посмотри же, мама! А на дне-то вот что было!.. Понюхай, как хорошо пахнет!
Ярко-желтые, испещренные пурпуровыми пятнами цветы источали пряный аромат, распространившийся по всей комнате. Элен страстным движением прижала Жанну к своей груди; пучок левкоев упал ей на колени. Любить, любить! Правда, она любила своего ребенка. Или мало ей было этой великой любви, наполнявшей до сих пор всю ее жизнь? Ей следовало удовлетвориться этой любовью, нежной и спокойной, вечной, не боящейся пресыщения. И она крепче прижимала к себе дочь, как бы отстраняя мысли, угрожавшие их разлучить. Жанна отдавалась этим неожиданным для нее поцелуям. С влажными глазами она умильным движением тонкой шейки ласково терлась о плечо матери. Потом она обвила руку вокруг ее талии и замерла в этой позе, тихонько прижавшись щекой к ее груди. Между ними струилось благоухание левкоев.
Они долго молчали. Наконец Жанна, не шевелясь, спросила шепотом:
– Видишь, мама, там, у реки, этот купол, весь розовый… Что это такое?
Это был купол Академии. Элен подняла глаза, на мгновение задумалась. И тихо сказала:
– Не знаю, дитя мое.
Девочка удовлетворилась этим ответом. Вновь наступило молчание.
– А здесь, совсем близко, эти красивые деревья? – спросила она, указывая пальцем на проезд Тюильрийского сада.
– Эти красивые деревья? – прошептала мать. – Налево, не так ли?.. Не знаю, дитя мое.
– А! – сказала Жанна.
Потом, задумавшись на мгновение, она добавила серьезным тоном:
– Мы ничего не знаем.
И действительно, они ничего не знали о Париже. За те полтора года, в течение которых он ежечасно был перед их глазами, они не узнали в нем ни одного камня. Только три раза спускались они в город, но вынесли из городской сутолоки лишь головную боль и, вернувшись домой, ничего не могли распознать в исполинском запутанном нагромождении кварталов.
Все же иногда Жанна упорствовала.
– Ну, уж это ты мне скажешь, – продолжала она, – вон те белые окна… Они такие большие, – ты должна знать, что это такое.
Она указывала на Дворец промышленности.
Элен колебалась:
– Это вокзал… Нет, кажется – театр…
Она улыбнулась, поцеловала волосы Жанны и повторила свой обычный ответ:
– Не знаю, дитя мое.
Они продолжали вглядываться в Париж, уже не пытаясь ознакомиться с ним. Это было так сладостно – иметь его перед глазами и ничего не знать о нем. Для них он воплощал в себе бесконечность и неизвестность. Как будто они остановились на пороге некоего мира, довольствуясь вечным его созерцанием, но отказываясь проникнуть в него. Часто Париж тревожил их, когда от него поднималось горячее и волнующее дыхание. Но в то утро в нем была веселость и невинность ребенка, – его тайна не страшила, а овевала нежностью.
Элен опять взялась за книгу, Жанна, прижавшись к ней, все еще созерцала Париж. В сверкающем неподвижном небе не веяло ни ветерка. Дым, струившийся из труб Военной пекарни, поднимался прямо вверх легкими клубами, терявшимися в высоте. Казалось, по городу на уровне домов пробегали волны – трепет жизни, всей той жизни, что была в нем заключена. Громкий голос улиц в сиянии солнца звучал смягченно, – в нем слышалось счастье. Вдруг какой-то шум привлек внимание Жанны. То была стая белых голубей из какой-то ближней голубятни; они пролетали мимо окна, заполняли горизонт; летучий снег их крыльев застилал собою беспредельность Парижа.
Вновь устремив глаза вдаль, Элен вся ушла в мечты. Она была леди Ровеной, она любила нежно и глубоко, как любят благородные души. Это весеннее утро, этот огромный город, такой чарующий, эти первые левкои, благоухавшие у нее на коленях, мало-помалу размягчили ее сердце.
Часть вторая
IОднажды утром Элен приводила в порядок свою библиотечку, в которой рылась уже несколько дней, как вдруг в комнату вбежала Жанна, вприпрыжку и хлопая в ладоши.
– Мама, – крикнула она. – Солдат! Солдат!
– Что? Солдат? – спросила молодая женщина. – Что еще за солдат?
Но на девочку нашел припадок безумного веселья; она прыгала все быстрее, повторяя: «Солдат! Солдат!» – и не входя ни в какие объяснения. Дверь оставалась открытой. Элен встала и с удивлением увидела в передней солдата, маленького солдатика. Розали не было дома. По-видимому, Жанна, несмотря на то, что это ей было строго запрещено, играла на площадке лестницы.
– Что вам нужно, мой друг? – спросила Элен.
Солдатик, чрезвычайно смущенный появлением этой дамы, такой красивой и белой, в отделанном кружевами пеньюаре, кланялся, шаркая ногой по паркету, и торопливо бормотал:
– Простите… Извините…
Он не находил других слов и, все так же шаркая ногами, отступал к стене. Так как отступать дальше было некуда, он, видя, что дама с невольной улыбкой ждет его ответа, торопливо порылся в правом кармане и вытащил оттуда синий платок, складной ножик и кусок хлеба. Окинув взглядом каждый извлекаемый им предмет, солдатик совал его обратно. Потом он перешел к левому карману; там нашелся обрывок веревки, два ржавых гвоздя и пачка картинок, завернутых в кусок газеты. Он сунул все это назад в карман и испуганно похлопал себя по ляжкам.
– Простите… Извините… – бормотал он растерянно.
Но вдруг, приложив палец к носу, добродушно расхохотался. Простофиля! Вспомнил наконец! Расстегнув две пуговицы шинели, он принялся шарить у себя за пазухой, засунув туда руку по локоть. Наконец он извлек оттуда письмо и, энергично взмахнув им, как будто желая отряхнуть с него пыль, передал его Элен.
– Письмо ко мне, вы не ошибаетесь? – спросила та.
Но на конверте ясно значились ее имя и адрес, написанные нескладным крестьянским почерком, с буквами, падающими друг на друга, как стены карточных домиков. Диковинные обороты и правописание останавливали Элен на каждой строчке письма. Когда наконец она все же уяснила себе его смысл, то невольно улыбнулась. Письмо было от тетки Розали; она посылала к Элен Зефирена Лакура – ему на призыве выпал жребий идти в солдаты, «несмотря на две обедни, отслуженные господином кюре». Ввиду того, что Зефирен был суженым Розали, тетка просила барыню «разрешить детям видеться по воскресеньям». Эта просьба повторялась на трех страницах в одинаковых, все более путаных выражениях, с постоянными потугами выразить что-то, еще не сказанное. Наконец, перед тем как подписаться, тетка, казалось, вдруг нашла то, что искала: изо всех сил нажимая на перо, среди разбрызганных клякс она написала: «Господин кюре разрешил это».
Элен медленно сложила письмо. Разбирая его, она несколько раз приподнимала голову, чтобы взглянуть на солдата. Он стоял, все так же прижавшись к стене. Губы его шевелились; казалось, он легким движением подбородка подкреплял каждую фразу; по-видимому, он знал письмо наизусть.
– Так, значит, вы и есть Зефирен Лакур? – сказала Элен.
Он, засмеявшись, кивнул головой.
– Войдите, мой друг! Не стойте там.
Он решился последовать за ней, но, когда Элен села, остался стоять у двери. Она плохо разглядела его в полумраке передней. Он казался как раз того же роста, что и Розали; одним сантиметром меньше – и его признали бы негодным к военной службе. У него были рыжие, коротко остриженные волосы, совершенно круглое веснушчатое лицо, без малейшего признака растительности, маленькие, будто буравчиком просверленные глазки. В новой, слишком большой для него шинели он казался еще круглее; он стоял, расставив ноги в красных штанах, и покачивал перед собой кепи с широким козырьком, – такой смешной и трогательный, маленький и круглый, придурковатый человечек, от которого еще пахло землей, несмотря на его солдатский мундир.
Элен захотелось расспросить его, получить от него некоторые сведения.
– Вы выехали неделю тому назад?
– Да, сударыня!
– И вот теперь вы в Париже. Вас это не огорчает?
– Нет, сударыня.
Он набрался храбрости, разглядывая комнату, – видимо, на него производили большое впечатление синие штофные обои.
– Розали нет дома, – сказала наконец Элен, – но она скоро вернется… Ее тетка пишет мне, что вы жених Розали.
Солдат ничего не ответил; смущенно ухмыляясь, он опустил голову и опять принялся потирать ковер носком сапога.
– Так, значит, вы женитесь на ней, когда отбудете срок службы? – продолжала молодая женщина.
– Ну, разумеется, – ответил он, краснея до корней волос, – ну, разумеется: я ведь дал слово…
И, ободренный видимой благожелательностью своей собеседницы, он, вертя кепи между пальцами, решился заговорить.
– О! Давненько уж это было… Еще малышами мы вместе с ней по чужим садам лазили. Ну, уж и здорово попадало нам, – что правда, то правда… Нужно вам сказать, что Лакуры и Пишоны жили на той же улице, бок о бок, так что Розали и я, мы вроде как бы из одной миски ели… Потом все ее домашние перемерли. Тетка ее, Маргарита, приютила ее. У нее, у плутовки, уже тогда были такие здоровенные ручищи…
Он остановился, чувствуя, что увлекся, и спросил нерешительным голосом:
– Она, может быть, уже рассказала вам обо всем этом?
– Да, но расскажите и вы, – ответила Элен; ей было забавно слушать его.
– Ну так вот, – продолжал он. – Розали была здоровая и сильная, хоть ростом и не больше жаворонка; так ворочала работу, что только держись. Раз задала она кой-кому – ну и хватила же! У меня целую неделю синяк во всю руку был… А вышло оно вот как. В деревне все нас прочили друг за друга. Нам еще и десяти лет не было, как мы друг другу слово дали… И оно крепкое, это слово, сударыня, крепкое…
Растопырив пальцы, он прижал руку к сердцу. Элен все же призадумалась. Мысль, что солдат будет бывать на кухне, беспокоила ее. Несмотря на разрешение господина кюре, она находила это несколько рискованным. В деревне нравы вольные, и влюбленные многое позволяют себе. Она намекнула солдату на свои опасения. Когда Зефирен понял ее, он стал давиться от смеха, однако из почтения сдержался.
– Ах, сударыня! Ах, сударыня!.. Видно, вы ее не знаете. Сколько затрещин мне от нее влетело… Господи боже! Как парню не побаловаться, так ведь? Ну, я щипал ее, случалось. А она каждый раз как повернется – и бах! Прямо в морду… Тетка, вишь, твердила ей: «Помни, девушка, не давай себя щекотать: к добру это не приведет». И кюре тоже вмешивался. Пожалуй, оттого и дружба наша такая крепкая… Мы должны были пожениться после жеребьевки. Да вот поди ж ты, не повезло нам. Розали решила, что она поступит в прислуги, чтобы накопить себе приданое, дожидаясь меня… Ну и вот, ну и вот…
Он покачивался, перекидывая кепи из одной руки в другую. Но так как Элен молчала, ему показалось, что она сомневается в его верности. Это очень задело его. Он воскликнул с жаром:
– Вы, может быть, думаете, что я обману ее?.. Да я же говорю вам, что дал слово. Я женюсь на ней – это так же верно, как то, что солнце нам светит!.. Хоть сейчас могу подписку дать… Да, коли хотите, я подпишу бумагу…
Он взволнованно зашагал по комнате, ища глазами перо и чернила. Элен пыталась успокоить его.
– Я лучше подпишу бумагу, – повторял он. – Вам это не помешает. Тогда бы вы уж были покойны!
Но как раз в это мгновение Жанна, опять было исчезнувшая, вернулась в комнату, приплясывая и хлопая в ладоши.
– Розали! Розали! Розали! – пела она на веселый мотив, сочиненный ею.
Действительно, сквозь открытые двери слышалось тяжелое дыхание служанки; она, запыхавшись, поднималась с корзинкой по лестнице. Зефирен отступил в угол комнаты; неслышный смех растянул ему рот от уха до уха; маленькие глазки блестели деревенским лукавством. Розали, по усвоенной ею фамильярной привычке, вошла прямо в комнату, чтобы показать хозяйке купленную на рынке провизию.
– Сударыня, – сказала она, – я купила цветной капусты… Посмотрите-ка… Два кочна за восемнадцать су, это недорого…
Она протянула Элен приоткрытую корзинку – и вдруг, подняв голову, увидела усмехающегося Зефирена. Ошеломленная, она словно приросла к ковру. Прошло две-три секунды; она, по-видимому, не сразу узнала его в военной форме. Ее круглые глаза расширились, маленькое жирное лицо побледнело, жесткие черные волосы зашевелились.
– Ох! – сказала она. От удивления она выпустила корзину из рук. Овощи – цветная капуста, лук, картофель – покатились на ковер. Жанна испустила восторженный крик и бросилась на пол посреди комнаты – подбирать картофелины, залезая даже под кресла и зеркальный шкаф. А Розали, все еще в оцепенении, не двигалась с места, повторяя:
– Как! Это ты… Что ты здесь делаешь, а? Что ты здесь делаешь?
Она повернулась к Элен.
– Так это вы впустили его? – спросила она.
Зефирен молчал, лукаво прищурясь. Тогда на глазах у Розали выступили слезы умиления, и, желая выразить свою радость, она не нашла ничего лучшего, как поднять Зефирена на смех.
– Ну, уж нечего сказать, – затараторила она, подойдя к солдату, – хорош ты, пригож ты в этом наряде. Попадись ты мне на улице, я даже не узнала бы тебя… Ну и образина! Похоже, будто ты надел на себя сторожевую будку. И славно же они выбрили тебе голову; ты похож на пуделя нашего пономаря… Господи! Ну и урод, ну и урод же ты!
Раздосадованный Зефирен наконец заговорил:
– Уж не моя в том вина, конечно… Взяли бы тебя в полк, посмотрел бы я на тебя!
Они совершенно забыли, где находятся, – забыли и Элен и Жанну, продолжавшую подбирать картофель. Розали стала против Зефирена, скрестив руки на переднике.
– Как там у нас – все ладно? – спросила она.
– Да. Только корова у Гиньяров заболела. Был ветеринар и сказал им, что у нее нутро полно воды.
– Уж если полно воды, так кончено… А прочее все ладно?
– Да, да… Полевой сторож сломал себе руку… Умер дядюшка Каниве. Господин кюре по дороге из Гранвеля потерял кошелек, в нем было тридцать су… А так все ладно.
Оба замолчали. Они смотрели друг на друга блестящими глазами, сморщив губы и медленно шевеля ими в умильной гримасе. Вероятно, это им заменяло поцелуи; они даже не пожали друг другу руку. Но Розали внезапно оторвалась от этого созерцания и стала причитать над рассыпанными по полу овощами. Ну и кавардак! Вот что она из-за него наделала! Барыне следовало бы заставить его обождать на лестнице. Не переставая ворчать, она наклонилась и начала собирать картофель, лук и цветную капусту в корзину, к великой досаде Жанны, которой не хотелось, чтобы ей помогали. Розали уже собралась было уйти в кухню, не глядя больше на Зефирена. Элен, тронутая простодушным спокойствием обоих влюбленных, остановила ее и сказала:
– Послушайте, милая! Ваша тетка просит меня разрешить этому молодому человеку приходить к вам по воскресеньям… Он придет сегодня после полудня. Постарайтесь, чтобы ваша работа не слишком пострадала от этого.
Розали, остановившись, только повернула голову. Она была очень довольна, но лицо ее сохраняло досадливое выражение.
– Ах, сударыня, он будет мне очень мешать! – крикнула она. И, бросив через плечо взгляд на Зефирена, опять состроила ему умильную гримасу. Минуту-другую маленький солдат оставался неподвижным, неслышно смеясь во весь рот. Потом он, пятясь, удалился, рассыпаясь в благодарностях и приложив руку к сердцу. Дверь уже закрылась за ним, а он все еще кланялся на площадке лестницы.
– Это брат Розали, мама? – спросила Жанна.
Элен была смущена этим вопросом. Она пожалела о разрешении, только что данном ею во внезапном порыве доброты, которому сама удивлялась. Подумав несколько секунд, она ответила:
– Нет, это ее кузен.
– А! – сказала девочка серьезно.
Кухня Розали выходила в сад доктора Деберля, прямо на солнце. Летом в широкое окно проникали ветки вязов. Это была самая веселая комната квартиры, вся залитая солнцем, так ярко освещенная, что Розали даже пришлось повесить на окно синюю коленкоровую штору, которую она задергивала после полудня. Она жаловалась только на одно: на тесноту этой кухоньки, узкой и длинной; плита помещалась справа, стол и шкаф для посуды – слева. Но Розали так удачно разместила утварь и мебель, что выгадала себе у окна уголок, где работала по вечерам. Ее гордостью было содержать кастрюли, чайники, блюда в безукоризненной чистоте. Поэтому, когда кухня освещалась солнцем, стены излучали сияние: медные кастрюли искрились золотом, выпуклости жестяной посуды сверкали, точно серебряные луны; бледные тона белых и голубых изразцов плиты еще ярче оттеняли весь этот блеск.
В следующую субботу, вечером, Элен услышала на кухне такую возню, что пошла посмотреть, что там происходит.
– Что тут такое? – спросила она. – Вы, видно, воюете с мебелью?
– Я делаю уборку, – отвечала Розали. Растрепанная, обливаясь потом, она сидела на корточках и терла пол изо всей силы своих маленьких рук.
Покончив с мытьем пола, она принялась вытирать его. Никогда еще не наводила она в своей кухне такой красоты. Новобрачная могла бы избрать эту кухню своей спальней – все там было вычищено до блеска, словно к свадьбе. Стол и шкаф казались выструганными заново, – так она потрудилась над ними. Всюду царил безукоризненный порядок: кастрюли и горшки были расставлены по размерам, каждый предмет висел на своем гвозде, сковороды и решетка очага блестели, без единого пятна копоти. С минуту Элен стояла молча; потом, улыбнувшись, ушла.
С тех пор каждую субботу производилась такая же уборка; целых четыре часа Розали проводила в пыли и воде: ей хотелось показать в воскресенье Зефирену, какую она наводит чистоту. Воскресенье было для нее приемным днем. Заметь она где-нибудь паутинку, она сгорела бы со стыда. Когда все вокруг нее блестело, она приходила в хорошее настроение и принималась напевать. В три часа она снова мыла руки и надевала чепец с лентами. Потом, наполовину задернув бумажную штору, чтобы смягчить, как в будуаре, резкий солнечный свет, она ждала Зефирена среди этого безукоризненного порядка; в кухне приятно пахло тмином и лавровым листом.
Ровно в половине четвертого являлся Зефирен; он гулял по улице, дожидаясь, пока пробьют часы. Розали прислушивалась к стуку его тяжелых сапог по ступеням лестницы и отворяла ему, когда он останавливался на площадке. Она запретила ему касаться звонка. Каждый раз они обменивались одними и теми же словами:
– Это ты?
– Да, я.
И они долго пристально смотрели в лицо друг другу; глаза у них искрились лукавством, губы были плотно сжаты. Затем Зефирен следовал за Розали на кухню; прежде чем впустить туда солдата, она снимала с него кивер и саблю. Она не хотела держать такие вещи на кухне и запихивала их в глубь стенного шкафа. После этого она сажала своего вздыхателя у окна, в свободный уголок, и уже не позволяла ему двигаться с места.
– Сиди смирно… Смотри, если хочешь, как я буду готовить обед господам.
Зефирен почти никогда не приходил с пустыми руками. Обычно он употреблял праздничное утро на прогулку с товарищами в Медонских рощах, где проводил время в бесконечных и бесцельных шатаниях, впивая воздух просторов со смутным сожалением о родной деревне. Чтобы дать работу рукам, он срезал палочки, обстругивал их на ходу, украшал их затейливой резьбой; все более замедляя шаг, он останавливался у придорожных канав, сдвинув кивер на затылок, не отрываясь взглядом от ножа, врезающегося в дерево. У него не хватало духу бросать эти палочки, он приносил их Розали; та брала их, слегка браня Зефирена, – это, дескать, загрязняет ее кухню. На самом же деле она их собирала; у нее под кроватью лежал целый пук таких палочек самой разнообразной длины и рисунка.
Однажды Зефирен явился с гнездом, полным птичьих яиц; он принес его в своем кивере, прикрыв платком. Яичница из сорочьих яиц была, по его словам, очень вкусным блюдом. Розали выкинула эту гадость, но оставила гнездо – она запрятала его туда же, где хранились палочки. Кроме того, у Зефирена всегда были доверху набиты карманы. Он извлекал из них разные диковинки: прозрачные камешки, подобранные на берегу Сены, мелкую железную рухлядь, полузасохшие дикие ягоды, всякие изуродованные обломки, которыми пренебрегли старьевщики. Главной его страстью были картинки. Он подбирал, идя по улице, бумажки, когда-то служившие оберткой плиткам шоколада и кускам мыла: на них красовались негры и пальмы, египетские танцовщицы и букеты роз. Крышки старых прорванных коробок с изображением мечтательных блондинок, глянцевитые картинки и фольга из-под леденцов, брошенные посетителями окрестных ярмарок, были для него редкими находками, преисполнявшими его счастьем. Вся эта добыча исчезала в его карманах; наиболее ценные приобретения он заворачивал в обрывок газеты, и в воскресенье, когда у Розали выпадала свободная минута между супом и жарким, он показывал ей свои картинки. Не хочет ли она их взять? Это ей в подарок! Бумага вокруг картинок не всегда была чиста, и поэтому он вырезал их, – это было для него большим развлечением. Розали сердилась: обрезки бумаги залетали в ее блюда; и нужно было видеть, с каким чисто крестьянским лукавством, принесенным из далекой деревни, он в конце концов завладевал ее ножницами. Иногда, чтобы избавиться от него, она сама давала их ему.












