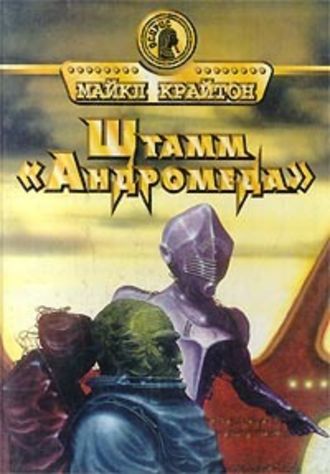 полная версия
полная версияШтамм «Андромеда»
– Хорошо, «Капер-1». Не выключайте рацию.
– Вас понял…
Все это в точности соответствовало правилам обнаружения спутников, изложенным в наставлении по программе «Скуп». Наставление – гроссбух в мягкой серой обложке – лежало на углу стола, у Камроу под рукой. Ему было известно, что все переговоры фургона с базой записываются на пленку и впоследствии станут частью постоянного архива «Скуп»; правда, он никак не мог понять, зачем все это нужно. Казалось, дело проще простого: фургон выезжал, обнаруживая спутник, забирал его и возвращался…
Камроу пожал плечами и снова взялся за статью о газовых напряжениях, слушая Шоуна в полслуха:
– Мы в поселке. Проехали бензоколонку и мотель. Вокруг все тихо. Никаких признаков жизни. Сигналы спутника становятся сильнее. Впереди церковь. Она не освещена, и никого по-прежнему не видно…
Камроу положил журнал на стол. В голосе Шоуна, несомненно, слышалось какое-то волнение. В другой раз Камроу, может, и рассмеялся бы при мысли, что два здоровых парня дрожат со страху, въезжая в сонный поселочек среди пустыни. Но Шоуна он знал лично; чем-чем, а избытком воображения Роджер не страдал. Шоун мог уснуть в кино на фильме ужасов. Такой уж он был человек.
И Камроу начал вслушиваться. Сквозь потрескивание помех до него доносился шум мотора. И негромкий диалог в фургоне:
Шоун. Уж слишком тут все спокойно…
Крейн. Так точно, сэр.
Пауза.
Крейн. Сэр!..
Шоун. Да?
Крейн. Вы видели?
Шоун. Что?
Крейн. Вон там, на тротуаре. Вроде человек лежит…
Шоун. Вам, наверно, померещилось…
Снова пауза – и тут Камроу услышал, как фургон, взвизгнув тормозами, остановился.
Шоун. Господи боже!..
Крейн. Еще один, сэр.
Шоун. Как будто мертвый…
Крейн. Может, мне…
Шоун. Отставить! Из фургона не выходить!
Голос его стал громче и официальнее – он послал в эфир вызов.
– «Капер-1» вызывает Основную. Прием…
Камроу поднял микрофон.
– Основная слушает. Что там у вас?
– Сэр, мы видим тела. Много тел. По-видимому, мертвецы…
– Вы уверены в этом, «Капер-1»?
– Черт возьми, – сказал Шоун. – Конечно, уверены…
– Продолжайте поиск спутника, «Капер-1», – ответил Камроу как можно мягче.
Отдав приказание, он окинул комнату взглядом. Двенадцать человек из дежурного расчета смотрели на него невидящими глазами – они слушали передачу.
Мотор фургона взревел.
Камроу сбросил ноги со стола и нажал на пульте красную кнопку «Режим». Теперь Центр управления был надежно изолирован от всех других помещений. Без разрешения Камроу никто не смог бы ни войти, ни выйти.
Затем он снял телефонную трубку.
– Дайте майора Мэнчика. М-Э-Н-Ч-И-К-А. Да, разговор служебный. Жду…
Мэнчик был старшим дежурным офицером на текущий месяц – именно на нем лежала вся полнота ответственности за выполнение программы «Скуп».
В ожидании вызова Камроу прижал трубку плечом и зажег сигарету. Из динамика доносился голос Шоуна:
– Вам тоже кажется, что они мертвые, Крейн?
Крейн. Так точно, сэр. Померли, видать, легко, но уж померли – это как пить дать…
Шоун. Вроде бы и на мертвецов не похожи. Чего-то не хватает. Что-то здесь не то… Смотрите, вон еще – везде лежат. Сколько их!..
Крейн. Будто шли, шли и упали. Оступились – и замертво…
Шоун. И на дороге и на тротуарах… Снова пауза – и голос Крейна:
– Сэр!..
Шоун. Господи боже!..
Крейн. Видите? Мужчина в белой рубахе – вон там пересекает дорогу…
Шоун. Вижу.
Крейн. Перешагивает прямо через трупы, вроде как…
Шоун. Идет сюда.
Крейн. Послушайте, сэр, извините, конечно, но, по-моему, лучше бы нам убра…
Крейна прервал на полуслове пронзительный крик, и следом донесся треск. На этом передача оборвалась, и восстановить связь с фургоном «Капер-1» Центр управления на базе Ванденберг так и не смог.
Глава 3
Кризис
Рассказывают, что, когда Гладстону доложили о смерти «китайца» Гордона[2] в Египте, премьер пробормотал раздраженно, что британский генерал мог бы выбрать для своей смерти и более удобное время: смерть Гордона породила в правительстве Гладстона разброд и вызвала кризис. Какой-то подчиненный заметил, что здесь имеет место уникальное стечение обстоятельств и предвидеть это никак нельзя, на что Гладстон сердито ответил:
– А, все кризисы одинаковы…
Он, конечно, имел в виду кризисы политические. Научных кризисов в 1885 году не было и в помине; впрочем, их не было и на протяжении последующих почти сорока лет. Зато потом разразились восемь кризисов первостепенной важности, и два из них получили широкую огласку. Интересно, что оба эти кризиса, связанные с открытием атомной энергии и выходом в космос, затрагивали химию и физику, но не биологию.
В сущности, того и следовало ожидать. Физика первой из естественных наук стала полностью современной и насквозь математизированной. Затем математизировалась и химия, биология же оставалась дефективным ребенком, сильно отставшим от своих сверстников. Ведь еще во времена Ньютона и Галилея люди знали о Луне и других небесных телах больше, чем о собственном теле.
Так было вплоть до конца 40-х годов нашего века. Лишь после войны под влиянием открытия антибиотиков в биологических исследованиях началась новая эра. Внезапно биологи обрели как моральную, так и материальную поддержку, и поток открытий не заставил себя ждать: транквилизаторы, стероидные гормоны, иммунохимия, генетический код. К 1953 году была произведена первая пересадка почки, а к 1958-му – испытаны первые противозачаточные таблетки. Вскоре биология оказалась самой быстрорастущей отраслью науки: биологические познания за десять лет буквально удвоились. Дальновидные исследователи уже всерьез поговаривали об изменении генов, управлении эволюцией и контроле над психикой; десятилетием раньше подобные идеи считались чисто умозрительными, чтобы не сказать сумасбродными.
Но биологического кризиса еще ни разу не случалось. Штамм «Андромеда» дал толчок первому.
Согласно Льюису Борнхайму, кризис есть ситуация, при которой совокупность обстоятельств, ранее вполне приемлемая, вдруг, с появлением какого-то нового фактора, становится совершенно неприемлемой, причем почти безразлично, является ли новый фактор политическим, экономическим или научным: смерть национального героя, колебания цен, новое техническое открытие – любое обстоятельство может явиться толчком для дальнейших событий. В этом смысле Гладстон был прав – все кризисы одинаковы.
Известный ученый Альфред Покран посвятил кризисам специальную работу («Культура, кризисы и перемены») и пришел к интересным выводам. Во-первых, он отмечает, что любой кризис зарождается задолго до того, как фактически разразится. Например, Эйнштейн опубликовал основные положения теории относительности в 1905—1915 годах, то есть за сорок лет до того, как его труды привели в конечном счете к началу новой эпохи и возникновению кризиса.
Покран также отмечает, что в каждом кризисе замешано множество отдельных личностей и характеров и все они неповторимы:
«Трудно представить себе Александра Македонского перед Рубиконом или Эйзенхауэра на поле Ватерлоо; столь же трудно представить себе Дарвина, пишущего письмо Рузвельту о потенциальных опасностях, связанных с атомной бомбой. Кризис творится людьми, которые вступают в него со всеми своими предрассудками, пристрастиями и предубеждениями. Кризис есть сумма промахов, недоумений и интуитивных озарений, совокупность замеченных и незамеченных факторов.
В то же время за неповторимостью любого кризиса скрывается поразительное их сходство друг с другом. Характерная особенность всех без исключения кризисов – их предвидимость в ретроспективе. Кажется, будто им присуща некая неизбежность, будто они предопределены свыше. И хоть это замечание и не относится ко всем кризисам, оно справедливо по отношению к столь значительному их числу, что закаленнейший из историков может стать циником и мизантропом…»
В свете рассуждений Покрана немалый интерес вызывают биографии и характеры тех, кто был вовлечен в историю со штаммом «Андромеда». До «Андромеды» кризисов в биологической науке не было, и первые американцы, столкнувшиеся лицом к лицу с фактами, не были подготовлены к тому, чтобы мыслить приличествующими случаю категориями. Шоун и Крейн были люди способные, но не глубокие, а Эдгар Камроу, дежурный офицер на базе Ванденберг, хотя и был ученым, но тоже оказался неподготовленным и ощутил только раздражение от того, что какая-то непонятная история испортила спокойный вечер.
В соответствии с инструкцией Камроу вызвал своего непосредственного начальника майора Артура Мэнчика, и тут-то вся история приняла другой оборот. Ибо Мэнчик был вполне подготовлен и даже предрасположен к тому, чтобы иметь дело с кризисом самого большого масштаба.
Однако это еще не значит, что он сразу же распознал кризис как таковой.
С лица майора Мэнчика еще не стерлись следы сна; сидя на краешке стола Камроу, он слушал передачу из фургона в магнитофонной записи. Когда запись кончилась, он сказал:
– Чертовщина какая-то.
И прокрутил все сначала. Пока слушал, успел набить трубку, примять табак и прикурить.
Инженер Артур Мэнчик был немногословным человеком плотной комплекции; транзиторная гипертония грозила вот-вот прекратить его дальнейшее продвижение по армейской служебной лестнице. Много раз ему советовали согнать вес, да только он никак не мог собраться. Он даже подумывал, не бросить ли военную службу и не поступить ли куда-нибудь на частное предприятие, где никто не станет допытываться, какой у сотрудников вес и кровяное давление.
В Ванденберг Мэнчик прибыл из научно-исследовательского института ВВС «Райт Паттерсон» в Огайо. Там он возглавлял эксперименты по отработке методов приземления космических аппаратов – он ставил себе задачей найти оптимальную форму спускаемого аппарата, одинаково безопасную при спуске на сушу и на воду. Мэнчику удалось разработать три многообещающих варианта; его успех был отмечен повышением в должности и переводом в Ванденберг.
И здесь он оказался в ненавистной ему роли администратора. Люди ему наскучили, хитрости управления подчиненными и причуды их характеров не занимали его нисколько. Нередко ему хотелось вернуться к своим аэродинамическим трубам, в институт. Особенно в те ночи, когда его стаскивали с постели, чтобы срочно решить какой-нибудь идиотский вопрос.
Сегодня он был раздражен и взвинчен. И, как всегда, реагировал на подобное состояние по-своему; стал нарочито медлительным, ходил медленно, думал медленно, работал со скучной, обстоятельной неторопливостью. В том и был секрет его успеха. Когда все вокруг шалели от возбуждения, Мэнчик, казалось, терял последний интерес к происходящему, чуть ли не начинал дремать. Таким хитроумным способом он умудрялся сохранять ясность мысли и объективность суждений.
И теперь, слушая запись во второй раз, он только вздыхал да посасывал трубку.
– Насколько я понимаю, нарушение связи исключено?
Камроу кивнул.
– Мы у себя проверили все системы. Несущую частоту их рации мы принимаем и сейчас…
Он включил приемник, и комнату наполнило шипение помех.
– Знакомы вы с методом звукопросеивания? – спросил Камроу.
– Смутно, – ответил Мэнчик, подавляя зевоту. В действительности он сам разработал метод звукопросеивания года три назад. Этот метод позволяет при помощи счетно-решающего устройства отыскать иголку в стоге сена – машине задается соответствующая программа, и она вылавливает из слитных, беспорядочных шумов определенные отклонения от среднего уровня. Можно, например, записать гомон общего разговора на приеме в посольстве, а потом, пропустив запись через ЭВМ, выделить один-единственный голос.
Метод звукопросеивания применяется для различных разведывательных целей.
– Ну, так вот, – сказал Камроу, – после того как передача оборвалась, мы принимаем только несущую частоту с шумами помех, какие вы сейчас слышите. Попытаемся теперь выделить из них что-нибудь вразумительное, пропустив частоту через просеиватель и подключив осциллограф…
В углу комнаты светился экран осциллографа, и на нем плясала белая ломаная линия – суммарный уровень шумов.
– Теперь, – сказал Камроу, – включаю ЭВМ. Вот…
Он нажал кнопку на панели, и характер линии на экране тотчас же изменился. Кривая стала спокойнее и равномернее, приобрела ритмичный, пульсирующий характер.
– Так, – произнес Мэнчик. Он сразу расшифровал для себя эту кривую, понял ее значение. Мозг его был уже занят другим, перебирал возможности, взвешивал варианты…
– Даю звук, – предупредил Камроу.
Он нажал другую кнопку, и в комнате зазвучал «просеянный» сигнал – равномерный скрежет с повторявшимися время от времени резкими щелчками.
Мэнчик кивнул:
– Двигатель. Работает на холостых. С детонацией…
– Так точно, сэр. Видимо, рация в фургоне не выключена, и мотор продолжает работать. Именно это мы и слышим, когда сняты помехи…
– Хорошо, – сказал Мэнчик.
Трубка его погасла. Он пососал ее, зажег снова, вынул изо рта, снял с языка табачную крошку.
– Нужно еще доказать… – произнес он тихо, ни к кому не обращаясь.
Но как доказать? И что откроется? И какие будут последствия?..
– Что доказать, сэр?..
Мэнчик словно не слышал вопроса.
– У нас на базе есть «Скевенджер»?
– Не знаю, сэр. Но если нет, можно затребовать с базы Эдвардс…
– Затребуйте.
Мэнчик встал. Решение было принято, и он опять почувствовал усталость. Ночь предстояла трудная: непрестанные звонки, раздраженные телефонистки, скверная слышимость и недоуменные вопросы на другом конце провода…
– Потребуется облет поселка, – сказал он. – Все заснять на пленку. Все кассеты доставить прямо сюда. Объявить тревогу по лабораториям…
Кроме того, он приказал Камроу вызвать технических специалистов, в частности Джеггерса. Джеггерс был неженка и кривляка, и Мэнчик его недолюбливал, но знал – Джеггерс хороший специалист. А сегодня понадобятся только хорошие специалисты.
* * *В 23 часа 07 минут Сэмюэл Уилсон, по прозвищу Стрелок, летел над пустыней Мохаве со скоростью 1000 километров в час. Впереди и выше шли ведущие реактивные самолеты-близнецы; выхлопные сопла двигателей зловеще полыхали в черном небе. Ведущие выглядели неуклюже, словно беременные: под крыльями и фюзеляжем у них висели осветительные бомбы.
Самолет Уилсона был другой – гладкий, длинный, черный. «Скевенджер» – их во всем мире было семь – разведывательный вариант модели «Х-18», реактивный самолет среднего радиуса действия, полностью оборудованный как для дневной, так и для ночной разведки. Под крыльями у него были подвешены две 16-миллиметровые камеры: одна – для съемки в видимой части спектра, вторая – для спектрозонального фотографирования. Кроме того, он был оснащен инфракрасной камерой «Хоманс» и обычной электронной и радиолокационной аппаратурой. Все пленки и пластинки, разумеется, обрабатывались автоматически еще в полете и были готовы для просмотра немедленно по возвращении на базу.
Техническое оснащение «Скевенджеров» позволяло им добиваться почти невозможного. Они могли заснять очертания города при полной светомаскировке и наблюдать за движением отдельных автомашин с высоты 2500 метров. Могли обнаружить подводную лодку на глубине пятьдесят-шестьдесят метров. Могли засечь положение мин в гавани по деформации движения волн и даже получить точные фотоснимки заводов через четыре часа после прекращения там всякой работы, фиксируя остаточное тепловое излучение зданий.
Вот почему «Скевенджер» как нельзя лучше подходил для полета над Пидмонтом глубокой ночью.
Уилсон тщательно проверил оборудование, пробежав пальцами по кнопкам и тумблерам и следя за перемигивающимися зелеными огоньками, которые подтверждали, что все системы исправны.
В наушниках затрещало. Послышался ленивый голос ведущего:
– Подходим к поселку, Стрелок. Видишь его?
Он, сколько мог, подался вперед в своей тесной кабине. Летели они довольно низко, и сначала ничего не было видно, кроме мелькания снега, песка и ветвей юкка. Затем впереди в лунном свете появились очертания домов.
– Вас понял. Вижу.
– Ладно, Стрелок. Дай нам уйти подальше…
Он отстал, увеличив дистанцию между собой и ведущими до одного километра. Они перестраивались в пеленг, чтобы обеспечить визуальную съемку объекта с помощью осветительных бомб. Собственно, необходимости в прямом видении не было – «Скевенджер» мог бы обойтись и без него. Но база Ванденберг требовала собрать всю информацию о поселке, какая только возможна…
Ведущие разошлись в стороны и легли на курсы, параллельные оси улицы.
– Стрелок, ты готов?
Уилсон осторожно накрыл пальцами кнопки камер. Четыре кнопки – четыре пальца, словно на клавишах рояля.
– Готов.
– Заходим…
Ведущие плавно нырнули вниз, к самому поселку. Теперь они шли далеко друг от друга, и, казалось, до земли оставались считанные метры, когда они сбросили бомбы. При ударе о землю каждая бомба выбросила вверх ослепительно белый шар, и поселок залило неестественно ярким светом, отразившимся от дюралевых тел самолетов.
Ведущие, выполнив свою задачу, взмыли вверх, но Стрелок уже не видел их. Все его внимание, помыслы и чувства сосредоточились на одном – на поселке Пидмонт…
– Цель твоя, Стрелок.
Уилсон не ответил. Он отдал ручку от себя, выпустил закрылки, и самолет мучительно задрожал, падая камнем вниз. Свет заливал песок на сотни метров вокруг. Уилсон нажал на кнопки и скорее ощутил, чем услышал вибрирующий стрекот камер. Падение продолжалось один бесконечный миг, затем он рванул ручку на себя, самолет словно уцепился за воздух, подтянулся и полез в небо. Взгляд Уилсона скользнул вдоль улицы и запечатлел тела, тела повсюду, распростертые на мостовой…
– Ну и ну, – сказал он.
А потом он снова был наверху и все набирал высоту, одновременно разворачивая машину по широкой дуге, чтобы начать второй заход, и стараясь не думать о том, что видел. Одно из первейших правил воздушной разведки – «снимай побольше, размышляй поменьше»; оценивать, анализировать в обязанности пилота не входит. Это дело специалистов, – летчики, которые слишком интересуются тем, что снимают, обязательно попадают в беду. Чаще всего – гробятся.
Когда самолет вышел на повторный заход, Уилсон старался вовсе не смотреть на землю. Но все же не удержался и взглянул – и опять увидел тела. Фосфорные бомбы уже догорали, внизу стало тусклее и мрачнее. Но тела на улице лежали по-прежнему, они ему не померещились.
– Ну и ну, – повторил он опять. – Вот чертовщина…
* * *Надпись на двери гласила: «Просмотровая Эпсилон». Чуть пониже, красными буквами: «Вход по специальным пропускам». За дверью была комната вроде как для инструктажа, только получше оборудованная: экран во всю стену, перед ним – с десяток железных стульев из гнутых труб с кожаными сиденьями, а у противоположной стены – проектор.
Когда Мэнчик и Камроу вошли, Джеггерс уже поджидал их у экрана. Этот невысокий человечек с упругой походкой и энергичным, довольно выразительным лицом отнюдь не принадлежал к числу любимцев базы и тем не менее заслуженно считался мастером дешифровки аэрофотоснимков. Ему доставляло истинное наслаждение разгадывать разного рода маленькие загадки, он был будто создан для такой работы.
Мэнчик с Камроу уселись перед экраном.
– Ну так вот, – сказал Джеггерс, потирая руки, – давайте прямо к делу. Кажется, сегодня у нас есть для вас кое-что интересное… – Он подал знак оператору, застывшему у проектора:
– Первую картинку!..
Свет в комнате погас, в проекторе что-то щелкнуло, и на экране возник поселочек среди пустыни, снятый сверху.
– Снимок не совсем обычный, – пояснил Джеггерс. – Из архивов. Сделан два месяца назад с нашего разведывательного спутника «Янос-12». Высота – вы, наверное, помните – 299 километров. Качество снимка превосходное. Не можем только прочитать номерные знаки у автомобилей, но работаем в этом направлении. К будущему году, вероятно, сможем…
Мэнчик поерзал на стуле, но ничего не сказал.
– На экране поселок Пидмонт, штат Аризона, – продолжал Джеггерс. – Жителей – сорок восемь человек. Поселок как поселок, ничего особенного, даже с трехсоткилометровой высоты. Вот магазин. Бензоколонка – обратиге внимание, как отчетливо читаются буквы на рекламной надписи, – и почта. Вот – мотель. Остальное – частные дома. А это церковь… Давайте следующую картинку.
Еще щелчок. На этот раз изображение было темнее, с красноватым оттенком, явно тоже снимок поселка сверху. Контуры зданий казались очень темными.
– Теперь начнем с инфракрасных снимков, сделанных «Скевенджсром». На инфракрасной пленке, как вам известно, изображение получается под воздействием тепловых, а не световых лучей. Теплые предметы получаются на пленке светлыми, холодные – темными. Вот, взгляните, здания совсем темные, потому что они холоднее земли. С наступлением ночи здания отдают тепло быстрее…
– А эти белые пятна? – спросил Камроу.
На экране виднелось сорок или пятьдесят белых точек и полосок.
– Это люди, – сказал Джеггерс. – Одни внутри домов, другие на улице. Мы насчитали пятьдесят. В отдельных случаях – вот здесь, например, – ясно видны четыре конечности и голова. А вот этот распластался прямо на мостовой.
Он закурил сигарету и указал на белый прямоугольник.
– Здесь, по-видимому, автомобиль. Обратите внимание: с одного конца яркое свечение. Значит, мотор все еще работает, все еще сильно разогрет…
– Фургон, – сказал Камроу. Мэнчик кивнул.
– Теперь вопрос, – сказал Джеггерс, – все ли люди мертвы? Уверенности на этот счет у нас нет. Температура тел не одинакова. Сорок семь из них относительно холодные – значит, смерть наступила некоторое время назад. Три тела теплее. Два из них в машине…
– Наши, – заметил Камроу. – А третий?..
– С третьим посложнее. Вот он, на улице, то ли стоит, то ли лежит, свернувшись клубком. Заметьте, пятно совершенно белое, то есть тело достаточно теплое. Мы определили температуру – около тридцати пяти. Конечно, это немного ниже нормы, но такое понижение температуры кожных покровов может быть связано с сужением периферических сосудов. Ночи в пустыне холодные… Следующий диапозитив!..
На экране появилась еще одна картинка. Мэнчик посмотрел на пятно и нахмурился:
– Оно передвинулось!
– Так точно. Снимок сделан при втором заходе. Пятно переместилось метров на двадцать… Еще картинку!..
Новое изображение.
– Опять передвинулось!
– Именно. Еще на пять-десять метров.
– Значит, кто-то там внизу живой?
– Таков предварительный вывод, – ответил Джеггерс.
Мэнчик прокашлялся, – То есть это ваше мнение?
– Так точно, сэр. Это наше мнение.
– Что один человек остался в живых и разгуливает среди трупов?
Джеггерс пожал плечами и легонько постучал по экрану.
– Трудно истолковать эти данные как-нибудь иначе, да и…
Вошел солдат с тремя круглыми металлическими коробками в руках.
– У нас есть еще пленки прямой съемки, сэр…
– Прокрутить, – приказал Мэнчик.
Оператор вставил пленку в проектор. Секундой позже в комнату впустили лейтенанта Уилсона.
– Эти пленки я еще не просматривал, – заявил Джеггерс. – Пожалуй, лучше попросим летчика прокомментировать их…
Мэнчик кивнул и бросил взгляд на Уилсона; тот вытянулся и, нервно вытерев ладони о брюки, прошел вперед. Встал у экрана, обернулся и начал монотонно, деревянным голосом:
– Сэр, я прошел над целью сегодня вечером, между 23.08 и 23.13. Сделал два захода, первый с востока, затем с запада. Средняя скорость при съемке – триста сорок километров в час. Высота по скорректированному альтиметру двести сорок метров…
– Постой-ка, сынок, – Мэнчик поднял руку, – ты не на допросе. Рассказывай спокойнее, не торопись…
Уилсон кивнул и сглотнул слюну. Свет в комнате погас, застрекотал проектор. На экране появился поселок, залитый ярким белым сиянием осветительных бомб; эти кадры были сняты с малой высоты.
– Первый заход, – сказал Уилсон. – С востока на запад в 23.08. Снято камерой левого крыла со скоростью 96 кадров в секунду. Прямо по курсу улица…
Он запнулся. Явственно видны были тела. И фургон, стоящий на улице, – антенна на крыше все еще медленно вращалась. Когда самолет прошел прямо над фургоном, они заметили шофера, привалившегося к рулю.
– Превосходное качество изображения, – заметил Джеггерс. – Мелкозернистая пленка обладает поразительной разрешающей способностью…
– Уилсон докладывает о своем полете, – напомнил Мэнчик.
– Так точно, сэр, – отозвался Уилсон, чуть поперхнувшись, и вновь уставился на экран. – Я как раз проходил над целью и тут увидел убитых, всех вот этих… Мне тогда показалось, что их человек семьдесят пять…


