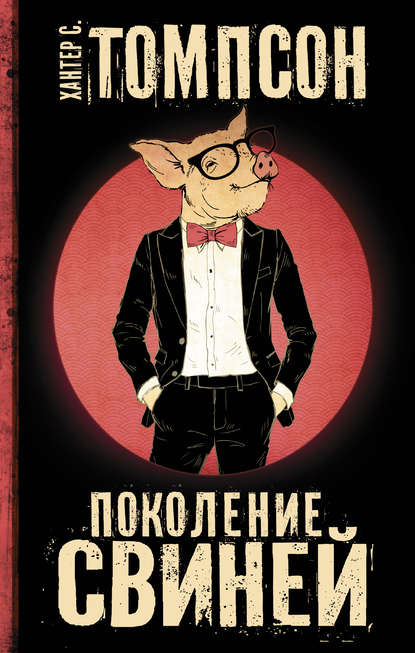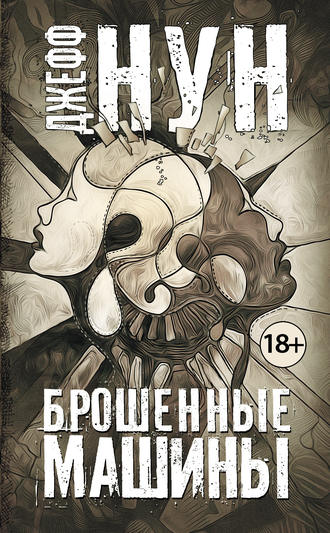
Полная версия
Брошенные машины
– Это был пляж. Тропический пляж. Очень красивое место, сплошной золотистый песок, ну, ты знаешь. Как в раю.
И мы с Павлином танцевали на песке. Ты нас видела?
– Как вы танцевали? Нет, не видела.
– Но ты нас видела в комнате? Да?
– Да.
– И как мы смотрелись со стороны?
– Ну, вы просто стояли. Как статуи.
– Мы с ним, оба?
– Да, ты и Павлин. В двух шагах друг от друга.
– И мы не касались друг друга?
– Нет.
– А какое у меня было лицо? Счастливое, нет? Я казалась счастливой? Я улыбалась?
У нее на лбу осталось одно красное пятнышко.
– Ну, почти, – сказала я. – Почти улыбалась.
– Хорошо. Почти – это тоже неплохо. Знаешь, это был какой-то старинный танец. То есть мы никогда раньше так не танцевали. Теперь так никто не танцует. Вальс. Да, вальс.
А теперь уже все.
– В каком смысле все?
– Я не знаю. Но почему-то мне кажется, что мы с ним были вместе в последний раз…
– Да брось ты. Не надо. Вы еще с ним потанцуете. И не раз. Обязательно потанцуете.
– А Павлин? Он тоже улыбался?
– Да, – сказала я. – Он улыбался.
А что еще я могла сказать?
>Хендерсон пошла спать. А я осталась на кухне, одна. Сидела, смотрела на пламя свечи, которую Павлин поставил на стол. А потом, когда отсветы пламени наигрались в моих зрачках, я достала из сумки пачку фотографий.
Я их вынула из проявителя слишком рано, и они так и остались бледными и нечеткими. Над изображением плыла шумовая завеса из тихого треска. Но все было видно.
На самом деле лучше бы я их не видела, эти снимки. Последние мгновения из чужих жизней.
На первой фотографии была старуха: лежала, скорчившись на грязном полу. Снимок сделали сверху. Зеленая кофта, жиденькие прилизанные волосы, морщинистое, потасканное лицо. По всему полу были разбросаны страницы, вырванные из какой-то книги. Пустая бутылка из-под водки. Грязные пятна на ковре, что-то похожее на лужу блевотины. Маленькое ручное зеркальце.
О Боже. Какой ужасный конец, и тем более для такой женщины, как Хендерсон. Жуткий конец, нехороший.
На второй фотографии был Павлин.
Он стоял, привалившись спиной к красной кирпичной стене, и зажимал руками живот. Его лицо искажала гримаса боли, но даже теперь он пытался держаться и не показывать, как ему больно. Сквозь пальцы сочилась кровь.
На фотографии он был почти такой же, как сейчас. Немногим старше.
Я просмотрела все фотографии в пачке. Потом – еще раз. И еще. Я все думала про эту женщину из турагентства. Про ее страшную камеру.
Тебе куда?
А ведь она и меня тоже сфотографировала сегодня. Интересно, а что получилось бы на этом снимке? Какая история была приготовлена для меня? И это падение сквозь серебристую жидкость. Что ждало меня там, внизу? И ждало ли что-то вообще?
Тебе куда?
Интересный вопрос.
Я поднесла фотографии к пламени свечи. Бумага почернела, свернулась в трубочку, осыпалась ломким пеплом. Мужчина и женщина, два подобия на сгоревшей бумаге, теперь превратившейся в черные хлопья, что парили в сумрачном пространстве.
>Я поднялась по лестнице. На самом деле я не слишком устала, и мне не то чтобы очень хотелось спать – просто хотелось залечь в нормальную постель, на чистую простыню, укрыться мягким, теплым одеялом и, может, еще поработать над книгой. Но когда я проходила по длинному темному коридору, что вел к моей комнате, я вдруг услышала свое имя.
– Марлин…
Кто меня звал? Может быть, наша хозяйка?
– Марлин? Это ты, милая?
Наверное, Кингсли, когда договаривался, упомянул мое имя. Да, скорее всего.
– Марлин…
Там была дверь, приоткрытая.
– Леди Ирис?
– Войди. Я хочу на тебя посмотреть.
Самая обыкновенная спальня. Обставленная безо всяких затей. Леди Ирис сидела в кресле у окна. На столике рядом с креслом горела свеча, единственная на всю комнату. На коленях у старой леди лежала закрытая книга.
– Мы думали, вы уже спите.
– Я спала, – сказала она. – А потом позвонили в дверь.
– Прошу прощения. Мы вас разбудили…
– Я не понимаю. Я же, кажется, говорила Эдварду, чтобы он не запирал дверь на ключ.
Только теперь я разглядела ее как следует. Но не сумела определить ее истинный возраст. Густо напудренное лицо, все в глубоких морщинах. Седые волосы, серая кожа. Волосы тоже присыпаны пудрой.
– Да, вы ему говорили. Спасибо.
Пламя свечи отражалось в линзах ее очков. Два крошечных огонька, как будто захваченных в толще стекла. Я не видела ее глаз.
– Как все сегодня прошло? Удачно? – спросила она.
– Как все прошло? Да, наверное, удачно.
– Ты взяла, что хотела?
– Взяла.
– Мистер Кингсли будет доволен.
Она отвернулась к окну. Я тоже выглянула на улицу. Проблески света вдали, россыпи городских огней. Но здесь, в новом городе, было темно. Единственный свет в темноте – недремлющий пристальный глаз.
– Кошмарное место, – сказала леди Ирис. – Я здесь как в ловушке.
– А вы давно знаете мистера Кингсли?
– Когда-то у нас был роман.
Я обернулась к ней:
– Правда?
– Конечно, тогда я была моложе; а мистер Кингсли – еще моложе.
Я попыталась представить себе молодую леди Ирис. Может, когда-то она была настоящей красавицей, но теперь от былой красоты не осталось и следа.
– Ты садись, не стой.
В комнате не было других кресел, только кровать. Мне было как-то неловко садиться задницей на чужую постель, и я присела на самый краешек. На отвернутом уголке простыни было вышито имя, крошечными золотыми буквами.
Ирис Уайт…
Белый ирис…
Старая женщина не повернулась ко мне. Она продолжала смотреть в окно.
– Мистер Кингсли – замечательный человек, очень хороший и добрый. В глубине души, – сказала она. – Он просто не знает, где у него душа.
– Да, наверное.
Больше она ничего не сказала, и я уже было решила, что она снова заснула. С того места, где я сидела, мне не было видно ее лица – только затылок, серебристые волосы.
– Я, наверное, пойду.
Леди Ирис с шумом втянула в себя воздух и сказала:
– Подай мне, пожалуйста, ящик.
– Какой ящик?
– Там, под кроватью.
Я наклонилась и заглянула под кровать. Там стоял фарфоровый ночной горшок, а рядом с ним – маленькая деревянная коробка. Из темноты выглянули два сверкающих глаза.
– Ой.
– Что там, милая?
– Нет, ничего. Я…
Зеленые глаза. Это была просто кошка. Черная кошка. Сидела там, под кроватью, и таращилась на меня.
– Видишь там ящик?
– Да.
Я достала его из-под кровати. Самый обыкновенный ящик, без крышки, без каких-либо украшений. Внутри были бумаги и письма. И два пластмассовых шприца в запаянных пластиковых упаковках с синим распахнутым глазом на этикетке. Раньше я видела препарат в жидкой форме только в больнице, когда приходила к Анджеле. Мне вдруг вспомнилось, очень живо, как ей кололи лекарство. Самая сильная доза.
– Быстрее. Давай сюда.
Я подошла к леди Ирис и поставила ящик ей на колени, прямо на книгу.
– Сейчас я тебе покажу.
Она смотрела прямо перед собой, но ее пальцы проворно перебирали бумаги в ящике. Она достала несколько фотографий.
– У тебя есть дети?
Вопрос оказался таким неожиданным, что я поначалу просто растерялась.
– Есть?
– Да. Один ребенок.
И больше я ничего не сказала. Не смогла ничего сказать. – А вот мои дети.
Я взяла у нее фотографии. Уровень шума над этими снимками был очень высоким; чтобы что-то увидеть, на них надо было смотреть под строго определенным углом и на определенном же расстоянии. На первом снимке, раскрашенном от руки, был сад при загородном доме. На втором – велосипед, прислоненный к стене. На третьем… это была даже не фотография, а открытка с репродукцией какой-то картины: ваза с фруктами, курительная трубка, французская газета. На последнем, четвертом снимке была собака. Черная собака, лежащая на коврике.
– Они красивые, правда?
Я посмотрела на леди Ирис. Ее глаз по-прежнему не было видно за отражением пламени.
– Да, очень красивые дети.
– И зачем ты мне врешь?
– Я…
– Ах, если бы мир снова стал чистым, нетронутым порчей. Но похоже, что это уже навсегда. А это, как я понимаю, тебе. – Она протянула мне конверт. – Сегодня утром пришло, курьерской почтой.
Это было письмо от Кингсли. Очередная порция денег на текущие расходы. И два листочка. На одном – подробное описание наших следующих заданий.
– И куда вы теперь?
Я назвала ей только первое место.
– На побережье, как мило. И еще в театре. Я и сама тоже была актрисой. Конечно же. Когда-то меня называли неземным божеством лондонской сцены. Мистер Кингсли тебе не рассказывал?
– Нет, кажется, нет.
– Ну да. Он такой забывчивый.
Пока мы говорили, я успела прочесть и второй листок. Там было всего несколько строк: «Я так огорчился, узнав о смерти леди Ирис. Надеюсь, ее слуга встретил вас как положено».
– Что-то случилось, Марлин?
– Что? Нет, нет. Все в порядке.
– Такой забывчивый. Ты уж прости меня, старую.
По морщинистой щеке покатилась слеза. Леди Ирис аккуратно смахнула ее шелковым носовым платком.
– Я что-то устала. Ты побудешь со мной?
– Вы хотите, чтобы я тут спала?
– Кровать в твоем полном распоряжении.
>Я сходила к себе, чтобы взять вещи. Когда вернулась, старая леди уже спала, прямо в кресле. Вот она сидит: мне виден только ее затылок, густо напудренные волосы. Я лежу на постели, в одежде. На шкафчике рядом с кроватью горят две свечи, я сама их зажгла. В их неверном, дрожащем свете я пишу эти строчки.
Лежу на боку и пишу.
И думаю над письмом Кингсли. Насчет леди Ирис. Вероятно, он просто ошибся. Получил неверную информацию. И ничего удивительного: все, что нас окружает в последнее время, – это сплошная неверная информация. Обман чувств. Смещение восприятия. Каналы между приемником и передатчиком забиты помехами, сумраком и тенями, и с каждым днем шум все сильнее.
Забиты помехами, сумраком и тенями…
Я помню эти слова. Я их употребила в одной статье. Пару недель назад, месяц назад?
В другой жизни, будучи кем-то другим.
Интересно, а что сейчас делают Павлин с Хендерсон? Наверное, уже спят? А перед тем как заснуть, они опять занимались любовью? А может, они, как и я, до сих пор не спят и обсуждают, что они видели сегодня вечером, когда их захватила вспышка фотокамеры. Мне живо представилась та фотография… Интересно, а сам Павлин знает о том, как ему суждено умереть? И если знает, тогда что он делает с этим знанием?
И эта девочка, Тапело. Где она сейчас? Она нашла, где ей переночевать? Может быть, она познакомилась с каким-нибудь парнем, и сейчас они спят, обнявшись, в какой-нибудь затемненной спальне, и им хорошо и тепло. Или застопила очередную машину: машину получше нашей, где пассажиры добрее нас. Или она так и осталась на улице. И как же она теперь?
И еще Кингсли. Мне представляется, как он бродит по дому, не в силах заснуть. Один, в доме зеркал. Потому что он не завесил свои зеркала. Он однажды сказал, что закрытое зеркало – это место, где отражения умирают. И теперь, когда мир поражен болезнью, он заходит в те комнаты, где зеркала, только ночью. В темноте. Я представляю себе, как он ходит по темным комнатам, и его собственный призрак движется следом за ним. Неотступно, от зеркала к зеркалу.
Все эти люди, их жизни, их сны.
Мой отец…
Я нечасто думаю об отце, а когда все-таки думаю, то не как о человеке, а как об отсутствии человека. Неизвестный объект, смутный силуэт в тумане. Он ушел, когда я была совсем маленькой. Я его совершенно не помню: его лицо, его жесты. Помню, что он читал мне сказки перед сном. И больше ничего. Я не знаю, почему он ушел. Однажды ночью меня разбудил непонятный шум. Я выглянула в окно и увидела, как к нашему дому подъезжает машина. Я не знаю, кто был за рулем, я не смогла разглядеть водителя, но там, внизу, был мой отец, и он что-то сказал водителю, а потом сел в машину. Они уехали вместе. Раньше я думала, что это я виновата; что я нечаянно сделала что-то такое, что заставило папу уйти.
Мой отец, человек без лица. Смутный силуэт во мраке. Сейчас он не спит, я не могу представить его спящим. В моих мыслях отец всегда только уходит. Повернувшись ко мне спиной, он уходит прочь, насовсем, и каждый раз он как будто окутан тенью.
Где-то в доме пробили часы. Бой часов расцветает в пространстве бутонами звука, которые не схватишь и не измеришь. Воздух смыкается, вбирая в себя звук.
Завтра, если получится, я позвоню Кингсли; скажу, что я возвращаюсь.
Леди Ирис шевельнулась во сне и снова затихла. Слышно чье-то дыхание. Тихое-тихое. Наверное, это мое дыхание. Может быть, это я дышу, я одна – в этой ночи, что подступает со всех сторон.
>Я достала фотографию Анджелы.
На снимке мы с ней вдвоем. Анджеле тогда было семь. Я хорошо помню мгновение, когда нас засняли. Дочка стоит на переднем плане, смотрит прямо в камеру, слегка наклонив голову. Она не улыбается, но кажется, что сейчас улыбнется. Короткая стрижка под мальчика, чистые глазенки. Один – синий, другой – карий. Прямой и бесхитростный детский взгляд. Я – чуть подальше. Сижу на траве, смотрю в сторону. Разгар лета, тени на лужайке, кошка свернулась клубочком в высокой траве. Все до мельчайших деталей. По памяти. Потому что сейчас я смотрю на снимок и вижу только туманную дымку. Фигуры исчезли. Они потерялись. Солнце включили на полную мощность.
Моя девочка, моя радость.
Что мне делать? Время идет, дни проходят. Столько всего потерялось уже безвозвратно, а дни проходят, время идет, и с каждым прожитым днем я все дальше и дальше от того мгновения, когда я могла бы тебя спасти. И шум, отнявший тебя у меня; даже теперь он не отпускает. Он выжигает твои следы…
Мне нужно заснуть.
>Ты в своей барокамере, в черной воде. Тебя кормят через капельницу, ты уже ничего не увидишь и не услышишь. Тебя оградили от мира звуков и зрительных образов. Теперь твой язык никогда не почувствует вкуса. К тебе не пробьется ни один запах. Я уже и не помню, когда я в последний раз прикасалась к тебе, к твоей коже. Потому что боюсь передать информационный сигнал, который окажется слишком болезненным. Невыносимым.
Колыбель.
Такой была твоя жизнь в самом конце. Под контролем сложной системы жизнеобеспечения. Такая хрупкая. Состояние стабильное. Жизнь, которую я теперь вижу во сне в образе данных, выведенных на экранах.
Мерцающие огоньки в темноте.
И больше ничего.
В глухой изоляции. Даже от любви, самого болезненного из сигналов.
>Я не знаю. Что-то случилось. Только я мало что помню. Кажется, я просыпалась под утро. Да, наверное. В комнате кто-то был. Было очень темно, свечи уже догорели, и поэтому я не могла ничего разглядеть. Но я знала, что это слуга, который нас встретил сегодня вечером. Эдвард. Он стоял рядом с креслом. Головы леди Ирис не было видно. Должно быть, она сползла в кресле, во сне. Он обернулся и посмотрел на меня, Эдвард.
– Что вы тут делаете? – спросила я.
– Выполняю свои обязанности, – сказал он.
И больше я ничего не помню.
>Утром, когда я проснулась, леди Ирис не было в комнате. Слуга тоже куда-то делся. Теперь в доме хозяйничали только кошки. Они уже не скрывались, как прежде. Их было так много, что и не сосчитать. И все разных цветов.
Я обыскала весь дом, но телефона так и не нашла.
Запах талька указал мне дорогу обратно, в коридор на втором этаже. Кресло, окно, постель, где я спала, – все было присыпано пудрой. Меня знобило. Деревянный ящик лежал на полу рядом с креслом. Письма и другие бумаги вывалились наружу.
Два шприца. С «Просветом».
Я решила взять их себе. Когда я наклонилась, я увидела книгу. Под креслом. Томик английской поэзии. Под названием книги были какие-то черные точки, в определенном порядке. Шифр. Тайный язык. Я открыла книжку наугад. Прошлась пальцами по одному стихотворению. Всего несколько строк. Жесткие выступы на плотной бумаге.
Азбука Брайля.
2
>Мы вышли из дома, и оказалось, что Тапело ждет нас на улице. Она стояла, прислонившись к машине. Такая же чистенькая и аккуратная, как всегда. Шарфик на шее, сумка через плечо. Волосы все так же собраны в узел.
– Как-то вы поздно встаете, – сказала она. – Нам по пути?
– Нет, – отрезала Хендерсон.
– А вам куда?
– В прямо противоположную сторону.
– Ага, мне тоже туда.
– Что вообще за дела? Откуда она узнала, где мы остановились?
– А я доктор? – сказал Павлин.
– Она была с нами в машине, – сказала я, – вчера, когда мы спрашивали дорогу.
– Слушай, Марлин, – сказала Тапело. – Я не знаю, куда вы едете, мне все равно. Но возьмите меня с собой. Только дотуда.
– Это очень далеко.
– Мне все равно. И если что, я могу сесть за руль.
– Сесть за руль? – переспросила Хендерсон. – А тебе сколько годиков, девочка?
– Я умею водить. Я хорошо вожу, правда.
Хендерсон повернулась ко мне.
– Марлин, ты можешь как-нибудь от нее избавиться?
– Да чем она нам помешает?
– Что?
– Да пусть едет, – сказала я.
– Только за руль я ее не пущу, – сказал Павлин.
– Садись в машину, – рявкнула Хендерсон.
– Уже сел.
Павлин уселся на водительское сиденье.
– Ладно, – сказала Хендерсон. – Вот что мы сейчас сделаем. Как можно скорее уедем из этого мрачного места. Найдем кафе где-нибудь у дороги и нормально позавтракаем. Настоящей едой. А потом мы поедем дальше, а девчонка останется там, в кафе. Без разговоров. Да? Марлин?
– Да, хорошо.
– Сама поражаюсь, какая я сегодня добрая.
Так начинается день.
>На запад, к лондонской окружной. Солнца почти не видно, оно бледное-бледное, почти такого же цвета, как небо. По-моему, где-то мы повернули не туда. Проехали мимо маленькой деревеньки, которая еще строилась. Стены домов были выкрашены в яркие основные цвета. Там не было ни заборов, ни нормальных садов: только зелень травы и прямые гравийные дорожки. Мы проехали через деревню под объективами камер слежения. Только в демонстрационном доме наблюдались какие-то признаки жизни: молодые родители, двое детишек. Когда мы проезжали мимо, они нам помахали, как старым знакомым.
– И чего они лыбятся, интересно? – спросила Хендерсон.
– Им все обеспечат по полной программе, по последнему слову техники, – сказал Павлин. – Электронный «Просвет», все дела.
– Ты так думаешь?
– Да. Ты глянь, какие у них тут камеры, и спутниковые антенны на каждом доме.
– Ну да. У них все по полной программе, а мы опять в полной жопе.
– Кстати, а где мы?
– А хрен его знает. – Хендерсон пролистала атлас автомобильных дорог. – На картах этого места нет.
– Мы что, заблудились? – спросила Тапело.
– Не знаю.
– Не знаешь?
– Там, где я был, – сказал Павлин, – вообще нету карт. Зато есть дыры в земле.
– И где ты был?
Мимо, по встречной полосе, проехала маленькая оранжевая машина.
– А, понятно, – сказала Тапело. – Ты был на войне?
– Ну, недолго.
– Ух ты. Так вот откуда у тебя пистолет.
– Не твоего ума дело.
– И ты убивал людей? Много убил?
– Много, бля. Даже слишком. А теперь помолчи.
– Хорошо.
– А то у меня мозги сводит, – сказала Хендерсон.
– Почему? – спросила Тапело. – Ты разве не приняла «Просвет» утром?
– М-да, хамоватая девочка. Знаю я вашу породу. Целый день жрут колеса и думают, будто им все нипочем.
– Я не такая.
– Опасная практика. Ты когда-нибудь видела человека в черном трансе?
– Я принимаю сколько положено.
– А, ну пусть тебе будет хорошо. Тебе хорошо?
– Я хочу есть. Кажется, мы собирались найти кафе.
– Все вопросы – к штурману, – сказал Павлин.
– Бля. Ты там рулишь, вот и рули по дороге. – Она швырнула атлас через плечо. Он упал на сиденье рядом со мной.
– Может быть, мы никогда уже не позавтракаем, – сказала Тапело. – И не пообедаем, и вообще. Может, мы так и застрянем в этой машине и будем ездить кругами по тем же дорогам, пока не умрем. Без еды и воды. А когда мы умрем в этой машине, она все равно будет ехать. Ну да. Она все равно будет ехать, сама по себе. Наш гроб на колесах. В буквальном смысле.
Хендерсон обернулась к нам. Посмотрела на Тапело, покачала головой и отвернулась.
– Бензин раньше закончится, – сказал Павлин.
Какое-то время мы ехали молча, а потом Тапело достала из сумки какую-то черную коробочку. Там с одного боку была маленькая застежка. Тапело ее расстегнула, и коробка раскрылась, как книга. Это были дорожные шахматы: небольшая доска и фигуры.
– Хочешь, сыграем? – спросила Тапело.
– А толку?
Девочка лишь улыбнулась.
Во время нашего путешествия мы не раз видели, как люди играют в шахматы. Как ни странно, в последнее время шахматы сделались популярными, и особенно среди молодежи. Никто не знает, почему на какие-то вещи шум влияет заметно сильнее, точно так же, как он влияет и на людей: на кого-то больше, на кого-то меньше. Но шахматы чуть ли не в первую очередь утратили всякое ощущение упорядоченности. Часы, зеркала, шахматы…
– А ты можешь играть? Но как?
Девочка пожала плечами, расставила на доске крошечные фигурки и принялась передвигать их, играя сама с собой: и за черных, и за белых. Я так и не поняла, по каким правилам она играет, но какое-то время я все-таки понаблюдала за ней, а потом отвернулась и стала смотреть в окно.
Теперь вдоль дороги тянулся лес. Дорожные знаки и указатели на перекрестках и боковых съездах были практически неразличимы в густой тени листьев, под слоем грязи, и мха, и неразборчивых граффити, за какими-то странными облачками пыли. Многие были затянуты черным брезентом.
Мне удалось разглядеть только считанные единицы, но я все равно не смогла ничего прочитать. Мне показалось, что надписи сделаны на иностранном языке. А на каком – непонятно. И еще были пустые знаки. Просто белое поле, цветной ободок, а внутри – ничего. Никаких надписей, никаких значков.
Я была абсолютно уверена, что эту церквушку мы уже проезжали. Хотя, может быть, все деревенские церкви выглядят более или менее одинаково. Собака перебежала дорогу, и Павлину пришлось резко выкрутить руль. Он остановил машину.
– Ты как? Нормально? – спросила Хендерсон.
– Ага. Вот блин, на фиг. Его трясло, я это видела.
– Хочешь я поведу? – предложила Тапело.
– Нет я, – сказала Хендерсон.
– Я сказал, я в порядке. И хватит уже.
Мы поехали дальше. Но все осталось по-прежнему: куда бы мы ни сворачивали, вокруг был все тот же пейзаж, унылый и тусклый.
Мимо, по встречной полосе, проехала маленькая оранжевая машина.
– А вы знаете, – сказала Тапело, – что некоторые места заражены больше, чем все остальные?
– Знаем, – сказала Хендерсон.
– Да я просто сказала.
– Очень вовремя, – заметил Павлин.
– Что там?
– Дома. Похоже, деревня.
– Будем надеяться, там есть кафе.
Но когда мы подъехали ближе, оказалось, что это та же деревня, где мы уже были: всего одна улица, ничем не засаженные участки, ярко раскрашенные дома.
– Тут мы уже проезжали, – сказала Хендерсон.
На этот раз краски на стенах домов казались еще насыщеннее, еще ярче. Воздух вибрировал цветом; у меня в голове гудело.
– Ага, – сказал Павлин, – а вон и демонстрационный дом. Молодое семейство так и сидело в саду, в полном составе, и они опять помахали нам, когда мы проехали мимо.
– Это не они, – сказала Тапело.
– Что?
– Это другая семья. Смотрите, жена – блондинка. А в прошлый раз была брюнетка.
– Да ладно.
– Это другая деревня.
– Блин, а девчонка права, – сказал Павлин. – Где мы вообще? Что за хрень?
– Всё, мне надоело, – сказала Тапело, закрыла шахматную доску и убрала ее в сумку. При этом она как-то неловко дернула рукой, и часть содержимого вывалилась из сумки. Книжка в мягкой обложке, пара монеток, сигареты и маленькая пластмассовая штуковина. Я сперва даже не поняла, что это было. Плоская прямоугольная штука бледно-зеленого цвета с эмблемой в уголке.
Зеркало.
Маленькое раскладное зеркальце в футляре с крышечкой. С эмблемой известной компании, производившей косметику.
Запрещенная вещь.
Тапело заметила, как я уставилась на ее зеркальце. Глядя мне прямо в глаза, она убрала его в сумку. А потом поднесла палец к губам в безмолвной просьбе не выдавать ее.
– Что там у вас происходит? – спросила Хендерсон.
Девочка посмотрела на меня и покачала головой.
– Ничего, – сказала я.
Тапело улыбнулась на долю секунды, а потом взяла в руки атлас, который Хендерсон зашвырнула к нам, на заднее сиденье. Пролистала, открыла на определенной странице. Потом она пару секунд пристально изучала карту, водя пальцем по линиям дорог. Сопоставила то, что снаружи, и то, что на карте.