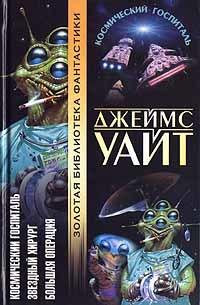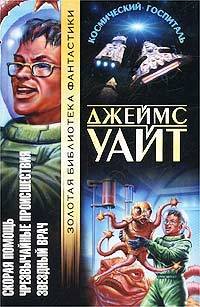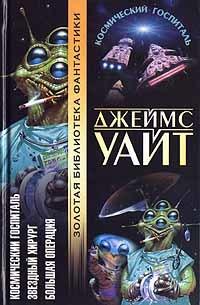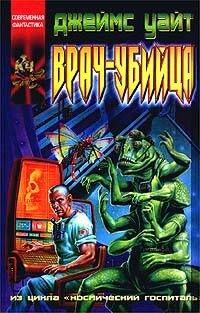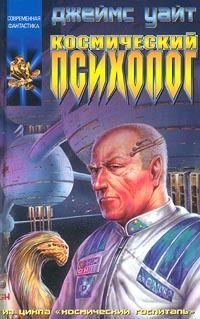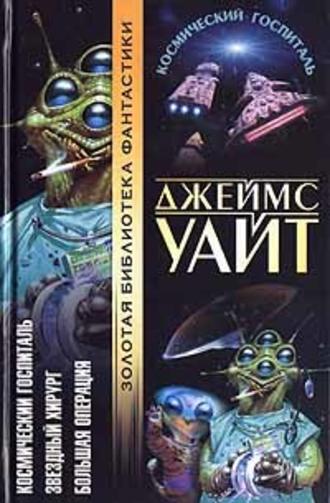 полная версия
полная версияБольшая операция
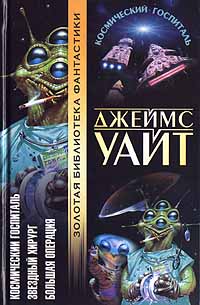
Джеймс Уайт
Большая операция
Глава 1
ВТОРЖЕНИЕ
Далеко-далеко, на самом краю Галактики, там, где скопления звезд редки и царит почти абсолютная тьма, в пространстве зависло колоссальное сооружение – Главный госпиталь двенадцатого сектора. На его трехстах восьмидесяти четырех уровнях были воспроизведены условия обитания для всех разумных существ, известных Галактической Федерации: начиная с живущих на холодных метановых мирах, дышащих кислородом и хлором и кончая экзотическими созданиями, которые напрямую питаются жестким излучением.
Помимо пациентов, чье число и виды постоянно менялись, здесь находился медицинский и обслуживающий персонал, состоящий из представителей шестидесяти различных рас с шестьюдесятью разными привычками и взглядами на жизнь, телосложением и запахом.
Все, кто трудился в Госпитале, были людьми исключительно способными, самоотверженными и терпимыми по отношению ко всем без исключения разумным формам жизни – в противном случае они просто не смогли бы здесь работать.
Они гордились тем, что ни один случай не был для них слишком незначительным или слишком безнадежным, а их аппаратура и профессиональное мастерство оставались непревзойденными. Было бы немыслимо, если бы кого-то из врачей могли обвинить в том, что он чуть было не убил пациента по чистой неосторожности.
– Видимо, не так уж и немыслимо, – сухо заметил О'Мара, главный психолог Госпиталя. – Мне очень бы не хотелось так думать, а вы вообще этого не допускаете. Но, что гораздо хуже, Маннон сам убежден в собственной вине. И мне ничего не остается, как…
– Нет! – перебил Конвей, сильное волнение перехлестнуло обычно уважительное отношение к начальству. – Маннон один из лучших среди старшего персонала, вы же знаете! Он не стал бы… Я имею в виду, не тот он человек, чтобы… Он…
– Ваш хороший друг, – улыбнувшись, закончил за него О'Мара и, не дождавшись ответа, продолжил: – Может быть, Маннон нравится мне и не в такой степени, как вам, но с профессиональной точки зрения я могу судить о нём гораздо более детально и гораздо объективней. Причем настолько, что еще пару дней назад я бы просто не поверил, что он способен на подобное. А теперь, черт побери, всё это очень меня беспокоит…
Конвей его понимал. Как главный психолог, О'Мара отвечал не только за душевное здоровье всего персонала, столь разнообразного по типам и видам, но и за то, чтобы между ними не возникало никаких трений.
Даже при предельной терпимости и взаимном уважении, которые проявляли в своих взаимоотношениях сотрудники, бывали случаи, когда такие трения возникали. Порой ситуации, таившие в себе подобную опасность, возникали по неопытности или по недоразумению, а иногда у кого-нибудь мог проявиться ксенофобный синдром, который нарушал работоспособность, или душевное равновесие, или и то и другое одновременно. Один из врачей-землян, например, неосознанно боявшийся пауков, не мог заставить себя проявить по отношению к паукообразному пациенту-илленсанину ту объективность, которая необходима для нормального лечения. Задача О'Мары заключалась в том, чтобы обнаруживать и вовремя устранять подобные неприятности либо – если всё другое не помогало – удалять потенциально опасного индивидуума, прежде чем трения перерастут в открытый конфликт. Борьба с нездоровым, ошибочным или нетерпимым отношением к иным существам была его обязанностью, и он исполнял её с таким рвением, что – Конвей сам слышал – его сравнивали с древним Торквемадой[1]. Теперь же было похоже, что этот образцовый психолог более чем встревожен. В психологии все происходящее имеет свои первопричины, и сейчас О'Мара, должно быть, размышлял, что упустил какой-то слабый, но важный сигнал – какое-то необычное слово, выражение, возможно, проявление настроения, которые вовремя предупредили бы его о том, что со старшим терапевтом Манноном происходит неладное.
Психолог откинулся назад и внимательно посмотрел на Конвея. Его серые глаза повидали так много, а аналитический ум был настолько острым, что, вместе взятое, это делало О'Мару почти телепатом.
– Несомненно, вы думаете, что я потерял хватку. Вы уверены, что проблема с Манноном в основном психологического толка, и то, что случилось, можно объяснить как-то иначе, чем халатностью. Вы можете решить, что он неутешно горюет по своей недавно умершей собаке, или придумать еще что-то не менее простое и смехотворное. Однако, по моему мнению, время, потраченное на изучение психологических аспектов, в данном случае будет потрачено впустую. Доктор Маннон был подвергнут самому тщательному обследованию. Он здоров физически и является не более сумасшедшим, чем вы или я. По крайней мере – не более, чем я…
– Спасибо, – откликнулся Конвей.
– Повторяю, доктор, – раздраженно продолжил О'Мара, – моя работа в Госпитале – вправлять мозги, а не вышибать их. Ваше назначение, если его так можно назвать, сугубо неофициальное. Поскольку физическое и психическое состояние не дают оправдание ошибке Маннона, я хочу, чтобы вы поискали другие причины – возможно, какое-то внешнее влияние, о котором он сам не подозревает. Доктор Приликла был свидетелем происшествия и, вероятно, сможет вам чем-то помочь. У вас своеобразный ум, доктор, – закончил О'Мара, поднимаясь из-за стола, – и необычный взгляд на вещи. Мы не хотим терять доктора Маннона, однако, если вам что-то удастся – вот шанс поразить меня до смерти. Говорю это, чтобы у вас имелся дополнительный стимул…
Покидая кабинет, Конвей чувствовал легкое раздражение. О'Мара вечно подтрунивал над мнимым «своеобразием» его ума. А дело заключалось лишь в том, что в те времена, когда Конвей еще только начинал свою карьеру в Госпитале, он был очень стеснительным – особенно с медсестрами с Земли. Поэтому молодой врач чувствовал себя намного удобнее в компании представителей других рас. Сегодня он уже не был стеснительным, но по-прежнему среди фантастических выходцев с Тралтана, Илленсы и других миров друзей у него было больше, чем среди землян. Конвей признавался, что, возможно, это и выглядит «своеобразно», но для врача, работающего в таком многообразном окружении, это дает явные преимущества.
Очутившись в коридоре, Конвей связался с палатой Приликлы и, обнаружив, что маленький эмпат свободен, договорился о немедленной встрече на сорок шестом уровне – там, где находилась операционная для худлариан.
Мысли Конвея были заняты Манноном, и по пути он инстинктивно уворачивался от встречных, чтобы не оказаться растоптанным насмерть.
Нашивки старшего терапевта расчищали ему путь, пока это касалось медсестер и врачей ниже его по званию. Другое дело – высокомерные и рассеянные диагносты, способные протаранить что угодно и кого угодно, или просто члены персонала особенно крупных размеров. Например, тралтане, ФГЛИ, напоминающие приземистых шестиногих слонов; келгиане – гигантские, покрытые серебристым мехом гусеницы вида ДБЛФ, которые независимо от ранга при столкновении начинали гудеть, словно сирена, или похожие на громадных крабов ЭЛНТ с планеты Мелф IV.
Несмотря на огромные физиологические различия, большинство входящих в Федерацию разумных существ дышало кислородом. Но встречались и другие виды, которые, пересекая «чужой» уровень, представляли для пешеходов еще большую опасность, будучи одеты в защитные скафандры. Так скафандр врача ТЛТУ, дышащего перегретым паром и живущего при давлении и гравитации втрое превышающих земные, представлял собой многотонный лязгающий грузовик, который любой ценой следовало обходить подальше.
Возле люка между секциями Конвей переоделся в легкий скафандр и, пройдя через люк, оказался в желтом туманном мире дышащих хлором илленсан.
Здесь коридоры были переполнены этими выходцами с планеты Илленса. Они были без защитных одежд, а вот тралтане, келгиане и гуманоиды были облачены в скафандры – одни их носили на себе, другие на них ездили.
Далее его путь проходил через обширную емкость, где в теплой зеленоватой воде неторопливо плавали тридцатифутовые существа с Чалдерскола II. Здесь ему годился всё тот же защитный костюм, только, хотя движение тут не было особенно интенсивным, передвигался он значительно медленней, так как приходилось не идти, а плыть. Тем не менее, через пятнадцать минут после того, как Конвей покинул кабинет О'Мары, он уже стоял на смотровой галерее сорок шестого уровня. С его скафандра еще скатывались капли воды, когда появился Приликла.
– Доброе утро, друг Конвей, – поздоровался маленький эмпат, ловко вспрыгнув на потолок и повиснув там на шести ногах с присосками.
Музыкальные трели и пощелкивания цинрусского языка через транслятор Конвея передавались огромному компьютеру в центре Госпиталя и возвращались в виде бесстрастного голоса, говорившего по-английски. Приликла слегка дрожал.
– Я чувствую, вам необходима помощь, доктор, – заключил он.
– Совершенно верно, – согласился Конвей, его слова переводились тем же способом и доходили до Приликлы на лишенном эмоций цинрусском. – Это касается Маннона. У меня не было времени сообщить вам подробности…
– В этом нет нужды, друг Конвей, – перебил Приликла. – Это как раз тот случай, когда трудно разобраться именно на трезвую голову. Вы, конечно, хотите знать, что я видел и чувствовал?
– Если вам это не повредит, – спросил Конвей извиняющимся тоном.
Приликла сказал, что не повредит. Однако следовало учесть тот момент, что, хотя эмпат и считался самым милым существом в Госпитале, он был тут и самым большим лгунишкой.
Он относился к классу ГЛНО – насекомое с наружной опорной системой, шестью ногами с присосками, двумя не совсем атрофировавшимися радужными крыльями и исключительными эмпатическими способностями. Только на Цинруссе, где притяжение составляло одну восьмую земного, насекомые могли вырасти до таких размеров, стать разумными и создать высокоразвитую цивилизацию. Но в Госпитале Приликла подвергался смертельной опасности большую часть рабочего дня. Повсюду, кроме собственной каюты, он был вынужден носить антигравитаторы, так как притяжение, нормальное для большинства других существ, моментально раздавило бы его в лепешку. Когда он с кем-либо разговаривал, то старался держаться вне досягаемости руки или щупальца собеседника, который непроизвольным движением мог пробить его хрупкое тело или оторвать ногу. Сопровождая кого-нибудь при обходе, он семенил рядом по стене или потолку, чтобы избежать той же участи.
Конечно, никто не хотел причинить Приликле зла – его слишком здесь любили за то, что он всегда говорил и делал окружающим только приятное.
Будучи очень чувствительным к эмоциям и чувствам других, эмпат не мог поступать иначе, так как сам испытывал тот же гнев или горе, которые вызывал у других своим необдуманным поведением. Вот поэтому маленькое существо и было вынуждено постоянно лгать и всегда быть добрым и внимательным, чтобы эмоциональное изучение окружающих было как можно более благоприятным.
Исключение составляли лишь случаи, когда он в силу профессионального долга подвергал себя боли и неприятным чувствам пациентов, либо хотел помочь своим друзьям.
Прежде чем Приликла успел заговорить, Конвей сообщил:
– Доктор, я и сам точно не знаю, что мне нужно. Но если бы вы смогли припомнить что-нибудь необычное в поведении и эмоциях Маннона или членов его бригады…
При воспоминании о той эмоциональной буре, которая разразилась в пустой сейчас операционной худлариан два дня назад, Приликла задрожал всем своим хрупким телом. Он описал положение вещей в самом начале операции.
Маленький ГЛНО не записывал худларианскую мнемограмму по своей физиологии и поэтому не мог судить о состоянии пациента со стороны, да и сам больной был под наркозом и почти ничего не излучал. Маннон и его персонал выполняли свои обязанности и, чтобы излучать, были слишком заняты. И тут со старшим терапевтом Манноном произошел… несчастный случай. Фактически, на самом деле, это были пять отдельных и вполне заметных случая.
Тело Приликлы буквально колотило.
– Я… мне очень жаль, – извинился Конвей.
– Я это знаю, – ответил эмпат и продолжил рассказ.
Чтобы наиболее эффективно работать в области операционного поля, больной содержался при частично пониженном давлении. Учитывая частоту пульса и кровяное давление пациента, здесь существовала определенная опасность. Но доктор Маннон сам предложил процедуру и, следовательно, лучше всех мог оценить степень риска. Из-за пониженного давления оперировать надо было быстро, и поначалу казалось, что все идет хорошо.
Маннон вскрыл часть гибкого хитинового покрова худларианина и занялся подкожным кровотечением, и тут он допустил первую ошибку, за которой быстро, одна за другой, последовали еще две. Приликла не мог сам определить, были ли ошибки; визуально об этом свидетельствовала эмоциональная реакция Маннона – самая страшная, которую когда-либо переносил эмпат, – именно по ней он установил, что хирург совершил серьезную, грубую оплошность.
Две следующие ошибки произошли через более продолжительные промежутки времени. Действия Маннона стали ужасающе медлительными, его движения скорее напоминали дерганье практиканта, а не работу одного из самых искусных хирургов Госпиталя. Он был настолько заторможен, что хирургическое вмешательство пришлось прекратить, и Маннон едва успел должным образом остановить операцию и поднять кровяное давление у пациента, чтобы состояние его не стало необратимым.
– …Это было весьма печально, – продолжая сильно дрожать, сказал Приликла. – Он хотел работать быстрее, но прежние ошибки лишили его уверенности в себе. Он по два раза прикидывал, как сделать простейшие вещи, вещи, которые хирург его класса сделал бы не задумываясь, автоматически.
Какое-то время Конвей оставался безмолвным, размышляя о том ужасном положении, в котором оказался Маннон. Затем он спросил:
– Было ли еще что-нибудь необычное в его чувствах? Или в чувствах операционной бригады?
– Когда источник излучает так… так, с таким отчаянием, выделить тонкие нюансы в эмоциях трудно. – Приликла заколебался. – Но у меня сложилось впечатление… эффект трудно описать… что-то вроде слабого эмоционального эха разной продолжительности.
– Вероятно, худларианская мнемограмма, – предположил Конвей. – Я и сам не раз испытывал раздвоение личности.
– Возможно, что дело могло бы быть и в этом, – сказал Приликла. В устах существа, которое неизменно и с энтузиазмом соглашалось со всем, что ему говорилось, эти снова практически означали отрицательный ответ.
У Конвея начинало складываться ощущение, что он, похоже, натолкнулся на что-то важное.
– А как насчет остальных?
– Две медсестры излучали комбинацию удивление – беспокойство – страх, указывающую на неприятные переживания. Я находился на смотровой галерее и наблюдал оба случая, причем один из них меня просто потряс…
Когда одна из медсестер поднимала поднос с инструментом, с ней чуть было не произошло несчастье. Длинный, тяжелый худларианский скальпель шестого размера, используемый для вскрытия исключительно твердого кожного покрова этих существ, по какой-то причине соскользнул с подноса. Для келгиан даже небольшая колотая или резаная рана представляет серьезную опасность. Поэтому медсестра-келгианка, увидев, что злополучное лезвие падает на незащищенную часть ее тела, сильно испугалась. Но каким-то образом – каким, учитывая форму и балансировку лезвия, сказать трудно оно упало так, что не повредило ни кожу, ни даже мех. Келгианка успокоилась и благодарила судьбу, но чувство недоумения у нее осталось.
– Могу себе представить, – сказал Конвей. – Наверно, старшая сестра устроила ей разнос. Там, где дело касается операционного персонала, маленькие ошибки могут стать причиной большого преступления…
Ноги Приликлы вновь задрожали, это был признак того, что эмпат пытается выразить легкое несогласие.
– Существо, о котором шла речь, сама была старшей операционной сестрой. Вот почему, когда другая сестра напутала с инструментом – то ли чего-то не хватало, то ли что-то было лишним, – выговор был относительно мягким. И в обоих случаях я уловил эхо-эффект, как у Маннона, только теперь он исходил от медсестер.
– Возможно, в этом что-то есть! – возбужденно воскликнул Конвей. – У них был какой-либо физический контакт с Манноном?
– Они ему ассистировали, – ответил Приликла, – и были соответствующе одеты. Так что я не вижу, судя по вашему возбуждению, то, о чём вы подумали. Извините, друг Конвей, но, мне кажется, эти эхо-эффекты, хотя они и своеобразны, не заслуживают внимания.
– Однако в них есть что-то общее, – возразил Конвей.
– Да, – согласился Приликла, – но это что-то не имело собственной индивидуальности. Всего лишь слабое эмоциональное эхо разных чувств разных людей.
– Даже если и так, – промолвил Конвей.
Два дня назад в этой операционной три человека либо допустили ошибки, либо с ними что-то случалось, при этом они излучали эмоциональное эхо, которое эмпат счел незаслуживающим внимания. Наличие случайного совпадения Конвей исключал, так как в этом отношении методы отбора кадров, применяемые О'Марой, были весьма эффективны. Но предположим, Приликла ошибается, и кто-то проник в операционную или Госпиталь, какая-то неизвестная до сих пор форма жизни, которую трудно обнаружить. Было хорошо известно, что, если в Госпитале происходило что-то странное, очень часто причины этого оказывались внешними. Однако в данный момент у Конвея не было достаточно свидетельств, чтобы выдвинуть хоть какую-то гипотезу. И первым делом было необходимо собирать факты, даже если он и упустил что-то важное для разгадки.
– Я проголодался, да и самое время побеседовать с самим человеком, – неожиданно предложил Конвей. – Давайте найдем его и пригласим на ленч.
* * *Столовая для членов медицинского и обслуживающего персонала, которые дышали кислородом, занимала целый уровень. Когда-то помещение разделили на секции для каждого физиологического вида с помощью низко натянутых веревок. Но система сработала плохо, так как посетители разных видов часто хотели пообщаться друг с другом за столом или обнаруживалось, что в какой-то секции все места заняты, а в другой, наоборот, пустуют. Поэтому было неудивительно, что, когда они прибыли на место, перед ними встал выбор между огромным тралтанским столом со скамейками на соответствующем расстоянии и столом для мелфиан, который был удобнее, но стулья тут напоминали сюрреалистические корзины для мусора. Они выбрали второй вариант и, кое-как устроившись, приступили к обычной процедуре заказа.
– Сегодня я являюсь сам собой, – ответил Приликла на вопрос Конвея. – Мне, пожалуйста, как всегда.
Конвей набрал заказ «как всегда» – три порции чего-то, напоминающего земное спагетти, – и посмотрел на Маннона.
– У меня за душой ФРОБ и МСВК, – угрюмо сообщил тот. – Худлариане в пище непривередливы, а вот этих чертовых МСВК тошнит от всего, кроме птичьего корма! Дайте мне что-нибудь съедобное, только не говорите что, и сделайте из этого три сэндвича, чтобы я не видел начинку…
В ожидании заказа Маннон вел спокойную беседу, но, судя по тому, что Приликла трясся как лист, его спокойствие было наигранным.
– Ходят слухи, что ваша парочка пытается вытащить меня из беды, в которую я угодил. Очень мило с вашей стороны, но вы зря теряете свое драгоценное время.
– Мы так не думаем, да и О'Мара придерживается иного мнения, – возразил ему Конвей, значительно исказив истину. – О'Мара считает, что и физически, и психически вы абсолютно здоровы и что ваше поведение абсолютно для вас нехарактерно. Тут должно быть какое-то объяснение, возможно, что какое-то влияние извне, что-нибудь такое, чье присутствие или отсутствие повлияло на ваше поведение необычным образом…
Конвей подчеркнул, как мало они на сегодня знают, стараясь чтобы его слова звучали более обнадеживающе, чем он чувствовал себя на самом деле, но Маннон был отнюдь не дураком.
– Не знаю, то ли я должен испытывать благодарность за ваши усилия, то ли беспокойство о том, всё ли благополучно с вашими уважаемыми головами, – сказал он, когда Конвей закончил свою речь. – Всё это своеобразие и достаточно сомнительное влияние на умственные процессы извне заключается в… в… рискуя обидеть нашу Долгоножку, я все же скажу, что всё своеобразие заключается в ваших умах и в том, что вы сами себе лжете. Ваши попытки найти мне оправдание становятся нелепыми!
– И это вы мне будете указывать на своеобразие моего ума! – воскликнул Конвей.
Маннон спокойно рассмеялся, но Приликла задрожал еще сильнее.
– Обстоятельства, кто-то или что-то, – повторил Конвей, – чье присутствие или отсутствие, должно быть, повлияло на ваше…
– О, боги! – взорвался Маннон. – Вы же не думаете о моей собаке!
Конвей как раз думал о собаке, но он внутренне смалодушничал, чтобы сразу это признать. Вместо этого он спросил:
– Доктор, а вы о ней думали во время операции?
– Нет! – ответил Маннон.
Наступила долгая, неловкая тишина, во время которой панели на обслуживающем устройстве скользнули в сторону и на свет появились их заказы.
Именно Маннон заговорил первым.
– Я любил этого пса, – осторожно сказал он, – то есть любил, когда был самим собой. Но последние четыре года в связи с преподавательскими обязанностями я был вынужден жить постоянно с мнемограммами МСВК и ЛСВО, а недавно Торннастор пригласил меня участвовать в своем проекте, и мне понадобились записи жителей Худлара и Мелфа. Эти мнемограммы тоже не стирались. Когда твой мозг считает, что он принадлежит пяти разным существам – пяти очень разным существам… ладно, вы сами хорошо знаете, каково это испытывать…
Конвей и Приликла знали это более чем хорошо.
Госпиталь имел все необходимое для исцеления любой известной формы разумной жизни, но один отдельный врач мог удержать в голове лишь малую толику физиологических данных, необходимых для успешного лечения.
Хирургическое мастерство зависело от способностей и практики врача, но полное знание физиологии любого пациента обеспечивалось с помощью учебной мнемограммы, которая являлась просто репликой личности какого-нибудь медицинского гения, принадлежащего к той же или подобной расе, что и больной. Если доктору с Земли приходилось лечить келгианина, ему накладывали физиологическую мнемограмму ДБЛФ, а когда лечение завершалось, запись в мозге стиралась. Единственным исключением из этого правила были старшие терапевты-преподаватели и диагносты.
Последние принадлежали к элите, это были существа, чья психика считалась достаточно устойчивой, чтобы постоянно содержать в мозге шесть, семь, а то и десять мнемограмм одновременно. Их переполненным знаниями мозгам поручались оригинальные разработки в области ксеномедицины и лечение новых болезней у ранее неизвестных пациентов.
Но записи привносили не только информацию о физиологии, но и все воспоминания и личность того, кто ею обладал. По существу диагност добровольно становился жертвой сильнейшей формы шизофрении. Существа, разделяющие один мозг, могли быть неприятными или агрессивными личностями – гении редко бывают обаятельными, – отягощенными разного рода фобиями и недостатками. Это проявлялось не только во время приема пищи. Самыми страшными были периоды, когда носитель мнемограммы расслаблялся перед сном.
Ночные кошмары инопланетян были действительно кошмарами, а их сексуальные фантазии и мечты об исполнении желаний могли заставить кого угодно возжелать, если он вообще еще оставался способен чего-нибудь осознанно желать, только одного – собственной смерти.
– …На протяжении лишь нескольких минут, – продолжал Маннон, – из свирепого лохматого зверя, намеревающегося вырвать перья с моего живота, она превращалась в безмозглый клубок шерсти, который так и хотелось растоптать одной из шести моих ног, если она не уберется с дороги к чертовой матери, и при этом она оставалась обыкновенной собакой, которой просто хотелось поиграть. Вы знаете, это было не совсем честно по отношению к дворняге. Под конец она стала очень дряхлой и сбитой с толку собакой, и я скорее рад, чем огорчен, что она умерла. А теперь давайте поговорим о чем-нибудь более приятном, – оживленно заявил Маннон. – В противном случае мы окончательно испортим ленч доктору Приликле…
Именно этим он и занимался в течение оставшегося времени, с очевидным удовольствием пережевывая пикантные слухи, дошедшие из метановых палат для СНЛУ. Конвей был несколько изумлен, каким образом происходят скандалы между разумными кристаллическими существами, живущими при минус ста пятидесяти градусах, и почему их этические недостатки так интересны для дышащего кислородом теплокровного. Если только это не одна из причин, по которой старший терапевт Маннон является без пяти минут диагностом.
Или являлся.
Если Маннон ассистировал Торннастору, главному диагносту отделения патологии (то есть старшему диагносту Госпиталя), в одном из проектов этого августейшего существа, значит, он был обязан находиться в хорошей физической и психологической форме – диагносты были очень разборчивы в своих помощниках. И всё, что говорил ему главный психолог, указывало на то же самое. Но тогда что могло найти на Маннона два дня назад и заставить его вести себя так, как это было?