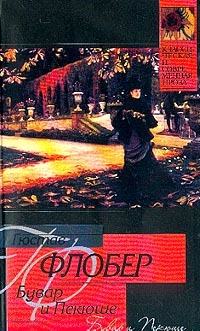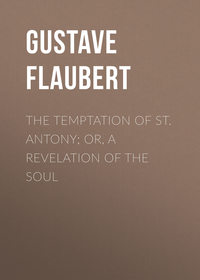Полная версия
Госпожа Бовари
Стол накрыли в каретнике, под навесом. Подали четыре филе, шесть фрикасе из кур, тушеную телятину и три жарких, а на середине стола поставили превосходного жареного молочного поросенка, обложенного колбасками, с гарниром из щавеля. По углам стола возвышались графины с водкой. На бутылках со сладким сидром вокруг пробок выступила густая пена, стаканы были заранее налиты вином доверху. Желтый крем на огромных блюдах трясся при малейшем толчке; на его гладкой поверхности красовались инициалы новобрачных, выведенные мелкими завитушками. Нугу и торты готовил кондитер, выписанный из Ивето. В этих краях он подвизался впервые и решил в грязь лицом не ударить – на десерт он собственными руками подал целое сооружение, вызвавшее бурный восторг собравшихся. Нижнюю его часть составлял сделанный из синего картона квадратный храм с портиками и колоннадой, а вокруг храма в нишах, усеянных звездами из золотой бумаги, стояли гипсовые статуэтки; второй этаж составлял савойский пирог в виде башни, окруженный невысокими укреплениями из цуката, миндаля, изюма и апельсинных долек, а на самом верху громоздились скалы, виднелись озера из варенья, на озерах – кораблики из ореховых скорлупок, среди зеленого луга качался крошечный амурчик на шоколадных качелях, столбы которых вместо шаров увенчивались бутонами живых роз.
Обед тянулся до вечера. Устав сидеть, гости шли погулять во двор или на гумно – поиграть в «пробку», а потом опять возвращались на свои места. К концу обеда многие уже храпели. Но за кофе все снова оживились, запели песни, потом мужчины начали пробовать силу – упражнялись с гирями, показывали свою ловкость, пытались взвалить себе на плечи телегу, за столом говорили сальности, обнимали дам. Вечером стали собираться домой, но лошадей перекормили овсом, и они не хотели влезать в оглобли, брыкались, вскакивали на дыбы, рвали упряжь, а хозяева – кто бранился, кто хохотал. И всю ночь по дорогам бешеным галопом неслись при лунном свете крытые повозки, опрокидывались в канавы, перемахивали через кучи щебня, скатывались с косогоров вниз, а женщины, высунувшись в дверцу, подхватывали вожжи.
Те, что остались в Берто, пропьянствовали ночь в кухне. Дети уснули под лавками.
Невеста упросила отца, чтобы ее избавили от обычных шуток. Тем не менее один из их родственников, торговец рыбой (он даже в качестве свадебного подарка привез две камбалы), начал было прыскать водой в замочную скважину, но папаша Руо подоспел вовремя и попытался втолковать ему, что зять занимает видное положение и что эти непристойные выходки по отношению к нему недопустимы. Однако родственник проникся его доводами не сразу. Подумав про себя, что папаша Руо зазнался, он отошел в уголок, к группе гостей; этим гостям случайно достались за обедом неважные куски, и теперь они, разобидевшись, перемывали косточки хозяину и, хотя и не прямо, желали ему разориться.
Госпожа Бовари-мать за весь день не проронила ни звука. С ней не посоветовались ни относительно наряда невесты, ни относительно распорядка свадебного пиршества; уехала она рано. Ее супруг остался – он послал в Сен-Виктор за сигарами и до самого утра все курил и попивал грог, чем заслужил особое уважение всей компании, которая понятия не имела о подобной смеси.
Шарль, остроумием не отличавшийся, во время свадебного пира не блистал. На все шутки, каламбуры, двусмысленности, поздравления и вольные намеки, которыми гости сочли своим долгом осыпать его с самого начала обеда, он отвечал не очень удачно.
Зато наутро это был уже совсем другой человек. Казалось, что это он утратил невинность, меж тем как по непроницаемому виду молодой ни о чем нельзя было догадаться. Даже самые злые насмешники – и те прикусили язык, и когда она проходила мимо, они только глазели на нее, тщетно шевеля мозгами. Но Шарль и не думал таиться. Он называл Эмму женой, говорил ей «ты», спрашивал у каждого, как она ему нравится, всюду бегал за ней, беспрестанно уводил в сад, и гостям издалека было видно, как он, обняв ее за талию, гуляет по аллее, как он склоняется головой к ней на грудь и мнет кружевную отделку корсажа.
Через два дня после свадьбы молодые уехали – Шарль не мог дольше оставаться в Берто из-за пациентов. Папаша Руо дал им свою повозку и проводил их до Васонвиля. Там он в последний раз поцеловал дочь, потом слез с повозки и пошел домой. Отойдя шагов на сто, он обернулся и, глядя, как крутятся по дорожной пыли колеса удаляющейся повозки, тяжело вздохнул. Он вспомнил былое, вспомнил свою свадьбу, первую беременность жены; он тоже был весел в тот день, когда она сидела сзади него верхом на коне, бежавшем рысью по белому-белому полю, – ведь это было незадолго до Рождества, и снег уже выпал; одною рукой она держалась за мужа, а в другой у нее была корзинка; ветер трепал длинные концы ее кошского кружевного чепчика, они закрывали ей рот, и, оборачиваясь, он видел, что к его плечу вплотную прижимается ее улыбающееся розовое личико, выглядывающее из-под золотого ободка чепца. Время от времени она грела пальцы у него за пазухой. Как все это было давно! Теперь их сыну исполнилось бы уже тридцать лет! Старик еще раз оглянулся, но повозка скрылась из виду. И тут у него в душе стало пусто, как в доме, откуда вынесли все вещи. В его голове, которую затуманили винные пары, трогательные воспоминания мешались с мрачными мыслями, и его вдруг потянуло к церкви. Но, боясь, как бы ему там не стало еще тоскливее, он зашагал прямо домой.
Господин и госпожа Бовари приехали в Тост к шести часам. Соседи бросились к окнам поглядеть на молодую докторшу.
Старая служанка поздоровалась со своей новой госпожой, поздравила ее, извинилась, что обед еще не готов, и предложила пока что осмотреть дом.
V
Дом своим кирпичным фасадом выходил прямо на улицу или, вернее, на дорогу. За дверью висели плащ с низким воротником, уздечка и черная кожаная фуражка, а в углу валялась пара штиблет, на которых уже успела засохнуть грязь. Направо дверь вела в залу, то есть в комнату, где обедали и сидели по вечерам. Канареечного цвета обои с выцветшим бордюром в виде гирлянды цветов дрожали на плохо натянутой холщовой подкладке; на окнах висели цеплявшиеся одна за другую белые коленкоровые занавески с красной каемкой, а на узкой каминной полочке, между двумя накладного серебра подсвечниками с овальными абажурами, поблескивали часы с головой Гиппократа. В противоположном конце коридора была дверь в кабинет Шарля – каморку шагов в шесть шириной, – там стоял стол, три стула и рабочее кресло. Тома «Медицинской энциклопедии», хотя и неразрезанные, но после многочисленных перепродаж успевшие основательно поистрепаться, занимали почти целиком шесть полок елового книжного шкафа. Больные, сидя здесь на приеме, дышали кухонным чадом, проникавшим сквозь стену, зато в кухне было слышно, как они кашляют и во всех подробностях рассказывают о своих болезнях. За кабинетом находилась нежилая комната, окнами во двор, на конюшню, заменявшая теперь и дровяной сарай, и подвал, и кладовую, – там валялись железный лом, пустые бочонки, пришедшие в негодность садовые инструменты и много всякой другой пыльной рухляди, неизвестно для чего в свое время предназначавшейся.
Неширокий, но длинный сад тянулся меж двух глинобитных стен, не видных за рядами абрикосовых деревьев, и упирался в живую изгородь из кустов терновника, а дальше уже начинались поля. Посреди сада на каменном постаменте высились солнечные часы из аспидного сланца; четыре клумбы чахлого шиповника симметрично окружали грядку полезных насаждений. В глубине, под пихтами, читал молитвенник гипсовый священник.
Эмма поднялась на второй этаж. В первой комнате никакой обстановки не было, а во второй, где помещалась спальня супругов, стояла в алькове кровать красного дерева под красным пологом. На комоде привлекала внимание коробочка, отделанная ракушками; у окна на секретере стоял в графине букет флёрдоранжа, перевязанный белою атласною лентою. То был букет новобрачной, букет первой жены! Взгляд Эммы остановился на нем. Шарль это заметил и, взяв букет, понес его на чердак, а молодая, в ожидании, пока расставят тут же, при ней, ее вещи, села в кресло и, вспомнив о своем свадебном букете, лежавшем в картонке, задала себе вопрос, какая участь постигнет ее флёрдоранж, если вдруг умрет и она.
С первых же дней Эмма начала вводить новшества. Сняла с подсвечников абажуры, оклеила комнаты новыми обоями, заново покрасила лестницу, в саду вокруг солнечных часов поставила скамейки и даже стала расспрашивать, как устроить бассейн с фонтаном и рыбками. Наконец супруг, зная, что она любит кататься, купил по случаю двухместный шарабанчик, который благодаря новым фонарям и крыльям из простроченной кожи мог сойти и за тильбюри.
Словом, Шарль наслаждался безоблачным счастьем. Обед вдвоем, вечерняя прогулка по большаку, движение, каким его жена поправляла прическу, ее соломенная шляпка, висевшая на оконной задвижке, и множество других мелочей, прелесть которых была ему прежде незнакома, представляли для него неиссякаемый источник блаженства. Утром, лежа с Эммой в постели, он смотрел, как солнечный луч золотит пушок на ее бледно-розовых щеках, полуприкрытых оборками чепца. На таком близком расстоянии, особенно когда она, просыпаясь, то приподнимала, то опускала веки, глаза ее казались еще больше; черные в тени, темно-синие при ярком свете, они как бы состояли из расположенных в определенной последовательности цветовых слоев, густых в глубине и все светлевших по мере приближения к белку. Глаз Шарля тонул в этих пучинах, – Шарль видел там уменьшенного самого себя, только до плечей, в фуляровом платке на голове и в сорочке с расстегнутым воротом. Он вставал. Она подходила к окну и смотрела, как он уезжает. Она облокачивалась на подоконник, между двумя горшками с геранью, и пеньюар свободно облегал ее стан. Выйдя на улицу, Шарль ставил ноги на тумбу и пристегивал шпоры; Эмма продолжала с ним разговаривать, стоя наверху, покусывая лепесток или былинку, а потом сдувала ее по направлению к Шарлю, и она долго держалась в воздухе, порхала, описывала круги, словно птица, и, прежде чем упасть, цеплялась за лохматую гриву старой белой кобылы, стоявшей у порога не шевелясь. Шарль садился верхом, посылал Эмме воздушный поцелуй, она кивала ему в ответ, закрывала окно, он уезжал. И на большой дороге, бесконечною пыльною лентою расстилавшейся перед ним, на проселках, под сводом низко нагнувшихся ветвей, на межах, где колосья доходили ему до колен, Шарль чувствовал, как солнце греет ему спину, вдыхал утреннюю прохладу и, весь во власти упоительных воспоминаний о минувшей ночи, радуясь, что на душе у него спокойно, что плоть его удовлетворена, все еще переживал свое блаженство, подобно тому как после обеда мы еще некоторое время ощущаем вкус перевариваемых трюфелей.
Был ли он счастлив когда-либо прежде? Уж не в коллеже ли, когда он сидел взаперти, в его высоких четырех стенах, и чувствовал себя одиноким среди товарищей, которые были и богаче и способнее его, которые смеялись над его выговором, потешались над его одеждой и которым матери, когда являлись на свидание, проносили в муфтах пирожные? Или позднее, когда он учился на лекаря и когда в карманах у него было так пусто, что он даже не мог заказать музыкантам кадриль, чтобы потанцевать с какой-нибудь молоденькой работницей, за которой ему хотелось приударить? Потом он год и два месяца прожил со вдовой, у которой, когда она ложилась в постель, ноги были холодные, как ледышки. А теперь он до конца своих дней будет обладать прелестною, боготворимою им женщиной. Весь мир замыкался для него в пределы шелковистого обхвата ее платьев. И он упрекал себя в холодности, он скучал без нее. Он спешил домой, с бьющимся сердцем взбегал по лестнице. Эмма у себя в комнате занималась туалетом; он подходил к ней неслышными шагами, целовал ее в спину, она вскрикивала.
Не дотрагиваться поминутно до ее гребенки, косынки, колец – это было свыше его сил; он то взасос целовал ее в щеки, то покрывал быстрыми поцелуями всю ее руку, от кончиков пальцев до плеча, а она полуласково, полусердито отталкивала его, как отстраняем мы детей, когда они виснут на нас.
До свадьбы она воображала, что любит, но счастье, которое должно было возникнуть из этой любви, не пришло, и Эмма решила, что она ошиблась. Но она все еще старалась понять, что же на самом деле означают слова: «блаженство», «страсть», «упоение» – слова, которые казались ей такими прекрасными в книгах.
VI
В детстве она прочла «Поля и Виргинию» и долго потом мечтала о бамбуковой хижине, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе с милым маленьким братцем, который срывал бы для нее красные плоды с громадных, выше колокольни, деревьев или бежал бы к ней по песку босиком, с птичьим гнездом в руках.
Когда ей исполнилось тринадцать лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Остановились они в квартале Сен-Жерве, на постоялом дворе; ужин подали им на тарелках, на которых были нарисованы сцены из жизни мадемуазель де Лавальер. Апокрифического характера надписи, исцарапанные ножами, прославляли религию, чувствительность, а также роскошь королевского двора.
Первое время она совсем не скучала в монастыре; ей хорошо жилось у монахинь, которые, желая доставить ей развлечение, водили ее в часовню, соединенную с трапезной длинным коридором. На переменах она особой резвости не проявляла, катехизис ей давался легко, и на трудные вопросы викария всякий раз отвечала она. Окутанную тепличной атмосферой классов, окруженную бледноликими женщинами, носившими четки с медными крестиками, ее постепенно завораживала та усыпительная мистика, что есть и в церковных запахах, и в холоде чаш со святой водой, и в огоньках свечей. Стоя за обедней, она, вместо того чтобы молиться, рассматривала в своей книжке обведенные голубою каймой заставки духовно-нравственного содержания; ей нравились и больная овечка, и сердце Христово, пронзенное острыми стрелами, и бедный Иисус, падающий под тяжестью креста. Однажды она попробовала ради умерщвления плоти целый день ничего не есть. Она долго ломала себе голову, какой бы ей дать обет.
Идя на исповедь, она нарочно придумывала разные мелкие грехи, чтобы подольше постоять на коленях в полутьме, скрестив руки, припав лицом к решетке, слушая шепот духовника. Часто повторявшиеся в проповедях образы жениха, супруга, небесного возлюбленного, вечного бракосочетания как-то особенно умиляли ее.
Вечерами, перед молитвой, им обыкновенно читали что-нибудь душеспасительное: по будням – отрывки из священной истории в кратком изложении или «Беседы» аббата Фрейсину, а по воскресеньям, для разнообразия, – отдельные места из «Духа христианства». Как она слушала вначале эти полнозвучные пени романтической тоски, откликающиеся на все призывы земли и вечности! Если бы детство ее протекло в торговом квартале какого-нибудь города, в комнате рядом с лавкой, ее мог бы охватить пламенный восторг перед природой, которым мы обыкновенно заражаемся от книг. Но она хорошо знала деревню; мычанье стад, молочные продукты, плуги – все это было ей так знакомо! Она привыкла к мирным картинам, именно поэтому ее влекло к себе все необычное. Если уж море, то чтобы непременно бурное, если трава, то чтобы непременно среди развалин. Это была натура не столько художественная, сколько сентиментальная, ее волновали не описания природы, но излияния чувств, в каждом явлении она отыскивала лишь то, что отвечало ее запросам, и отметала как ненужное все, что не удовлетворяло ее душевных потребностей.
Каждый месяц в монастырь на целую неделю приходила старая дева – белошвейка. Она принадлежала к старинному дворянскому роду, разорившемуся во время революции, поэтому ей покровительствовал сам архиепископ и ела она за одним столом с монахинями, а после трапезы, прежде чем взяться за шитье, оставалась с ними поболтать. Пансионерки часто убегали к ней с уроков. Она знала наизусть любовные песенки прошлого века и, водя иглой, напевала их. Она рассказывала разные истории, сообщала новости, выполняла в городе любые поручения и потихоньку давала читать старшим ученицам романы, которые она всюду носила с собой в кармане передника и которые сама глотала во время перерывов целыми главами. Там было все про любовь, там были одни только любовники, любовницы, преследуемые дамы, падающие без чувств в уединенных беседках, кучера, которых убивают на каждой станции, кони, которых загоняют на каждой странице, дремучие леса, сердечные тревоги, клятвы, рыдания, слезы и поцелуи, челны, озаренные лунным светом, соловьиное пение в рощах, герои, храбрые, как львы, кроткие, как агнцы, добродетельные донельзя, всегда безукоризненно одетые, слезоточивые, как урны. Пятнадцатилетняя Эмма целых полгода дышала этой пылью старинных книгохранилищ. Позднее Вальтер Скотт привил ей вкус к старине, и она начала бредить хижинами поселян, парадными залами и менестрелями. Ей хотелось жить в старинном замке и проводить время по примеру дам, носивших длинные корсажи и, облокотясь на каменный подоконник, опершись головой на руку, смотревших с высоты стрельчатых башен, как на вороном коне мчится к ним по полю рыцарь в шляпе с белым плюмажем. В ту пору она преклонялась перед Марией Стюарт и обожала всех прославленных и несчастных женщин. Жанна д'Арк, Элоиза, Агнеса Сорель, Прекрасная Ферроньера и Клеманс Изор – все они, точно кометы, выступали перед ней из непроглядной тьмы времен, да еще кое-где мелькали тонувшие во мраке, никак между собою не связанные Людовик Святой под дубом, умирающий Баярд, зверства Людовика XI, сцены из Варфоломеевской ночи, султан на шляпе Беарнца, и, разумеется, навсегда запечатлелись у нее в памяти тарелки с рисунками, восславлявшими Людовика XIV.
На уроках музыки она пела только романсы об ангелочках с золотыми крылышками, о мадоннах, лагунах, гондольерах, и сквозь нелепый слог и несуразный напев этих безвредных вещиц проступала для нее пленительная фантасмагория жизни сердца. Подруги Эммы приносили в монастырь кипсеки, которые им дарили на Новый год. Их приходилось прятать, это было не так-то просто; читали их только в дортуарах. Чуть дотрагиваясь до великолепных атласных переплетов, Эмма останавливала восхищенный взор на указанных под стихами именах неизвестных ей авторов – по большей части графов и виконтов.
От ее дыхания шелковистая папиросная бумага, загнувшись, приподнималась кверху, а потом снова медленно опускалась на гравюру, и уже это одно приводило Эмму в трепет. Бумага прикрывала то юношу в коротком плаще, за балюстрадой балкона обнимавшего девушку в белом платье с кошелечком у пояса, то портреты неизвестных английских леди с белокурыми локонами, глядевших большими ясными глазами из-под круглых соломенных шляпок. Одна из этих леди полулежала в коляске, скользившей по парку, а впереди бежавших рысью лошадей, которыми правили два маленьких грума в белых рейтузах, вприпрыжку неслась борзая. Другая леди, в мечтательной позе раскинувшись на софе и положив рядом с собой распечатанное письмо, глядела на луну в приоткрытое окно с приспущенной черной занавеской. Чистые душою девушки, проливая слезы, целовались с горлинками между прутьев готических клеток или, улыбаясь, склонив головку набок, обрывали лепестки маргаритки загнутыми кончиками пальцев, острыми, как носки у туфелек. Там были и вы, султаны с длинными чубуками, под навесами беседок млеющие в объятиях баядерок, гяуры, турецкие сабли, фески, но особенно обильно там были представлены вы, в блеклых тонах написанные картины, изображающие некие райские уголки, картины, на которых мы видим пальмы и тут же рядом – ели, направо – тигра, налево – льва, вдали – татарский минарет, на переднем плане – руины древнего Рима, поодаль – разлегшихся на земле верблюдов, причем все это дано в обрамлении девственного, однако тщательно подметенного леса и освещено громадным отвесным лучом солнца, дробящимся в воде серо-стального цвета, а на фоне воды белыми пятнами вырезываются плавающие лебеди.
И все эти виды земного шара, беспрерывной чередою мелькавшие перед мысленным взором Эммы в тишине спальни под стук запоздалой пролетки, доносившийся издалека, с какого-нибудь бульвара, озарял свет лампы под абажуром, висевшей прямо над головою девушки.
Когда у нее умерла мать, она первое время плакала, не осушая глаз. Она заказала траурную рамку для волос покойницы, а в письме к отцу, полном мрачных мыслей о жизни, выразила желание, чтобы ее похоронили в одной могиле с матерью. Старик решил, что дочка заболела, и поехал к ней. Эмма в глубине души была довольна, что ей сразу удалось возвыситься до трудно достижимого идеала отрешения от всех радостей жизни – идеала, непосильного для людей заурядных. Словом, она попалась в сети к Ламартину, и ей стали чудиться звуки арфы на озерах, лебединые песни, шорох опадающих листьев, непорочные девы, возносящиеся на небо, голос предвечного, звучащий в долине. Все это ей скоро наскучило, но она не хотела себе в этом признаться и продолжала грустить – сперва по привычке, потом из самолюбия, но в конце концов, к немалому своему изумлению, почувствовала, что успокоилась, что в сердце у нее не больше кручины, чем морщин на лбу.
Добрые инокини, с самого начала столь проницательно угадавшие, в чем именно состоит ее призвание, теперь были крайне поражены, что мадемуазель Руо, видимо, уходит из-под их влияния. Они зорко следили за тем, чтобы она выстаивала службы, часто заводили с ней разговор об отречении от мира, были щедры на молитвы и увещания, внушали ей, как надо чтить мучеников и угодников, давали ей столько мудрых советов, как должно укрощать плоть и спасать душу, и в конце концов довели ее до того, что она, точно лошадь, которую тянут за узду, вдруг остановилась как вкопанная, и удила выпали у нее изо рта. То была натура, при всей своей восторженности, рассудочная: в церкви ей больше всего нравились цветы, в музыке – слова романсов, в книгах – волнения страстей, таинства же она отвергала, но еще больше ее возмущало послушание, чуждое всему ее душевному строю. Когда отец взял ее из пансиона, то это никого не огорчило. Настоятельница даже заметила, что последнее время Эмма была недостаточно почтительна с монахинями.
Дома она сперва охотно командовала слугами, но деревня ей скоро опротивела, и она пожалела о монастыре. К тому времени, когда Шарль первый раз приехал в Берто, Эмма прониклась убеждением, что она окончательно разочаровалась в жизни, что она все познала, все испытала.
Заговорила ли в ней жажда новизны, или, быть может, сказалось нервное возбуждение, охватывавшее ее в присутствии Шарля, но только Эмма вдруг поверила, что то дивное чувство, которое она до сих пор представляла себе в виде райской птицы, парящей в сиянии несказанно прекрасного неба, слетело наконец к ней. И вот теперь она никак не могла убедить себя, что эта тихая заводь и есть то счастье, о котором она мечтала.
VII
Порой ей приходило в голову, что ведь это же лучшие дни ее жизни, так называемый медовый месяц. Но, чтобы почувствовать их сладость, надо, очевидно, удалиться в края, носящие звучные названия, в края, где первые послесвадебные дни бывают полны такой чарующей неги! Ехать бы шагом в почтовой карете с синими шелковыми шторами по крутому склону горы, слушать, как поет песню кучер, как звенят бубенчиками стада коз, как глухо шумит водопад и как всем этим звукам вторит горное эхо! Перед заходом солнца дышать бы на берегу залива ароматом лимонных деревьев, а вечером сидеть бы на террасе виллы вдвоем, рука в руке, смотреть на звезды и мечтать о будущем! Эмма думала, что есть такие места на земле, где счастье хорошо родится, – так иным растениям нужна особая почва, а на любой другой они принимаются с трудом. Как бы хотела она сейчас облокотиться на балконные перила в каком-нибудь швейцарском домике или укрыть свою печаль в шотландском коттедже, где с нею был бы только ее муж в черном бархатном фраке с длинными фалдами, в мягких сапожках, в треугольной шляпе и кружевных манжетах!
Вероятно, она ощущала потребность кому-нибудь рассказать о своем душевном состоянии. Но как выразить необъяснимую тревогу, изменчивую, точно облако, быстролетную, точно ветер? У нее не было слов, не было повода, ей не хватало смелости.
И все же ей казалось, что если бы Шарль захотел, если бы он догадался, если бы он взглядом хоть раз ответил на ее мысль, от ее сердца мгновенно отделилось бы и хлынуло наружу все, что в нем созревало: так отрываются спелые плоды от фруктового дерева – стоит только его тряхнуть. Но отрыв этот, хотя их жизни сближались все тесней и тесней, происходил только в ее внутреннем мире, не находя отзвука вовне, и это разобщало ее с Шарлем.
Речь Шарля была плоской, точно панель, по которой вереницей тянулись чужие мысли в их будничной одежде, не вызывая ни волнения, ни смеха, ничего не говоря воображению. Он сам признавался, что в Руане так и не удосужился сходить в театр, ему неинтересно было посмотреть парижских актеров. Он не умел плавать, не умел фехтовать, не умел стрелять из пистолета и как-то раз не смог объяснить Эмме смысл попавшегося ей в одном романе выражения из области верховой езды.