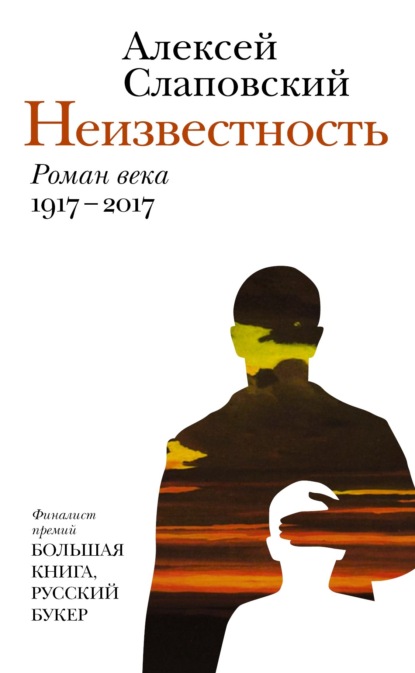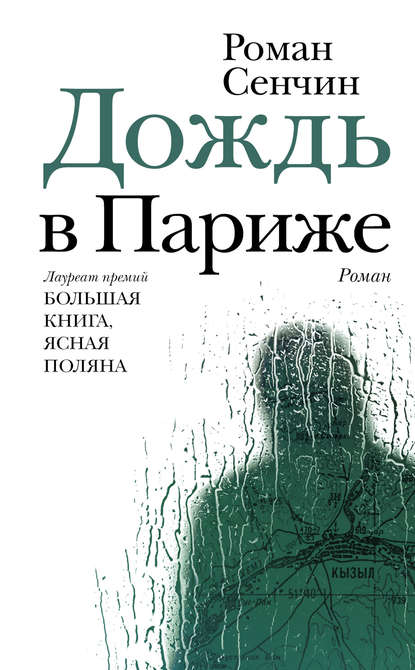Полная версия
Легкая голова
По сути, у социальных прогнозистов нет никаких реальных рычагов, чтобы сдвинуть Максима Т. Ермакова с насиженного места. Или он так наивен? Надо, надо беречь себя, маниакально соблюдать за рулем правила движения, не соваться больше в крупные торговые центры, не ходить беспечно под балконами, под всякими навесами и козырьками, на которых растут кривые сосули, мутные и пьяные, будто банки самогона, при этом способные, в искривленных координатах причинно-следственных связей, лететь и поражать с точностью стрел. Что еще? Алкоголь и наркотики – совершенно исключить. На самом деле Максим Т. Ермаков давно слыл в этом отношении мужчиной со странностями. Его, всегда одетого, по выражению Гоши-Чердака, «по-министерски», пьющего и нюхающего так, будто он делает всей вечеринке великое одолжение, пригламуренная мелкая тусня считала то пошлым понтярщиком, то зачаточным великим карьеристом. В действительности ни крепкое питье, ни колеса, ни порошки совершенно не забирали Максима Т. Ермакова. Весь эффект сводился к тому, что его антигравитационный мозг, получив удар, несколько минут посылал в пространство свои бесчисленные копии, а потом наступала пронзительная ясность, болезненная, как визг ножа по стеклу. Максим Т. Ермаков тратил деньги на эти антиудовольствия исключительно из чувства приличия, о котором теперь следовало начисто забыть. Даже краткая потеря контроля над собой давала причинно-следственным связям дополнительный шанс. Тем более нельзя было соваться в темные арки и проулки, с их особой акустикой, превращающей позднего прохожего в топочущую хриплую приманку. Совершенно не следовало срезать недлинный путь из мини-маркета по соседнему двору, где еле горят фонари и оплывает под дождем, превращающим глину в гороховый суп, бесхозный котлован.
В мире, словно маслом смазанном опасностью, в мире скользящем, лишенном тормозов осмотрительный человек выглядит, вероятно, таким же безумцем, как в мире нормальном и устойчивом – гоняющий с зашкаленным спидометром обкуренный придурок. Возможно, именно безумие овладело Максимом Т. Ермаковым. Возможно, ему что-то начало мерещиться. Когда он – в отрешенном унынии – все-таки поперся с покупками соседним двором, сзади, в темноте, словно кто-то кашлянул в кулак, и Максиму Т. Ермакову показалось, что его сильно дернули за ухо. Тотчас кашель повторился, звякнула валявшаяся на земле ужаленная железка, еще несколько сочных пуль ушло в глину. Может быть, эта дергающаяся темнота была персональной неврастенией Максима Т. Ермакова, но он отшвырнул подальше светлый пакет с перевернувшимся ужином и бросился за гаражи.
Все это было не очень правдоподобно. Все это было совершенно не нужно никому, прежде всего самим социальным прогнозистам. Тем не менее Максим Т. Ермаков, с пластырем на оттопыренном ухе, из которого будто дыроколом выкусили край, взял из офисного стола казенный ПММ и перевел его в портфель.
– Да брось, Максик, не парься. Ты у нас, наоборот, везунчик, – увещевала Маринка, ласково щурясь на собственный ноготь, по которому набухшая кисточка проводила алую черту.
– Ну да, как же. Везет как утопленнику, – пробормотал Максим Т. Ермаков, только что вылезший из душа, весь в бледных каплях и распаренных родинках. – Прям шагу ступить нельзя, чтобы не огрести счастья.
– Посмотри на вещи объективно, – рассудительно возразила Маринка, продолжая закрашивать свои крупные крепкие ногти, каждый почти с куриное яйцо. – Ты об этот столб мог убиться вообще, но только помял бампер. Бутылка с балкона летела прямо в темечко, но промазала. Пусть даже в тебя стреляли – но ведь не застрелили же, ухо вон почти зажило. Кто-то отводит от тебя беду. Моя бы бабка сказала, что у тебя ангел стоит за плечом. Даже эти придурошные во дворе: ну, кидают помидорами, так ведь опять же мимо…
– Помидорами попали, – мрачно сообщил Максим Т. Ермаков, плюхаясь в постель.
– Вот козлы косорукие! – вскинулась Маринка. – И что?
– Носил пальто в итальянскую чистку, не взяли, – неохотно ответил Максим Т. Ермаков. – Сказали, все, испорчено, пятна не отойдут. И без толку новое брать. Буду теперь ходить по Москве, будто колхозник по ферме. Вон, кожан старый вытащу, который дома на Красногорьевском брал, и пойду.
– Да уж. Как колхозники мы и дома могли ходить. Стоило ехать в Москву, чтобы здесь носить шмотки с Красногорьевского рынка, – Маринка скривила тонкий длинный рот, которому всячески пыталась придать более пухлые очертания, рисуя губным карандашом по светлому пушку так, что нередко казалось, будто у нее носом идет кровь.
Она сняла с алеющего ногтя невидимое ватное волоконце и отстранилась, любуясь красотой. В последнее время она взяла обыкновение раскладывать у Максима Т. Ермакова свое маникюрное хозяйство, состоявшее из ломаных тюбиков, крашеных ваток, похожих на елочные игрушки толстеньких бутылочек и воняющее ацетоном, как целый квартирный ремонт. Процесс были кропотлив, Маринка сушила ногти не менее часа, манипулируя маркими пальцами, будто деликатными щипчиками. Прежде она никогда не тратила на Максима Т. Ермакова больше времени, чем это было нужно для быстренького «мейк-лав» и несколько более длительного «мейк-ап», приводившего размазанное лицо в первоначальный нетронутый вид. Теперь же она будто заново осваивала Максима Т. Ермакова и все, что к нему относилось. Она разбрасывала повсюду патрончики с помадой и кружевное бельишко; пометив таким образом территорию, хозяйничала на кухне, сооружая единственное, что умела: тяжеленный борщ с мозговой костью, напоминающей целый сваренный дуб. Простейший «мейк-лав» она обогатила целым набором прихотливых приемов, чье киношное происхождение выдавал ее блестящий взгляд из-под спутанных волос в сторону предполагаемого зрителя. Она вертела загорелой пряничной попой и играла полоской трусов, будто хулиган рогаткой. Своими яркими ногтями она чесала Максима Т. Ермакова, точно любимую свинку; язык ее жегся и таял, будто бесконечный глоток коньяка. В этом новом сексе она была агрессором, а Максим Т. Ермаков – недотрогой с полыхающими нервами. Когда он, однако, был уже готов лопнуть, она оказывалась внутри неотзывчивой, будто туфля, забитая песком. Как это получалось, Максим Т. Ермаков не понимал.
– Ма-аксик! Ну Ма-аксик, не смотри на меня так! – Маринка обернулась, осторожно завинчивая валкий бутылек. – Я, что ли, тебе испортила пальто?
– Чего мяучишь, как ма-асквичка? – раздраженно отозвался Максим Т. Ермаков. – Думаешь, не слышно, как стараешься? Это они тут котики и кисоньки, а мы собаки. Г-хав! Г-хав!
– Вот гхто гхавкает, тот в палатках бананами торгует, – отрезала Маринка и, дуя на растопыренные пальцы, боком привалилась к Максиму Т. Ермакову. – А может, я твой ангел-хранитель? – кокетливо проговорила она, бодая его в плечо.
– Да уж это вряд ли, – пробормотал Максим Т. Ермаков, приобнимая Маринку под грудь. – Мои ангелы вон, в подъезде на подоконнике сидят.
– Плюнь ты на них, – горячо зашептала Маринка, поплотней притираясь к Максиму Т. Ермакову. – Плюнь и разотри! Ма-асква злая, нас не хочет. А мы еще злей! Выбрал тебя кто-то и прессует, чтобы нам было неповадно сюда приезжать. А ты оказался крутой! Круче всех мажористых мальчиков, которым только погрози, и они обделались! Вот как!
Шепот Маринки был осязаем, как густой и жаркий мех. Максим Т. Ермаков против воли широко ухмыльнулся.
– Максик, ты крепкий орешек! Как Брюс Уиллис! – поддала жару Маринка, все шибче работая бедром. – Пусть злые люди против тебя, но я-то с тобой! М-м-м… Уау! Максик! Максик, помнишь, я пришла к вам на выпускной… С этим Лешиком прыщастеньким… А ты мне тогда мороженого принес… И туфли раздавил прямо с ногами… Я тогда совсем не разозлилась, нет… Да, молнию там расстегни… Максик, я не хотела тебе раньше говорить, я же за тобой в Москву приехала… – Маринка извивалась, пачкая ногтями простыни, лицо ее пылало в паутине разметавшихся волос. – Максик, а хочешь, замуж за тебя пойду?
Вот те раз!
Провинциалы, приехавшие в Москву, не любят своих земляков. Начиная жизнь с нового столичного листа, они предпочитают чувствовать себя не детьми отстойных, использованных жизнью отцов и матерей, но порождениями поездов, дотащившихся беременными до столичных вокзалов и отложивших на перронах свои железные личинки. Никому не нужны свидетели, помнящие нынешнего крутого тусовщика на родном зажопинском дискаче, получившего локтем в нос от расплясавшейся телки, которую шел пригласить, или его же пятью годами раньше, в уродском полушерстяном костюмчике, читающего на школьном конкурсе стишки про родимый простор. Этот самый простор – бесконечные, на разные стороны расчесанные поля, миражи обогатительных комбинатов, густая медленная речка, по которой, кажется, можно писать пальцем, старая колокольня, обыкновенная, как пустая бутылка, и над всем этим какой-то страшной силы солнечный воздух, точно в нем идет электролиз, покрывающий облака ослепительным металлом, – этот пресловутый простор и правда таил в себе подспудные смыслы, но в Москве становился лишним, уцененным до нуля. Прошлые, домосковские победы здесь, в столице, оказывались позорней и обидней прошлых поражений. По этой логике Маринка, приехавшая завоевывать столицу со свеженькой победой на городском, проводимом под эгидой жизнерадостного мэра, конкурсе красоты, должна была обходить Максима Т. Ермакова за километр.
Маринка и правда представляла собой предельный образчик женского совершенства, какой только могла породить ленивая волнистая земля, так низко сидящая по отношению к небу из-за тяжести железных руд в брюхе. Элементы этой красоты, примелькавшиеся на улицах областного центра, как бы розданные всему женскому населению по справедливости, не означавшей счастья, соединились в Маринке избыточно. Из-за этого ее большие, чуть припухшие глаза и гладкие черные волосы, достигавшие сзади карманчиков тесной джинсовой юбки, казались ворованными, чужими. Маринка была панночка, панночка-ведьма. Лет, должно быть, с тринадцати, а то и раньше, она привлекала тучи особей сильного пола, от гормонально изнуренных старшеклассников до волосатых байкеров и рано пополневших, как бы обобщенных этой полнотой до одного простейшего мужского типа, представителей городского комитета по делам молодежи. Говорили, что ее отец, стокилограммовый пьянчуга с круглой красной рожей, будто только что выпеченной в глубокой сковородке, порет Маринку солдатским ремнем. Среди вившихся вокруг нее распаленных конкурентов находилось немало желающих это подтвердить. Все сходило с Маринки как с гуся вода. Она участвовала в каких-то инициативных группах молодежного развития; она танцевала в ансамбле «Зеленопольские зори», поблескивая со сцены сильно подведенными, как бы слезными глазами, поднимая матовую ножку на фоне герба области, соединявшего лебедя и стилизованный шагающий экскаватор.
На выпускной к Максиму Т. Ермакову она, наглая малолетка, явилась не просто так, а в качестве руководителя творческой студии молодежного досуга; плечистый Лешик, вовсе не прыщастенький, а, напротив, цветущий, как мак, состоял при ней секретарем. Никакого Максима Т. Ермакова Маринка не видела в упор. Она пришла не веселиться, а курировать: щурилась на выпускные напряженные пары, топтавшиеся в «медляке», будто шаткие четырехногие табуреты, и беседовала со школьным директором, смущенно кашлявшим в кулачок и, по-видимому, ощущавшим уровень ее минималистской юбки точно уровень воды, подступавшей ему под пах. Растаявшее мороженое – последнюю вазочку с опухшим содержимым – Максим Т. Ермаков понес Маринке с умыслом и туфли ей раздавил специально: эти носатые штуки, обильно украшенные бусинами и фальшивыми каменьями, тихо злили Максима Т. Ермакова, так что до невозможности хотелось наступить и хрупнуть.
Вышел скандал; Максиму Т. Ермакову, якобы напившемуся вдрызг и опозорившему школу, не хотели давать аттестата. Он не мог предположить, что впоследствии из этого случая в Маринкиной девичьей памяти возникнет целый небывший роман. Впрочем, все, что с ней тогда происходило, было материалом любовных сюжетов; все мужские особи по-разному выражали одни и те же чувства, которые Маринке, вероятно, казались еще более одинаковыми, чем они были в действительности. Ощущая в своей голове только нематериальные процессы, Максим Т. Ермаков распознавал Маринку как материальность повышенной плотности, слиток материального. Разумеется, она-то не чуяла ничего необычного в толстом выпускнике, от которого, сказать по правде, вовсе не пахло спиртным, а тянуло каким-то пресным сквозняком. Максим Т. Ермаков и сам тогда не сознавал, что уродился с аномалией в башке – Объектом Альфа, блин!
Вот кому-кому, а Маринке, первой красавице и первой суке среди юниорок родного края, не следовало перебираться в Москву. Областному геральдическому лебедю, раскинувшему над квадратным экскаватором треугольные крылья, она была прирожденная Леда. Если бы она осталась дома, то сделалась бы, пожалуй, высоким начальством и боевой подругой губернатора – широкого телом и душой усатого батьки, весьма поощрявшего талантливую молодежь. Все испортил конкурс красоты, на котором Маринка, дефилируя в тугом купальнике, сразила строгое жюри линией бедра, распространявшего при каждом шаге ударную волну. Победа и увенчание диадемой из стразов Сваровски сильно подняли Маринкину цену. Она захотела эту цену получить.
Кажется, она перевелась из местного экономического вуза в столичный или что-то в этом роде. К Максиму Т. Ермакову она явилась, чтобы перехватить немного денег, – и сразу, с красногорьевской рачительностью, отработала долг на осыпавшемся бумагами и бешено колотившем ящиками офисном столе. С тех пор Максим Т. Ермаков стал для Маринки запасным кошельком и по совместительству приятелем, с которым она обсуждала козни Москвы.
– Ты не представляешь, сколько здесь блядей, – жаловалась она, выйдя из очередного приключения сильно зареванной и сильно напудренной. – Из-за них у богатых мужиков не осталось ничего человеческого. Зачем такому мужику отношения с девушкой? Ему стоит пальцем поманить, и он получает любой секс, какой захочет. И по его масштабам за сущие копейки. Ему же негде кофе выпить, чтобы там не сидели три-четыре девки в блядских ботфортах. Бляди – они как вирус. Ломают у мужиков нормальную программу. Вот говорят: мол, с Украины, с Молдовы понаехало шлюх. Но если хочешь знать, москвички хуже приезжих. Такое из себя воротят! А как врут! Считают, что им по определению больше надо и больше полагается. Тогда чего дают себя снимать за двести баксов? На карманные расходы? Папа с мамой мало денюжек дают? Сидели бы, твари, по своим квартирам…
На это Максим Т. Ермаков только пожимал плечами. Цена в двести баксов его вполне устраивала. В то же время он, на свой отстраненный манер, сочувствовал Маринке. Маринка и правда очень старалась. Из своей бурливой речи она, как могла, вытравливала южнорусское гхеканье и усердно подражала кошачьим ма-асковским гласным – правда, у нее получалось скорее не мяукать, а квакать. Она приоделась на сейлах, сменила глупое золото на стильную бижутерию и уже не выделялась на гламурных корпоративках и закрытых вечеринках, куда правдами и неправдами умудрялась проникать. Иногда ей как будто даже везло. Она была замечена под руку с крупным ресторатором Мамедовым, большим и влажным мужчиной, проступавшим сквозь рубашки тонкого полотна, как проступает селедка сквозь слои оберточных газет. Видели ее и в обществе покрытого шрамами и крепкого, как футбольный мяч, генерала Ярцева, лично корпевшего над книгой мемуаров, подозревая всех помощников в искажении смысла и поражаясь тараканьей увертливости обыкновенных русских слов. Ради этой книги якобы и была приглашена Маринка, всегда сдававшая школьные сочинения самой первой – и всегда с недовложением запятых. От генерала Ярцева она перешла к издателю Полянскому, некоторое время возившему ее на международные книжные ярмарки и даже купившему норковую шубу – во Франкфурте, в турецкой лавке на задах бангхофа, напоминавшей не магазин мехов, а полный пуха и пера полутемный курятник.
Шуба, впрочем, шла Маринке необыкновенно. Ей бы пришлась к лицу и небольшая дамская квартирка с огромной шелковой кроватью, и яркая малолитражка, похожая на очень дорогую детскую игрушку. Но до квартиры и машины дело никак не доходило: покровители внезапно улетали в командировки, сунув Маринке тощий конвертик «на первое время». Это проклятое первое время никак не кончалось. Маринка зависла в безвременье, где были невкусны солоноватые толстые устрицы и пресная зимняя клубника, были неинтересны проходившие перед нею, будто череда открыток, красоты европейских столиц. Маринка страдала по-настоящему, выла и материлась в остывающей ванне, источая теплые слезы в ноздреватую пену, осевшую пеплом, но не было инстанции, которой она могла бы эти страдания предъявить. Мужчины, которыми она хотела завладеть, не столько ворочали делами, сколько ворочались в делах; эти серьезные дела забивали им мозги и даже кровеносные сосуды, потому они физически не могли еще и Маринку принимать всерьез.
– Ладно-ладно, какие наши годы, – подбадривала себя Маринка, скалясь в раскрытую пудреницу. – Знаешь, Максик, чего хочу? Замуж хочу за старика. Какого-нибудь народного артиста СССР. С дачей огромной, заплесневелой, с квартирой на Кутузовском, набитой барахлом. Чтобы лет пять ему отслужить – и, пожалуйста, богатая московская вдова!
– За старика-то зачем? – удивлялся Максим Т. Ермаков. – Что, у молодых денег нет? Старику тебя не протрахать, ответственно говорю.
– Максик, не тупи, – отвечала Маринка, перейдя на деловитый тон. – Московской вдове и цена другая. Будет так, как если бы я не приехала в столицу из Зажопинска, а всегда здесь жила. Возьму его фамилию, на которую туса реагирует респектом. Правильно овдоветь, Максик, – это как заново родиться. В хорошей московской семье, а не у моих придурошных родаков, которым не хватило ума даже квартиру выбить от завода. Ты не морщись, пойми: мы родились и живем, а на нас не накрывали. Не будет греха помочь себе немножко. Я ведь хочу по-честному. Пока мой народный артист скрипит помаленьку, буду любить его, как родного отца. После моего говнистого папки это будет, сам понимаешь, несложно…
Максим Т. Ермаков не хотел расстраивать Маринку, только в осуществимость ее матримониальных планов верилось с трудом. В Москве Маринка сделала успехи, почти содрала с себя провинциальную корку вместе с линючим красногорьевским тряпьем, но столица тем временем успела ее растереть. Изучая длинное, слегка раздавшееся в кости Маринкино тело, Максим Т. Ермаков больше не чувствовал в ней слитка материальности – того золотого слитка, что распознавался дома как особая ценность и особая судьба. Москва – громадная масса камня, бетона, металла, заливаемая миллионными и миллионными человеческими толпами, – отняла у Маринки ее материальную автономность, сделала своей почти несуществующей частицей. Московская земля оказалась тяжела для панночки-ведьмы; она уже не летала, распустив по ветру черные волосья, а грузно царапала асфальт покореженными шпильками; всякий раз, когда Максим Т. Ермаков ходил с Маринкой под руку, он оставался с измятым рукавом. В Москве большие Маринкины глаза, зеленоватые в крапинку, стали похожи на препараты под микроскопом, на меланхоличное и бессмысленное подрагивание клеток в водянистой среде. Казалось, будто слезы, испускаемые этими круглыми источниками, кишат вирусами, хотя это были самые обыкновенные соленые капли.
– Максик, ну скажи, что со мной не так? – всхлипывала Маринка, потеряв присутствие духа после самоотверженного секса.
– Дура, не реви, – грубо отвечал Максим Т. Ермаков. – Все дело в том, что в Москве до хренища блядей.
Помочь Маринке могло, пожалуй, только чудо, какое-то совершенно необычное стечение обстоятельств. Офонаревший от ее предложения и позволивший себя растерзать на бившейся в стенку кровати, Максим Т. Ермаков заподозрил, что такие обстоятельства имеют место быть.
Планы социальных прогнозистов, у которых явно было не все в порядке с их собственными набрякшими головами, делали Максима Т. Ермакова идеальным стариком. Судя по тому, что застрелиться надо было уже вчера, Объекту Альфа стукнуло, по матримониальному счету, лет девяносто. И десять миллионов долларов – не слабое наследство! Только откуда Маринка узнала? Неужели с ней провели тихую кагэбэшную беседу в темной конспиративной квартирке, заодно проверив на буром диванчике советского производства ее квалификацию? Непохоже. Глупо. Не возникает никаких дополнительных мотиваций для Объекта Альфа пустить себе пулю в башку. Маринкино поведение логично только как собственная ее авантюра, попытка оторвать крупный кусок. Наивные люди, думал Максим Т. Ермаков. Строят планы так, будто у него, главного как-никак фигуранта в игре, нет никаких собственных интересов. Будто он только и мечтает, как бы их всех не подвести. Однако где же Маринка схватила информацию? Они что, объявления в газеты дают? Мол, такой-то и такой-то, имя-фамилия-адрес, является недопустимой погрешностью в причинно-следственных цепях, из-за него, дорогие граждане, все ваши бутерброды падают маслом вниз, но в случае его добровольного самоустранения близкие получат от доброго государства десять лимонов грина.
Абсурдно. И тем не менее уже не все проявления народного протеста против существования Максима Т. Ермакова объяснялись наймом и инструктажем. В одно прекрасное утро, чапая по ледянистой слякоти от парковки до офисного крыльца, Максим Т. Ермаков увидел пикет. «ЖЕРТВЫ “ЕВРОПЫ”» – гласил самодельный ватмановский плакат, гремевший на ветру, как кровельная жесть. Сердце у Максима Т. Ермакова екнуло и провалилось в желудок. Человек пятьдесят стояло перед крыльцом неровной цепью, и хотя все они были одеты в приличное штатское, почему-то казалось, будто это отряд, потерявший две трети своих. Почему-то мерещилось, что стоявших должно было быть гораздо больше. Отсутствующие обозначали себя белесой пустотой за спинами пикетчиков – и они же, очевидно, были на фотографиях, отчеркнутых с углов траурными лентами. Каждый пикетчик держал по такому обрамленному снимку, на котором таяли, просияв напоследок, сырые снежные хлопья. Максим Т. Ермаков, на всякий случай поставив торчком жесткий кожаный воротник, вгляделся в потерпевших. «Артисты? – подумал он. – Нет, не артисты».
Невозможно было сыграть или подделать свежее горе, уже присыпанное равнодушием жизни. Немолодая исплаканная пара вместе держала портрет густобрового парня в десантном берете, работавшего, вероятно, охранником в «Европе». Стриженая старуха в мужской каракулевой шапке пирожком выставляла перед собой чью-то фотографическую улыбку, неуловимую, как солнечный зайчик; на нижней крапчатой старухиной губе висела потухшая папироса. Старикам Максим Т. Ермаков не верил, зная, что нанять их проще простого и немощи их – политические пятаки – продаются недорого. Точно так же он не верил студентам и прочим молодым балбесам, сшибающим в политических массовках на пиво и чипсы. Но большинство демонстрантов были в возрасте, когда и помимо пикетов есть чем заняться в жизни. Максим Т. Ермаков обратил внимание на высокую властную женщину, стоявшую, видимо, по привычке, впереди остальных. Несмотря на печать высокомерия, на что-то тигриное в складках тяжелого лица, женщина дрожала в тоненькой щипаной норке, и глаза ее были пусты, будто пересохшие чернильницы. Она же первая заметила Максима Т. Ермакова и замахала рукой в красной перчатке. По цепи пикета прошло движение, будто среди пассажиров в дернувшейся электричке.
– Трус! Вон, вон, побежал! – закричала женщина мокрым сорванным голосом, что-то выкапывая у себя из глубокого кармана.
– Стой! Стоять! Подлец! Предатель! Чтоб ты сдох! – эхом пронеслось по пикету, и демонстранты, кое-как придерживая траурные снимки, принялись выхватывать стволы.
Максим Т. Ермаков не сразу понял, что направленное на него оружие – игрушечное. Был момент, когда он замер, стремительно сжимаясь до какой-то бездонной внутренней точки, тупо глядя на вперенные в него пустые черные дырки. Тут же все это пластмассовое полое вооружение затрещало, защелкало, едко запахло пистонной гарью, брызнули тусклые струйки из ядовито-зеленых водяных пистолетов. Стриженая старуха размахивала мумифицированной штуковиной, похожей, если присмотреться, на самый настоящий революционный маузер. Красная перчатка судорожно тискала нечто дорогое и вороненое, точно это был камень, из которого она пыталась выжать воду. Максим Т. Ермаков, весь взмокший под глухим кожаном, сердито топнул и ввалился в офисную дверь.
Ни к вечеру, ни на другое утро пикет не исчез. Правда, он несколько сменил состав. Наиболее вменяемых жизнь призвала заниматься делами (властную женщину в щипаной норке Максим Т. Ермаков не увидел больше ни разу); зато другие укрепились и стояли с безучастными улыбками, точно ждали в зале прилета какой-то потусторонний рейс с дорогими людьми на борту. К жертвам «Европы» присоединились жертвы пожара в Красноярске, теракта в Краснодаре, взрыва газопроводных труб в непроизносимом поселке под Уфой. Сплоченные группы активистов представляли две большие авиакатастрофы и не то пять, не то шесть крушений пассажирских составов; крушения следовали одно за другим безо всякой видимой причины, точно саму железную дорогу заедало, как застежку-молнию, на перегонах от Владивостока до Петербурга.