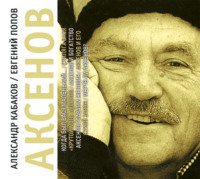Полная версия
Ресторан «Березка» (сборник)
Руся содрогнулась. Владимир Лукич остановился.
– И что же теперь? Каковы его планы? – спросила Руся.
– Не знаю, – пожал плечами Владимир Лукич. – Он ведь ужасный молчальник. Он намерен здесь еще более образоваться, сблизиться с русской колонией, а потом, когда напишет ряд важных трудов...
– Что же тогда? – перебила его Руся.
– Что бог даст! Мудрено вперед загадывать...
В это мгновение в комнату вошла Анна Романовна, и разговор сам собою прекратился.
Странные ощущения волновали Владимира Лукича, когда он возвращался домой в этот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Русю с Инсанахоровым, рассказ о котором, очевидно, произвел на нее самое глубокое впечатление, но... какое-то тайное и темное чувство скрытно гнездилось в его сердце; он грустил нехорошей грустью. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за «Происхождение партократии» и начать читать эту книгу с той самой страницы, на которой он остановился накануне.
XI
Два дня спустя Инсанахоров, по обещанию, явился к Владимиру Лукичу со своей поклажей, состоявшей из пишущей машинки «Эрика», бравшей четыре копии, транзисторного приемника «Сони» и нескольких пачек чистой бумаги. Устроившись, он со свойственной ему молчаливостью попросил Владимира Лукича получить с него десять рублей вперед, взял приемник и куда-то ушел. Он вернулся часа через три, Владимир Лукич за это время сбегал в магазин «Кайзер», купил ветчины, свиных отбивных, салями, пива, рейнского вина и ананасов. Но Инсанахоров, к его удивлению, осмотрел пиршественный стол критическим взглядом и попросил Владимира Лукича вернуть ему задаток обратно.
Объяснив, что так кушать ему не по средствам и что он предпочитает питаться гнилыми бананами, которые он покупает в экономически выгодном магазине «Норма», запивая их холодной водой из-под крана, куда он бросает в стакан специальную таблетку, чтобы от водопроводной воды не заболел желудок.
– Помилуйте, что за вздор. Ведь я это так, по-товарищески, для первого раза, как говорится, – покраснел Владимир Лукич.
– Еще раз повторяю, мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете, – со спокойной улыбкой отвечал Инсанахоров. – Может быть, гнилые бананы – это действительно вздор, но я не могу себе позволить обжираться, когда весь народ в СССР голодает под игом коммунистов и вместо рейнского пьет портвейны «Кавказ» и «Солнцедар», дающие жуткую кривую смертности, о чем недавно рассказывали по «Би-би-си».
В этой улыбке было что-то такое, что не позволило Владимиру Лукичу настаивать.
Они отобедали каждый порознь, и Владимир Лукич предполагал, что сейчас они направятся к Русе, но Инсанахоров ответил, что весь вечер собирается писать письма русским диссидентам, крымским татарам, забастовщикам Кузбасса, демонстрантам на Манежной площади и советскому правительству, чтобы оно наконец одумалось и в стране наступила свобода.
– Нужно научиться у немцев хотя бы их аккуратности, если мы волею судеб здесь, – с коротким смешком добавил он.
На второй день после своего переселения Инсанахоров встал в четыре часа утра, обегал почти весь Фелдафинг, искупался в озере, выпил стакан воды и принялся за работу; а работы у него было немало: он учился и русской истории, и праву, и политической экономии, записывал русские песни и летописи, собирал материалы о нарушениях прав человека в Восточной Европе, составлял русскую грамматику для советских, советскую для русских. Владимир Лукич зашел к нему потолковать о Марксе. Инсанахоров слушал его вежливо, но было видно, что Маркс его мало интересует. Заговорили о России, о том, как бы сделать так, чтобы она снова расцвела, и лицо Инсанахорова разгорелось, голос возвысился, все существо его как будто окрепло и устремилось вперед. Он говорил, говорил и говорил.
Но не успел он умолкнуть, как дверь растворилась, и на пороге появился Михаил Сидорыч.
– Хочу с вами познакомиться, – начал он без церемоний и даже наоборот – со светлым и открытым выражением лица. – Меня зовут Михаилом, по батюшке – Сидорычем, а вы ведь господин Инсанахоров, не так ли?
– Совершенно верно. Я – Инсанахоров. Моя голова к вашим услугам.
– Что же мы делаем сегодня, а? – заговорил Михаил Сидорыч, внезапно садясь на пол в своих джинсовых шортах, обнаживших его толстые, мясистые ляжки. – Владимир Лукич, есть ли у вас, товарищ, какой-либо конкретный план на нынешний день? Погода славная, сеном пахнет, как... как в Московской губернии. А может, пойдем в этот немецкий биргартен, что около вокзала, тяпнем по парочке пивка, а?
Владимир Лукич испугался, что Инсанахоров сейчас же начнет ругаться или важничать, но тот, вопреки его ожиданиям, вдруг весело сказал:
– Что ж, делу время, потехе час, как говорят у нас в России.
Вскоре приятели уже сидели под развесистой липой и потягивали из толстых стеклянных кружек светлое немецкое пивко. Говорили буквально обо всем: о русских, немцах, французах, англичанах, финнах, американцах, спели несколько русских народных песен антисоветского и идейно ущербного содержания.
– Да, люблю жизнь! – воскликнул Михаил Сидорыч, когда веселие начало мало-помалу иссякать. – Жизнь широка, как Волга, впадающая в Азовское море.
– В Каспийское, – мягко поправил его Инсанахоров.
– В самом деле? Я страшно смущен! Забыть конечный пункт прибытия важнейшей русской артерии – позор! – зачастил Михаил Сидорыч, но всем было понятно, что этими своими внешне нелепыми словами он как бы экзаменует Инсанахорова, как будто бы даже щупает его, как курицу, – есть ли у той яйцо, отчего и волнуется внутренне, особенно тогда, когда видит: Инсанахоров точно и дельно отвечает на его многочисленные каверзные вопросы, оставаясь по-прежнему спокойным и ясным, несмотря на изрядное количество выпитого пива, за которое заплатил Михаил Сидорыч, как ни настаивал Инсанахоров на том, чтобы счет им подали отдельно.
– Славно провели время, – сказал Михаил Сидорыч, икнув. – Давайте теперь и дальше не расставаться. Айда-ка все к Романовичам. Вы оба спешите к ним медленно, а я поспешу быстро, побегу петушком, чтобы наперед известить их о вашем приходе.
Что-то неуловимо злобное мелькнуло при этих словах в выражении его лица, но ни Владимир Лукич, ни Инсанахоров не заметили этого.
XII
– Диссиденец господин Инсанахоров, борец за права человека, щас сюда пожалуют! – торжественно воскликнул он входя в гостиную, где уже сидели Сарра и Руся, а Анны Романовны там не было, а Николая Романовича и тем более.
– Кто? – невнимательно спросила Сарра, увлеченная игрой в карты, а Руся выпрямилась и ничего не сказала, тоже играя в карты.
– Вы что, оглохли, что ли, так я вам щас ушки прочищу! – рассердился Михаил Сидорыч.
– Мы не оглохли, а вы – дурак, если так говорите о заслуженном человеке, которого мы еще не знаем, – с достоинством осадила его Руся.
Михаил Сидорыч стушевался.
– А какой национальности господин Инсанахоров? – вдруг спросила Сарра.
– Он – корейский еврей из Сибири, продавшийся американскому шаху-монаху, – с досадой ответил Михаил Сидорыч.
– Вы опять за свой антисемитизм, последнее убежище негодяев! – вспыхнула Сарра и развернулась, собираясь ударить Михаила Сидорыча по лицу, но тут раскрылась дверь, и в комнату вошли желанные гости, ведомые Анной Романовной, которую они встретили по дороге и уже успели выпить с ней немного холодного рейнского вина. Мелькнула в дверях также и отвратительная физиономия покачивающегося Евгения Анатольевича с выпученными маленькими глазками на багровом лице, но он тут же куда-то исчез, очевидно, завалился храпеть, по своему обыкновению, или сел писать какой-нибудь вздор.
– Сарра! Руся! Сыграйте вы, русская и еврейка, символически представляющие две основные нации нашей многонациональной родины, песню «Будь проклята ты, Колыма» для нашего уважаемого гостя, – приказала Анна Романовна.
– Но, маменька, ведь вы еще совсем недавно считали эту песню неприличной? – не удержалась Руся.
– Играй, дочь моя, и пой! – торжественно повторила Анна Романовна, приложив к глазам кружевной платочек. – Новое время – новые песни. Господин Инсанахоров объяснил мне, что скоро в СССР наступят большие перемены, а потом их будет еще больше.
И зазвучала музыка, и полилась песня. К дуэту, исполняемому двумя ломкими девичьими голосами, вскоре присоединились все остальные присутствующие, включая прислугу, но исключая Николая Романовича, который так и не появился.
Попели. Покушали. Стемнело. Гости направились домой.
– Как вам понравились наши новые знакомые? – робко спросил Владимир Лукич у Инсанахорова.
– Они мне очень понравились, эти хорошие русские люди, – отвечал Инсанахоров. – Особенно Сарра, а еще больше – Руся. Руся – славная, должно быть, девушка. Она волнуется, но в ней это хорошее волнение.
– Надо будет к ним ходить почаще, – заметил Владимир Лукич.
– Да, надо, – проговорил Инсанахоров и ничего больше не сказал до самого дома. Он тотчас же заперся в своей комнате, где принялся стучать на машинке и слушать «Голос Америки» до самого утра.
А Владимир Лукич не успел еще прочесть страницу из Авторханова, как в окно ударил сильно камень, чуть было не разбив его. Владимир Лукич высунулся и увидел Михаила Сидорыча, который с трудом держался на ногах и порывался заплакать.
– А ваш Инсанахоров никому не понравился, особенно Русе, потому что он все время молчал. Обосрался ваш Инсанахоров! – тоном торжествующего хама заявил он.
– А вот и врешь, брат! – понял его состояние Владимир Лукич. – Ты его, очевидно, просто-напросто ревнуешь. И зря. Ему до мелочей жизни нет никакого дела: слышишь, как торжественно стучит в ночи его пишущая машинка, возвещая новые идеи для человечества.
– А вот я тогда возьму да и утоплюсь в Штарнбергском озере, – проговорил сквозь рыдания Михаил Сидорыч.
– Нет, брат, стара штука, ты мне это уже много раз обещал, но пока еще ни разу не исполнил, – сухо ответил Владимир Лукич и затворил окошко.
Михаил Сидорыч куда-то побежал. В томительном ночном воздухе слышалось мелодическое пение лирической песни «Лили Марлен», которую почти профессионально исполнял какой-то невидимый в темноте немецкий юноша. Вскоре к этому чудному пению присоединился и голос Михаила Сидорыча.
XIII
В течение первой недели после переселения в Фелдафинг Инсанахоров не более четырех или пяти раз посетил жилище Анны Романовны. Зато Владимир Лукич, можно сказать, не вылезал из этого дома. Руся всегда ему была рада, всегда завязывалась между ним и ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвращался домой часто с печальным лицом. Михаил Сидорыч почти не показывался; он с лихорадочной деятельностью занялся неизвестно чем: либо сидел взаперти у себя в комнате, сочиняя на пишущей машинке труд «Об инакомышлении», либо проводил дни и ночи в Мюнхене, где у него вдруг объявилось много знакомых и даже почитателей из разных слоев общества.
Русе ни разу не удалось поговорить с Инсанахоровым так, как ей хотелось; в его отсутствие она готовилась расспросить его о многом, но, когда он приходил, ей становилось совестно своих приготовлений. Вместе с тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы незначительны ни были сказанные между ними слова, он привлекал ее все более и более, но ведь всем известно: чтобы сблизиться с человеком, нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз и выпить. Зато она много говорила о нем с Владимиром Лукичом. Владимир Лукич понимал, что воображение Руси поражено Инсанахоровым, и радовался, что его приятель не «обосрался», как утверждал Михаил Сидорыч; он живо, до малейших подробностей рассказывал ей все, что знал о нем, и лишь изредка, когда бледные щеки Руси слегка краснели, а глаза расширялись, неприятно скалился, обнажая свои упомянутые желтые клыки.
Однажды он пришел к Русе рано, часов в семь утра. Руся вышла к нему в залу, потому что не спала всю ночь.
– Вообразите, – начал он с нехорошей улыбкой, – наш Инсанахоров пропал!
– Как пропал? – проговорила Руся, опускаясь на стул.
– Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и до сих пор его нету.
– Может, он в Москву отправился, – промолвила Руся, стараясь казаться равнодушной и сама удивляясь тому, что старается казаться равнодушной.
– Не думаю, – возразил Владимир Лукич. – Скорее уж его кто-нибудь убил. Он ведь ушел не один. К нему третьего дня явились какие-то братья, по виду разбойники, но с разными фамилиями, я случайно запомнил – Попов, Ерофеев, Пригов. Русские. И скорее всего, из СССР.
– А почему же вы думаете, что они из СССР?
– Да потому что они матерились, прости господи, как свиньи. Слова без мата не скажут. Представьте: вошли к нему – и ну кричать и спорить, да так дико, злобно... И он кричал, и он матерился.
– И он?
– И он. Страшно матерился. Они как будто жаловались друг на друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей! Лица тупые, красные, озверевшие от водки, лет каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду – хиппи не хиппи и одновременно – не «товарищи». Бог знает, что за люди?
– И он с ними отправился?
– Именно, что – да. Напоил советских водкой да ушел с ними. Вы бы видели, как эти три господина выпили единым махом полуторалитровую бутыль водки «Смирнофф». Так вперегонку и глотали, словно волки.
Руся слабо усмехнулась.
– Вот помяните мое слово, все это объяснится какой-нибудь прозаической пакостью. Фи! Какая гадость, ханку жрать с утра да на халяву! – пожала она плечами.
– Так ведь и Ленин за минуту до Октябрьской революции приняли с Троцким на грудь по стакану коньяка «Мартель», а Сталину не налили. У меня о том есть достоверные сведения, – подмигнул ей Владимир Лукич.
– Так ведь это все-таки была революция, те десять дней, которые потрясли весь мир, хоть и принесли гекатомбы беды для нашего народа, – отпарировала Руся и тихо добавила: – Революция, а не пьянство и половая распущенность.
Их разговор и оборвался на этой фразе, потому что сверху послышались вопли: то проснулась Анна Романовна и сразу же принялась ругать за что-то Сарру.
– И все-таки дайте мне знать, когда этот херр вернется, – тихо сказала Руся, провожая печального Владимира Лукича.
Владимир Лукич ушел не обернувшись.
В тот же день вечером Русе принесли от него записку. «Херр Инсанахоров вернулся, очень мучается с похмелья. Но зачем и куда ездил, не говорит. Может, у вас заговорит?»
Руся прошептала что-то неразборчивое, обнажила левую грудь, подняла правую руку и подошла к зеркалу.
XIV
На следующий день, часу во втором, Руся все еще стояла у зеркала в той же позе, но вдруг чуть не вскрикнула, увидев в зеркало, что прямо к ней по аллее шагает Инсанахоров, один. Она живо спрятала грудь на место и сделала вид, будто читает книгу Солженицына «Наши плюралисты».
– Здравствуйте, – промолвил он, и она заметила, что он, точно, сильно опух в последние три дня. – Владимир Лукич уже, конечно, донес вам, что я ушел с какими-то... безобразными людьми, – проговорил он, продолжая улыбаться.
Руся немного смутилась, но тотчас почувствовала, что такому человеку, как Инсанахоров, надо всегда говорить правду.
– Да, – сказала она решительно, – но я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.
– Ну и спасибо вам за это. Видите ли, Руся Николаевна, – начал он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней, – наших здесь небольшая семейка, есть между ними люди грубые, пьяные, но все крепко преданы общему делу. К несчастью, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и позвали меня писатели «новой волны» из СССР, Попов, Ерофеев да Пригов, – разобрать, кто из них лучше пишет.
– А вы?
– А я сказал: это все пустое, потому что никто из вас совершенно не нужен народу с вашими формалистическими выкрутасами и цинизмом. Они не поверили. Пришлось ехать в Мюнхен, разобраться, позвали Сережу Юрьенена с радио «Свобода», Володю Войновича, Борю Хазанова, Марию Титце, Игоря и Ренату Смирновых, достигли все вместе, как говорят теперь уних, – консенсуса. Попов, Ерофеев да Пригов убрались обратно в свою Совдепию, весьма довольные тем, что попьянствовали да похулиганили.
– Зачем же вы тратите свое драгоценное время на таких ничтожных людей? – дрожа ноздрями, спросила Руся.
– Так ведь они – тоже русские, хоть и свиньи, – отозвался Инсанахоров.
– Ой ли, русские? – не удержалась Руся.
– К сожалению, русские, Руся Николаевна, – твердо ответил Инсанахоров. – Русские лишние люди. А что я время потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.
– Кому же?
– А всем, кому в нас нужда. Ведь мы накануне громадных перемен, Руся Николаевна, – подчеркнул Инсанахоров.
– Господин Инсанахоров, а знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны? Позвольте же и мне быть откровенной с вами. Можно?
– Валяйте, попробуйте, – засмеялся Инсанахоров.
– Мне Владимир Лукич много рассказывал о вашей жизни, об изобретенной вами мине, о вашей Нобелевской премии. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство... Ваших родителей, артистов, запустили в космос... Скажите, встретились ли вы стем человеком?
Дыхание захватило у Руси. Ей стало и стыдно, и страшно своей смелости. Инсанахоров глядел на нее пристально, прищурившись, как Владимир Лукич.
– Я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я, к сожалению, не встретился с ним, отчего и нет мне в жизни покоя, как Вечному жиду. Дело в том, что Хрущев, конечно же, расстрелял не самого Берию, но его двойника, другой его двойник скрылся в Аргентине. Я выследил настоящего Берию. Он жил в Дмитрове под Москвой, в поселке шлаконасыпных домов фрезерного завода, для отвода глаз служил в Управлении реализации Художественного фонда РСФСР, пьянствовал с известным поэтом Александром Клещевым. Я выследил его. Но я... я опоздал... В его доме не было даже минимальных удобств, он наполнил жестяную ванну холодной водой, залез в нее, включил электрокипятильник, потерял сознание и сварился заживо. Соседи обнаружили его через несколько дней, привлеченные перманентным запахом свежего бульона из его квартиры. Его мясо уже отстало от костей, они выключили кипятильник, следственные органы прибыли с опозданием, и в это время из Берии в ванне уже сделался холодец, отчего его личность, естественно, опять не была опознана.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Шутках (англ.).
2
Прощайте!.. (исп.).
3
До свидания (нем.).