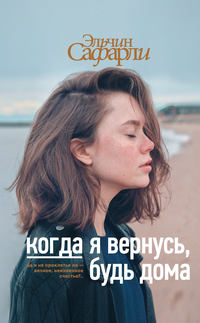Полная версия
Расскажи мне о море

Эльчин Сафарли
Расскажи мне о море
Роман
© Сафарли Э., 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
Маме Сарие, открывшей мне красоту земли Абшерона
С благодарностью Рауфу Бабаеву, Ольге Фурсовой и Эльвире Сафаровой – вы вдохновение и поддержка
Если бы я был моралистом и писал книгу, то из сотни страниц девяносто девять оставил бы чистыми. На последней бы написал: «Я знаю только один долг – любить».
Альбер КамюЕсли любовь ведет вас, следуйте за ней, хотя дороги ее трудны и тернисты. Если она осенит вас своими крылами, прислушайтесь к ней, даже если вас ранил меч, скрытый в ее оперении.
Джебран Халиль ДжебранОднажды я получил письмо от читательницы. Она писала: «В ваших текстах о детстве все слишком идеально. Мир утопает в добре, родители чуткие и отзывчивые, ошибок в воспитании не допускают. Да и герои сдержанны, одухотворены, наделены вселенской мудростью… Так не бывает!» На этой строчке я отложил письмо и вслух – то ли себе, то ли читательнице – ответил: «В детстве бывает».
Детство – волшебное время, когда все не то чтобы в идеале, а в свете. Какую бы картинку ни увидел, – пусть жесткую, страшную, – дорисовываешь ее воображением, поправляешь. Будучи ребенком, обладаешь даром обращения всего на свете. «Не плачь, кусочки разбитой фарфоровой игрушки непременно воссоединятся!»
В моем детстве были и бедность, и насмешки, и крики взрослых, и унижения, и встречи со смертью – как у многих. Бесценная кисть детского мироощущения привносила красоту в тогдашние события: человечность в бесчеловечные обстоятельства, изящество в уродство, божественное в земное.
Во взрослой жизни взгляд стал другим. Теперь, отправляясь в воспоминания детства, записывая их, я вновь могу ощутить дуновение того дара, делающего все поправимым, чуточку идеальным.
Детство – источник чистейшей воды. Обращаясь к нему, мы можем утолить жажду, смыть слезы, запить ком горечи и снова вернуться в настоящее, от которого возможно спрятаться лишь на время и только в детстве.
Говорят, писатель на протяжении жизни пишет, переписывает всего одну книгу. Кто-то в «Расскажи мне о море» почувствует продолжение предыдущих моих историй. Но я лишь говорю о том, что считаю важным, продолжая писать свою единственную книгу.
1
Тянись к солнцу, как бы долго ни лили дожди
Первого снега на Абшероне приходилось ждать долго. О своем приближении он напоминал с ноября: ледяными порывами хазри, бледно-изумрудными волнами Каспия, сыреющими северными углами домов, обострением гайморита у местных жителей, темнеющим мхом на стенах колодцев и участившимися перебоями в подаче электричества, – но сам не спешил появляться. Точную дату не могла спрогнозировать ни одна метеослужба.
«Как снег на голову» – это про абшеронский снег. «Появляется и вовремя, и некстати», – говорила бабушка Сона, заваривая чай из карликовых желтых роз, кожуры айвы и липового меда. Перед тем как засыпать составляющие в керамический чайник, обдавала последний кипятком, иначе напиток свернется.
Когда выпадал снег, Сона готовила плов с поджаркой из мяса, лука, куркумы, каштанов и сушеных фруктов. Помимо слив и изюма, добавляла королеву абшеронских сухофруктов – курагу. Летом ее сушили, собирали в мешочки и отправляли на хранение в погреб, подвесив на крючки к потолку.
Плов с солнечными сухофруктами в честь первого снега – маленькая традиция нашей большой семьи. Стоило белым хлопьям замелькать за окном, как бабушка кричала мне: «Фи-и-ини-и-ик, бегом в погреб за Цветами и Солнцем! Я пока рис замочу, шафран заварю».
Я спешил вниз, доставал расписанный яркими цветочными узорами металлический поднос и снимал с крючка пахнущий летом мешочек с курагой. Сона называла поднос Цветами, а курагу Солнцем. Тем, чего не хватало черно-белой зиме.
Бабушка протирает поднос, и к цветам возвращается буйство красок – самые разные оттенки. Я рассматриваю роспись, выбирая взглядом светлые – бледно-оранжевые, сиреневые и нежно-зеленые. Темные – глубокие фиолетовые, синие и бордовые – недолюбливал, они пугали.
Сона высыпает курагу на поднос, сосредоточенно ее перебирает, освобождая от увядших листьев, обрывок веток, высохших пчелиных телец. На первый взгляд плоды абрикосового дерева одинаковые, но стоило присмотреться, и открывалась индивидуальность каждого. Различия проявлялись в форме, прожилках на кожуре, сочности мякоти, во вкусе. Было у них и общее – наполненность щедрым солнечным светом.
Сона протягивает мне ягодку. Маленькую, кривую, сморщенную, в пятнах – самую некрасивую. «Не обманывайся внешним видом. Попробуй и увидишь – она самая сладкая».
Бабушка часто оказывалась права.
«Жизнь и люди – большой сад цветов. У каждого свои цвет, запах, место, история. Но абсолютно все они любимы солнцем. Тянись к солнцу, Финик, жди его, как бы долго ни лили дожди».
2
Тишина – самое ценное, что у тебя есть
Детство – легкое, красочное и отнюдь не мимолетное, как принято считать, время жизни. Оно вечное, остается в человеке до последнего вздоха.
В детстве за любым углом новое, интересное, неизведанное, в каждом дне десятки открытий. Каждое впечатление остается и внутри, и снаружи – навсегда, как шрам на коленке от падения в школьном дворе. Может, все это запоминается так остро из-за того, что впервые?…
Моя картинка о детстве – абшеронский берег, пустой, осенний (песок уже коричневого цвета и отчетливо сохраняет следы), с заколоченными несезоном кафешками, одинокими зонтиками-грибами. Дует ветер. Соленый и эмоциональный, но учтивый.
Мама держит меня за руку, стоим на берегу, смотрим вдаль. Мне пять лет, одет в куртку отца, синюю, на несколько размеров больше – спадает с плеч. Ветер перебирает каштановую густоту маминых волос. Рука у нее смуглая, с просвечивающими сквозь тонкую кожу синеватыми венами, ногти с вишневым лаком.
Не говорим. Под (не помню каким) забавным предлогом мы сбежали от всех, в свою тишину. Она у нас была одна на двоих. А может, мы просто одинаково ее ощущаем?…
Мама достает из кармана желтое яблоко и, опустившись на колени, протягивает мне. «Тишина – самое ценное, что у тебя есть, Финик».
Спустя время возвращались домой, где звучали родные голоса, пахло чаем из самовара. На кухне бабушка смазывала маслом горячие кутабы с тыквенной начинкой, а во дворе на ветру скрипела железная беседка-кюлефиренги.
3
Удел бессильных – объявлять войну тем, кто слабее
Хурму на абшеронских рынках продают с середины октября. Неспелую, не сочно-оранжевую, еще бледноватую, но все равно сладкую, долгожданную. Местные знают, что хурма по-настоящему зреет только в объятиях первых морозов. Уходит вязкость, и мякоть, вываливаясь сквозь трещины тонкой пленки-кожуры, – почти мед. К началу зимы дерево теряет листья, и с голых ветвей елочными игрушками свисают оранжевые шары.
Перед домом дедушки Асада был густой хурмовый сад. Ребенком дедушка сажал его со своим отцом – в послевоенные годы, когда есть было нечего и сытные плоды спасали от голода…
Когда с деревьев спадали последние листья, воробьи округи слетались на сладкую хурму, расклевывая ее прямо на ветках. Стаи не боялись пугал, не действовала на них ни одна хитрость, и, оберегая урожай, дедушка птиц отстреливал.
Мы с братом переживали, искали способ спасти воробьев. Как-то ночью, когда Асад заснул, мы выкрали из его комнаты винтовку, утопили в колодце. На месте оружия оставили анонимку. Полагали, что дедушка не вычислит автора. Долго обдумывали текст, листая бабушкины книги персидских поэтов, из которых позаимствовали «умные слова».
«Не будет проку от хурмы, за сладость которой заплачено жизнью птиц. Удел бессильных – объявлять войну тем, кто тебя слабее». Наутро нас с братом, конечно же, рассекретили и поколотили. Зато с того дня дедушка Асад перестал убивать воробьев. Купил у соседа Бахруза коротконогую собаку по имени Пялянг. Пес облаивал исключительно птиц, словно завидовал тому, что они умеют летать.
4
Завтра новый день. Я тебя люблю. Добрых снов!
Мне было восемь, когда меня впервые оставили дома одного. На три дня. У тети Зохры в аварии разбился сын, все родственники срочно выехали в город Евлах. Меня не взяли – простуда.
Мама порывалась переселить меня к соседке Арифе, я отказался. «Не буду спать не в своей комнате. Я взрослый, могу остаться один». Договорились: поживу дома при условии, что Арифа будет ночевать в нашей гостиной.
Первый день я наслаждался свободой, вседозволенностью: лопал печенье в постели, засыпал за полночь, три раза в день ел жареную картошку, утром не заправлял постель, одежду не вешал аккуратно на стул, а бросал куда попало.
На второй день тишина в доме стала давить, выталкивать за его пределы. Пропал аппетит – не хотелось картошки, ничего вообще; надоело не заправлять кровать, разбрасывать снятую одежду – все равно маленького бунта не заметит никто, кроме меня и молчаливой соседки; потерял интерес к вещам старшего брата – без него даже самая увлекательная игра выглядела бессмысленной. Перед сном мама не заходила в комнату, не целовала меня в нос со словами: «Завтра новый день. Добрых снов, Финик». Никто не называл меня Фиником.
Я скучал по семье. По голосам родных, их жестам, прикосновениям.
Убегая от молчания пустого дома, я одевался и тайком от Арифы выходил на улицу, гулял под окнами окрестных домов. Останавливаясь под открытыми форточками, слушал звуки больших и маленьких семей: мозаику голосов, звон посуды, лай собак в глубине дворов или кухонное мяуканье рыжей кошки, выпрашивающей у хозяйки фарш. Впитывал звуки чужого семейного уюта, грелся в них, легчало – ожидание возвращения домашних не казалось долгим, мучительным.
Спустя день приехали мама с братом. Возвратились любимые люди, а вместе с ними – желание играть, читать, есть картошку и даже суп с луком.
Всю ночь я не отпускал маму, прижимался к ней, извинялся за частое нежелание заправлять постель. Сейчас смешно, но тогда мне было важно ее прощение. Мама улыбалась, целовала меня в нос. «Завтра новый день. Добрых снов, Финик. Я тебя люблю».
5
Интересно, что чьё отражение: море – неба или небо – моря?
Тетя Джавахир называла меня специалистом по абшеронскому небу.
Меня, любознательного первоклашку, это удивляло. «Как небо может быть абшеронским? Ведь у него нет ни конца ни края. В небе, как в море, можно плавать всю жизнь». Тетя Джавахир, ущипнув меня за нос, отвечала: «Меньше умничай, Финик. Лучше поди воды из колодца принеси и ярпыза[1] нарви. Чай заварю».
На Абшероне всегда, в любых ситуациях, пьют чай – в стаканчиках-армуду, с пряным сахаром-ногулом.
Зачерпнув ведром воду, жду, пока гладь успокоится, разровняется и на ней прорисуется небо – с пухлощекими облаками, стремительными чайками или сверкающими звездами. В детстве я больше всего любил абшеронские море и небо, а еще… ржавую железную кровать с матрасом-сеткой на нашей веранде – атрибут каждого абшеронского дома.
Отслужившие свое кровати выносили из дома, использовали на открытом воздухе. Одни застилали матрас-сетку марлей и сушили на ней инжир (перед тем как собрать его в мешки, плоды посыпали мукой). Другие превращали кровать в батут для детворы. Мы с братом, закутавшись в пледы, летними ночами вели на них разговоры. Обо всем на свете. На фоне наших голосов стрекотали цикады, шумело море.
Мама с тетей Джавахир, накормив и уложив домашних, подолгу болтали, улегшись на железной кровати. Я устраивался у них в ногах, рассматривая чернильное небо, считая звезды. Мама меня укрывала. «Ноги не вытаскивай, комары покусают. Засыпай, завтра в семь подъем, на море». Я не сводил глаз со звезд и размышлял: интересно, что чье отражение, море – неба или небо – моря?
«Мам, завтра будет жарко, смотри, какой яркий Млечный Путь. Значит, вечером тоже пойдем на море. Ура!» Джавахир дергает меня за ухо, мол, тише, все спят. «Сария, твой сын станет метеорологом или оперным певцом. Готовься». Мама улыбается. «Ради Бога. Лишь бы с любовью. Остальное не важно».
6
У любого из нас есть прекрасный мир, и это повод для счастья
Мне было восемь, когда одноклассник вдруг спросил: «Что для тебя Бог?» Недолго думая я с абсолютной убежденностью ответил: «Море». Сказал и побежал на третий этаж школы, старинного здания с высокими колоннами, когда-то служившего военным госпиталем. Оттуда был виден кусочек моря. Я долго смотрел на изумрудную воду сквозь оконное стекло, а потом, подышав на него, вывел пальцем: «Бог».
Больше о Боге вслух я не говорил – не из страха или сомнений и даже не из-за того, что не спрашивали. Просто не хотелось. Словно три эти буквы были сокровенным паролем для входа в мир абсолютной красоты, и ею не хотелось делиться. (Хотя теперь я знаю, что она доступна всем, нужно лишь приглядеться.) Но и не из жадности. Я боялся, что кто-то нечуткий испортит сокровенное, обидит волны, и они перестанут обнимать береговую линию белоснежной пеной.
Три буквы – «б», «о», «г», – и ты там. Что там? Волны, расписанные лучами июльского солнца. Берег с горячим песком, почти желтым. Как солнце. Пересыпаю его руками, кожа теплеет, покрывается слоем матовой пыли. Смотрю на море, вокруг никого, мне хорошо. Я в истинном доме. А тот дом, где папа, мама, брат, бабушка и белый пес Пялянг… Это тоже мой дом. Он за пределами запароленного мира, и там все по-другому.
Там пугающая ночь, не вечные родные, брошенные животные и множество мелких неприятностей. В мире с паролем ночей не бывает, близкие не умирают, на каждую собаку приходится любящий хозяин, а от кизиловых леденцов не горят щеки.
С того школьного вопроса прошло много лет. Многое изменилось. Но я по-прежнему прихожу в истинный дом. Каждый день. Сижу на берегу, перебираю ракушки, думаю о том, что у любого из нас есть прекрасный мир с секретным кодом, и это само по себе повод для счастья. Наверное, есть и забывшие пароль. Они потеряли его в себе и не знают, как вернуться туда, где вечное солнце. Но очень хотят.
7
Счастье приходит изнутри, а не снаружи
За жизнь сменил немало домов, стран – так сложилось. Чемоданы – преданные, молчаливые спутники, но с каждым переездом их становилось меньше. Я понимал, что самое важное в нас, а необходимое не требует большого пространства.
Есть у меня товарищ Борис, недавно сменивший имя на Светозар. Я по-прежнему зову его Борей. Боря был руководителем нефтяной компании, жил со вкусом, любил женщин, вырастил троих сыновей, посадил дерево.
Однажды утром он проснулся, собрал вещи и… ушел. В неизвестном направлении.
Ни в родной мегаполис, ни в любимую семью, ни в свой холдинг он не вернулся. Теперь Боря живет где-то в Индии; как он сказал – с открытыми глазами, не вслепую. Временами с разных электронных адресов пишет письма. В одном из них Борис рассуждал на тему истинной природы человеческой души.
«Друг, душа изначально – сат-чит-ананда[2], то есть полная знаний, вечная, счастливая. В ней, а не во внешнем мире, хранится все, что приносит счастье. Только дети чувствуют это отчетливо. И некоторые взрослые. Не изводи себя. Бесполезное занятие. Лучше езжай к морю».
После слов Бори-Светозара подумал о том, как спокойно я всегда относился к вещам из прошлого, без особого трепета. С детства все складывал в себя, внутрь, глубоко, чтобы не растерять, чтобы не выпало во время очередной жизненной тряски. «Счастье приходит изнутри, а не снаружи», – верно подмечал в своих посланиях Боря.
Есть в моем чемодане то, что до сих пор перевожу с места на место, – плотная белоснежная ткань, по краям отороченная голубым атласом. Некогда это были две скатерти, но бабушка Сона сшила из них одну. Взрослые натягивали ее под тутовником, а мы, детвора, взобравшись на дерево, стряхивали с веток сладкие ягоды.
Сона сидела неподалеку на камне, с гордостью наблюдала за градом обильного урожая, приговаривая «ай машаллах»[3]. Полотну мы придумали имя – Агбулут, «белое облако».
Закончив, слезали с дерева, помогали перебирать ягоды, выкидывали случайные листья.
За годы Агбулут обветшал, не раз Сона его подшивала, штопала. «Финик, когда я умру, забери Агбулута в свой дом, береги его. Он старенький, тяжести урожая не выдержит. Летом грей на солнце, зимой храни без сырости».
Агбулут до сих пор со мной. Зимними вечерами часто подношу его к лицу, вдыхаю ароматы детства: бабушкиных рук, медовых тутовых плодов, шальной беззаботности, дневного сна в увитой виноградной лозой кюлефиренги, прыжков с разбегу в прохладное море, надрезанного хрустящего арбуза, традиционного воскресного завтрака – яичницы с помидорами, сладкого чая и свежайшего хлеба с сыром. Согреваюсь.
Завтра отвезу Агбулута к знакомому портному, надо обновить по краям атлас. Как будет готово, загляну на рынок, куплю ведерко белой шелковицы, обсыплю старичка ягодами. И он оживет.
8
Любовь дарит крылья. Пусть и невидимые
На Инжирной улице Абшерона жила удивительная собака по имени Балерина. С бежевой курчавой шерстью, черными глазами-пуговками, ушами-веерами и изящными лапами с длинными когтями. На вид обычная дворняга, если бы не одна особенность, породившая собачью кличку.
Стоило Балерине увидеть знакомые лица (она узнавала всех жителей улицы вплоть до малышни!), как она поджимала хвост, становилась на цыпочки и, скрестив лапы, начинала скулить, задрав мокрый нос к облакам. Подвывала не жалобно, а музыкально, чередуя высокие ноты с низкими, – подыгрывала своему приветственному танцу. Тонкие Балеринины лапы сплетались в такт ее музыке, отрывались от песчаной земли, выделывая в воздухе нелепые па.
Красиво смотрелась, чертовка! Особенно летом, когда на фоне ее представления изливались медом инжирные плоды, а гранатовые соцветия осыпались под бризом алыми лепестками.
В вихре танца собачьи глаза закрывались, и артистка будто помещала себя на красную цирковую арену, однажды виденную в телевизоре. (Была у абшеронцев традиция выносить во дворы голубые экраны, особенно когда они были не в каждом доме. Вот и подглядела собака.) Эх, мечты, мечты… Но Балерина была счастлива. Какая разница, в какой ты реальности, когда душа переносится произвольно, куда хочет. Стоит только закрыть глаза.
Представление длилось минуту, после чего Балерина возвращалась на четыре лапы и, опустив нос, обыкновенно, по-собачьи, виляла хвостом.
Гордая была псина, хоть и ничейная: не клянчила угощений, не подлизывалась, не путалась в ногах. Она лишь улыбалась, получая… да что Бог пошлет. Бывало, улыбку или поглаживание, случалось, кусочек колбасы или надкусанную котлету, временами безразличие, а иногда и шишку в бок (сыновья портнихи Зибейды не любили Балерину, за что мы с братом точили на них зуб).
Ни на что не обижалась удивительная собака, словно объясняя людям – чаще эгоистичным и неблагодарным, – что любовь ничего не требует. Сердце любит, переполняется божественным, изливается через край, и неважно, получаешь ли такую же щедрость в ответ. Это не жертвенность. Это то, что делает тебя лучше, дарит крылья. Пусть и невидимые.
Одним осенним днем, в те времена, когда телевизоры больше не выносили во дворы, а инжирные деревья сбросили листву, Балерину сбила машина. Чужая. Не заметил водитель перебегающей дорогу псины, переехал ее изящные лапы, с шумом и мутным выхлопом скрылся за поворотом. Балерина, лежа на мокрой земле, заскулила. Не жалобно, а напевая мелодию из любимого представления.
Долго лечили чудесную собаку, всей улицей. Искореженные открытыми переломами лапы отчаянно болели, но Балерина не обращала внимания. Ведь теперь она жила в теплом доме, в комнате с телевизором, который показывал цирк, ту самую арену. Балерина закрывала глаза и уносилась в мечту. Туда, где ничего не болит, где греет свет софитов и аплодируют восторженные зрители.
Задние лапы пришлось ампутировать – не срастались кости, возраст. Вместо них приделали коляску, которую быстро смастерил Джавид-уста, чеканщик из соседнего поселка. Он и забрал к себе Балерину.
В центре гостиной нового дома лежал красный килим[4], который облюбовала собака для вечеров, когда семья смотрела телевизор. И вновь Балерина представляла себя в цирке, танцующей для любимых жителей Инжирной улицы, по которым скучала. Она навещала их, но теперь нечасто. У нее была новая жизнь. В прошлую она возвращалась, только закрыв глаза.
9
Ты уже видишь дорогу к морю, а они ещё ищут
В детстве у меня был друг по имени Нияз. Уста[5], создатель музыкальных инструментов, смиренный дервиш, житель Пыльной улицы, беспощадно заносимой песком. Именно он, взяв меня за руку, привел к миру, который я слышал в себе, но смутно. Не из-за слабого слуха. Межмирье открывается не сразу.
Мы приходили к морю. Если летом, то босиком. По горячему песку с почти невидимыми крупицами соли. По округе разливался азан. Гилавар – ветер теплый, хаотичный, игривый – то усиливал, то приглушал священные звуки.
Как-то я признался мастеру: «Уста, наверное, плохо так говорить… Меня пугает азан. Не знаю почему. Он же пугать не должен». Нияз остановился, посмотрел на море – еще десять шагов, и мы у первой волны. «Финик, ты не азана боишься, а себя. Настоящего, полного любви. Тебе скажут, что для современной жизни не годится быть любовью. Это их выбор. Не осуждай и, выбирая любовь, не думай, что становишься выше других. Ваше различие только в том, что ты уже видишь дорогу к морю, а они еще ищут».
Нияз отыскал на берегу высокий песочный сугроб, присел на него. Я плюхнулся рядом, закинул левую стопу на правое колено – кусочки ракушек впились в кожу. Смахнул их и, улыбнувшись Каспию, протараторил: «Все же Бог живет в море, а не на небе или в сердце, как говорит бабушка. Посмотри, какое оно красивое. И все любят море. Как Бога».
Уста отвечал мягко, медленно, не отводя взгляда от первой волны. «Ты прав, Финик. Бог живет в море. И не только там… Смотри, какая большая, без пены. Такие волны дед называл бескрылыми птицами, умеющими летать… В каждом из нас море проявляется по-разному. В ком-то штилем или штормом, в других приливом или отливом. В море и счастье, и прозрения, и опасности, и неизбежности. Не пытайся определить, где оно кончается. Зачем ограничивать жизнь?»
Однажды Нияз ушел. На Абшероне и в ближайших городах его больше не видели. Первые месяцы я болел, тоскуя по другу, приходил к его ветхому дому с колодцем, искал у линии первых волн.
«Его нигде нет», – думал с отчаянием. И вдруг понял ошибку – слово «нигде». Нияз жил во мне. Как и все, что я любил. Потерянное любимое может исчезнуть с соседней улицы, но оно непременно нас ждет. В области сердца.
10
Перед сном подумай о завтра. В нём – новое утро, новая жизнь
Утром отец учился, днем разносил почту, ночью разгружал машины с камнями. Единственный кормилец большой семьи; мама занималась хозяйством, растила детей. Папиными отдушинами были мы и фотография, которой он увлекался со школы. Снимал нас на пленку, негативы проявлял в красном свете дальней комнаты. По утрам на веревках вдоль стен висели влажные черно-белые листики. Высыхая, картинки обретали историю – с героями, местами, предметами.
Снимки размытые, думаю, намеренно. Чем дольше на них смотрю, тем острее ощущение, что еще чуть-чуть – и услышу звуки, почую ароматы пойманного мгновения.
Мама бережно складывала отцовские фотографии в альбом с зеленой бархатной обложкой (сама обшивала). Любила его перелистывать, показывая нам с братом. Я не смотрел. Боялся застрять в ушедшем времени: засосет, и я не доберусь до желаемого. В чем был корень страха? В том, что где-то глубоко-глубоко я понимал, что прошлое люблю сильнее мечты.
Мама уловила мои опасения. Стала чаще говорить со мной о будущем, о том, что ждет впереди. Например, о поездке на Праздник весны в Шеки, где горы круглый год не снимают снежную шапку, река Гурджана с таянием льда поет песни, а дядя Салех расписывает уваренным свекольным соком поверхность медовой халвы.
В старших классах, когда мы переехали из Абшерона в город, меня мучил один и тот же сон: вместе с героями своего детства – c теми, кто навсегда внутри, – спускаюсь к морю, как вдруг некая сила прижимает меня к черной стене, не дает двинуться. Никто этого не замечает, не слышит моих криков. Друзья уходят.
Не выдержал, рассказал о страхах отцу. Он меня обнял. «Не надо бояться прошлого, Финик. О нем надо помнить, но глубоко не ныряй. А если погрузился вглубь, успей вовремя вынырнуть. Иначе задохнешься. Перед сном думай о завтра. В нем новое утро, новая жизнь».