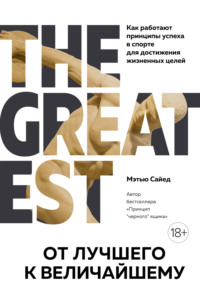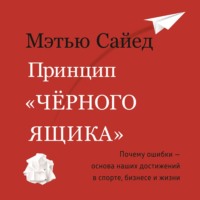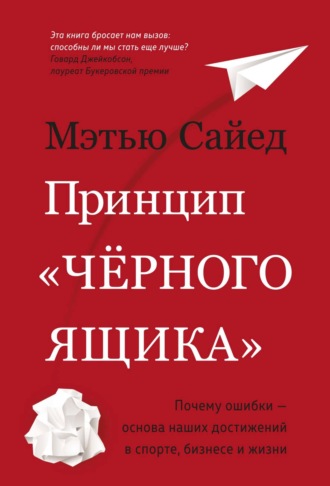
Полная версия
Принцип «черного ящика»: Почему ошибки – основа наших достижений в спорте, бизнесе и жизни
Сегодня новые идеи в области здравоохранения по-прежнему внедряются очень медленно. Исследование, касавшееся последствий значительных открытий (например, того факта, что пневмококковая вакцина защищает от респираторных инфекций не только детей, но и взрослых), выявило, что новые методы лечения доходят до половины американских пациентов в среднем за 17 лет. Обширный обзор, который опубликовал New England Journal of Medicine, утверждает, что всего половина американцев получает лечение, соответствующее государственным нормам США [76].
Проблема не в отсутствии информации, а в том, как эта информация подается. Вот что пишет об этом Атул Гаванде, врач и писатель:
Причина… обычно не в лени или недостатке готовности. Причина чаще в том, что необходимые знания не были переведены в простую, практичную и систематическую форму. Если бы люди, работающие в авиации, занимались исключительно изданием толстых журналов… на пилотов обрушивалась бы лавина информации – как на врачей, ежегодно вынужденных читать 700 тысяч научных статей медицинской тематики. Такой объем информации переварить невозможно. Вместо этого… те, кто расследуют авиакатастрофы, [извлекают] из информации практически применимую составляющую [77].
Может быть, самый показательный пример несовершенства профессиональной культуры здравоохранения – это отношение к аутопсии. Пока пациент жив, врач может поставить диагноз, полагаясь на интуицию, анализы, рентгеновскую томографию и многие другие данные. Однако вскрытие позволяет врачам на деле заглянуть внутрь тела и точно определить причину смерти. Аутопсия – медицинский эквивалент «черного ящика».
Аутопсия очевидным образом способствует прогрессу. В конце концов, если диагноз не подтверждается данными вскрытия, значит, пока пациент был жив, врач мог ошибиться и с выбором метода лечения. По итогам вскрытия врач может переосмыслить ход своих рассуждений, и его ошибка станет ценным уроком для него и его коллег. Она спасет жизни других пациентов.
Благодаря аутопсии стал возможен ряд открытий. Вскрытие использовали, чтобы понять причину туберкулеза, узнать, как сражаться с болезнью Альцгеймера и многими другими недугами. В армейской медицине аутопсия американских военных, погибших в Ираке и Афганистане после 2001 г., позволила собрать важнейшие данные о повреждениях, наносимых пулями, взрывами и шрапнелью.
Эти данные продемонстрировали недостатки экипировки солдат и бронирования военного транспорта. В итоге были усовершенствованы бронешлемы, защитное снаряжение и медицинское оборудование [78] (точно так же принцип «черного ящика», примененный Абрахамом Вальдом, усовершенствовал защиту бомбардировщиков во время Второй мировой войны). Однако до 2001 г. вскрытие погибших военных проводили редко, а значит, никто не учился на ошибках, и их товарищи могли получить точно такие же потенциально смертельные ранения.
Среди гражданского населения около 80 % семей, когда их просят разрешить вскрытие, дают согласие – главным образом чтобы узнать, отчего умер их родственник [79]. Увы, несмотря на готовность близких разрешить аутопсию, она проводится исключительно редко. В США, по статистике, аутопсию проводят менее чем в 10 % случаев [80]. Во многих больницах она не практикуется вообще. С 1995 г. у нас в принципе нет данных по вскрытиям, потому что Американский государственный центр медицинской статистики не собирает эту информацию[19] [81].
Таким образом, вся ценная информация, по сути, исчезает. На огромный объем знаний, которые могли бы спасать чьи-то жизни, медики попросту махнули рукой. Между тем понять, почему врачи столь неохотно пользуются данными аутопсии, нетрудно: все дело в отношении к неудаче.
К чему проводить расследование, если оно может доказать, что вы совершили ошибку?
Эта часть книги писалась не для того, чтобы осуждать врачей, медсестер и других медицинских работников, которые героически трудятся каждый день. Всякий раз, когда я попадал в больницу, меня окружали сострадание и профессионализм. Нужно сказать, что и авиация несовершенна. Известно немало случаев, когда ее благородное стремление учиться на ошибках остается всего лишь стремлением.
Однако отличия профессиональной культуры авиации и здравоохранения жизненно важны. Без них мы не поймем, какова природа замкнутых циклов, почему они возникают в работе даже умных, хорошо мотивированных и прилежных профессионалов – и как нам от этих циклов избавиться.
Стоит отметить также, что к любым параллелям между здравоохранением и авиацией следует относиться с осторожностью. Для начала, здравоохранение устроено намного сложнее. Его оборудование более разнообразно: существует, скажем, 300 типов хирургических насосов, но всего две модели самолетов большой дальности полета. Как правило, медицинское оборудование требует ручного управления и очень редко снабжается «автопилотом», что делает ошибки более частыми.
Но все это приводит нас к самому большому парадоксу. Когда вероятность ошибиться велика, учиться на ошибках важнее, чем когда такая вероятность мала. По словам профессора Джеймса Ризона, одного из ведущих экспертов по безопасности систем, «ситуация поистине парадоксальна: здравоохранение по своей сути располагает к ошибкам, однако люди, охраняющие наше здоровье, клеймят ошибающихся позором и почти или вообще не учат ни работать с ошибками, ни распознавать их» [82].
Конечно, то, что безопасность одинаково важна для авиации и здравоохранения, еще не означает, что можно механически перенести процедуры из одной сферы в другую. Чек-листы, пришедшие из авиации, хорошо зарекомендовали себя в ряде медицинских систем, но нет никакой гарантии, что другие процедуры поведут себя так же. Однако ключевое понятие здесь – не перенос процедур, а перенос отношения.
Как сказал Гэри Каплан, директор Virginia Mason Health System: «У вас могут быть лучшие процедуры в мире, но они не будут работать, пока ваше отношение к ошибкам не изменится».
Основная проблема тут не связана ни с психологией, ни с мотивацией. По большому счету это проблема уровня понятий. Пока мы не станем по-другому думать о неудаче, практические успехи останутся призрачными, и не только в здравоохранении, но и в любой области жизни.
В мае 2005 г. настойчивость Мартина Бромили принесла плоды. Глава больницы, в которой умерла его жена, поручил провести расследование. Комиссию возглавил Майкл Хармер, профессор анестезиологии и реанимационной медицины медицинского факультета Университета Кардиффа.
30 июля Мартина вызвали в больницу, чтобы огласить результаты расследования. Отчет состоял из ряда рекомендаций. Все они словно были взяты из отчета Национального комитета по безопасности на транспорте по катастрофе United Airlines 173 – документа, составленного тридцатью годами ранее. Отчет призывал улучшить коммуникацию в операционных таким образом, чтобы «любой медработник мог без стеснения вносить предложения, касающиеся лечения».
Кроме того, отчет очертил проблему границ человеческого восприятия: «Учитывая проблему времени, которое для врачей бежало незаметно, на случай, если подобный инцидент произойдет вновь, необходимо вменить в обязанности одного из работников запись хронометража событий и извещение остальных о том, сколько времени прошло».
С одной стороны, выводы были очевидными. С другой, они были революционными. Бромили обнародовал этот отчет (изменив имена врачей, чтобы сохранить их анонимность). Он распространил его так широко, как мог. Он хотел, чтобы все медики прочли этот отчет и сделали для себя выводы. Бромили сумел даже уговорить BBC снять документальный телефильм об этом случае и его последствиях.
Затем он собрал группу людей, небезразличных к проблемам безопасности здравоохранения, и начал продвижение реформ. Эта группа занималась не только проблемой блокировки дыхательных путей, но и медицинским образованием в целом. Бромили по сей день на добровольных началах возглавляет эту организацию, Группу по проблемам человеческого фактора в медицине (Clinical Human Factors Group).
Вскоре Мартин начал получать письма от врачей. Сообщения поступали из больниц Великобритании, США, Азии, других регионов мира. Один врач пишет: «Не так давно впервые за мою карьеру я столкнулся с непредвиденным случаем, когда кислород не поступает, интубация невозможна. Несмотря на то что нас охватил ужас… мы вовремя решили провести хирургическую трахеостомию, и пациент очнулся без каких-либо неврологических расстройств».
Вот письмо врача из Техаса:
После длившейся пять часов операции мой пациент был перевернут на спину и стал задыхаться… Я вспомнил о случае вашей супруги и решил добраться до его дыхательных путей хирургическим путем. Была проведена экстренная трахеостомия… Пациента перевели в интенсивную терапию, и, когда наркоз отошел, он очнулся и реагировал адекватно. Позитивный исход в данном случает целиком и полностью зависел от информации, которую вы распространили среди медиков. Я хочу поблагодарить вас.
Другой врач писал: «Если бы не ваши неустанные попытки улучшить качество обучения в моей профессии, судьба моего пациента могла бы быть куда более печальной [врач только что провел экстренную трахеостомию]. Я перед вами в неоплатном долгу».
Окончательный 18-страничный отчет по итогам расследования смерти Илэйн Бромили можно найти в Google. В нем немало ценной медицинской информации. Несмотря на медицинские термины, отчет воспринимается прежде всего как искренняя дань памяти возлюбленной жене и матери.
На первой странице Мартин, один из самых талантливых вдохновителей, с которыми я когда-либо говорил, поставил девиз:
Чтобы другие могли научиться и чтобы больше жизней было спасено.
Часть 2
Когнитивный диссонанс
IV
Ошибочный приговор
1
17 августа 1992 г. 11-летняя Холли Стейкер из Уокигана, городка в штате Иллинойс, отправилась к Дон Энгельбрехт, которая жила в многоквартирном доме неподалеку. Холли сидела с двумя маленькими детьми Дон, дочерью двух лет и сыном пяти лет[20].
Дон недавно развелась и по вечерам работала в местном баре, где и познакомилась с матерью Холли, Нэнси. Маленькая Холли часто сидела с детьми Дон. Две семьи крепко сдружились.
Холли подошла к двухэтажному дому на засаженной деревьями Хикори-стрит в 16:00, как было условлено. Погода стояла прекрасная. Дон тепло встретила девочку. Через пару минут, помахав рукой детям и Холли, она отправилась на работу. Впереди ее ждала долгая смена.
В 20:00 Холли была мертва. Неизвестный злоумышленник вломился в квартиру, запер дверь, жестоко изнасиловал Холли и нанес ей 27 ножевых ранений. Труп было почти невозможно опознать.
В начале девятого сосед Дон зашел в бар, чтобы сказать ей, что видел ее сына – тот почему-то оказался на лестничной клетке и не мог попасть внутрь. Дон позвонила домой, но никто не взял трубку. Тогда она позвонила матери Холли.
Они встретились у дверей квартиры Дон, и та отперла дверь. Увидев, что двухлетняя дочь Дон сидит одна, они сразу позвонили в полицию. Стражи порядка нашли окровавленный труп Холли за дверью спальни.
В районе началась паника. Местная полиция получила шестьсот сигналов о предполагаемом преступнике и опросила двести человек, однако прошло несколько недель, а полицейские всё не могли напасть на след злоумышленника. Родители боялись выпускать детей на улицу.
Затем, получив наводку от информатора в тюрьме, полиция задержала первого подозреваемого. Им был 19-летний Хуан Ривера, живший в нескольких километрах к югу от места, где произошло убийство. В течение четырех дней Риверу, у которого ранее были проблемы с психикой, жестоко допрашивала следственно-оперативная группа округа Лейк, занимавшаяся особо опасными преступлениями.
На третий день, когда Риверу в очередной раз спросили, совершил ли он данное преступление, он наконец-то кивнул. В тот момент его руки были прикованы к ногам, и содержался он в камере с обитыми войлоком стенами. Тюремные психиатры решили, что у Риверы был психотический приступ.
На основании признания полиция подготовила заявление, которое Ривера должен был подписать. Однако признание совершенно не совпадало с уже имевшейся информацией о преступлении, и на следующий день полицейские вернулись, чтобы добиться нового признания, соответствующего фактам. Последний допрос длился почти сутки. В конце концов Ривера подписал и новое признание.
Вскоре состоялся суд, на котором переписанное признание, от которого Ривера отказался через несколько часов после того, как поставил свою подпись, стало главным аргументом обвинения. Свидетелей не было. Хотя ранее Ривера страдал от проблем психиатрического плана, его история болезни не указывала на то, что он способен на насилие. Не было также физических улик, которые связывали бы его с убийством девочки, хотя место преступления изобиловало микрочастицами, оставленными злоумышленником. Среди прочего следствие располагало частицами крови, волос, кожи и неидентифицированными отпечатками пальцев, и ничто из этого не принадлежало Хуану Ривере.
Но девочка была жестоко убита, люди взбудоражены, и у суда имелось подписанное Риверой признание.
Присяжные обсуждали дело недолго. Риверу признали виновным в совершении убийства первой степени и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Просьбу приговорить Риверу к высшей мере суд отклонил.
Многие наблюдатели, в том числе местные журналисты, отнеслись к вердикту суда неоднозначно. Они понимали, что приговор базируется на признании юноши с психическими проблемами. Однако полиция и прокурор считали, что вина доказана. Совершено ужасное преступление. Злоумышленник осужден, ему вынесен приговор. Теперь семья Холли могла попытаться найти покой. Панику пресекли. Жители района могли вздохнуть спокойно.
Или нет?
2
Одна из главных целей системы уголовного правосудия – гарантировать, что человек не будет осужден за преступление, которого не совершал. Стоит представить себе невиновного, который вынужден сидеть в тюрьме, потому что государство ограничило его свободу, – и нас охватывает глубокое возмущение. По словам английского юриста Уильяма Блэкстоуна, «лучше пусть избегут наказания десять виновных, чем пострадает один невиновный» [83].
Однако ошибки правосудия важно изучать и по совсем другой причине – они предоставляют бесценную возможность учиться на неудачах. В предыдущем разделе мы видели, как авиация училась на ошибках, в результате чего безопасность полетов повысилась. В ходе расследований тщательно изучалась информация о катастрофах, после чего авиакомпании производили необходимые реформы. В итоге число авиакатастроф значительно снизилось. Такова анатомия прогресса: получая обратную связь, системы совершенствуются.
Соотношение между двумя основными целями системы правосудия – осудить виновного и оправдать невиновного – достаточно очевидно. Если вы хотите в принципе исключить вероятность ошибочных приговоров, можно, например, обязать обвинение доказывать вину подозреваемого на 100 %. Однако за подобную реформу придется дорого заплатить: на свободе окажется огромное количество преступников. Могут ли присяжные осудить человека, в чьей виновности они почти уверены?
Таким образом, нас интересует, как можно уменьшить число ошибочных приговоров, не уменьшая числа правильных приговоров, и наоборот. В этом случае выиграют все. Решение этой проблемы осчастливит либералов, которых беспокоят ошибки правосудия, и удовлетворит консерваторов, которых волнует то, что слишком многие преступники выходят из зала суда оправданными. Вопрос один: как этого добиться?
Вспомним о радиологии, которую мы обсуждали в первой главе. В ней существует два типа ошибок. Первый: врач диагностирует опухоль, которой нет. Такую ошибку иногда называют ошибкой первого типа, «ошибкой действия». Второй: врач не диагностирует опухоль, которая есть. Это ошибка второго типа, «ошибка бездействия». Поднимая «порог доказательности», мы можем уменьшить вероятность ошибок одного типа, но в то же самое время увеличим вероятность ошибок другого типа, ровно как в системе уголовного правосудия. Однако данная взаимозависимость еще не означает, что нельзя уменьшить вероятность ошибок обоих типов одновременно. Именно в этом – суть прогресса.
Ошибочные приговоры во многих отношениях похожи на авиакатастрофы. Если они убедительны (этого, впрочем, добиться непросто), значит, мы имеем дело с серьезной ошибкой системы. Такие приговоры дают нам возможность выяснить, что именно не так во всей системе, начиная со следствия и заканчивая тем, как представляются доказательства в суде, как обдумывают приговор присяжные, как ведет себя судья. Учась на ошибках, мы можем реформировать систему таким образом, чтобы похожие ошибки больше не повторялись.
Увы, как мы уже видели, никто не любит признавать свои ошибки. Как отреагируют полицейские, когда узнают, что все их усилия, увенчавшиеся поимкой жестокого убийцы, пошли насмарку, потому что они задержали невиновного? Что почувствует сторона обвинения, действия которой часто оказывают на суд решающее влияние, если окажется, что ее усилия сломали жизнь ни в чем не повинному человеку? Что скажут судьи и высшие чиновники системы правосудия, когда их поставят перед фактом: руководимая ими система дала сбой?
В первой главе книги мы рассматривали концепцию неудачи, сравнивая сферы авиации и здравоохранения. Как мы увидели, в здравоохранении профессионалы настолько боятся признать свои ошибки, что покрывают их как могут, и учиться на этих ошибках невозможно. Мы также обнаружили, что аналогичным образом принято реагировать на ошибки во многих областях человеческой деятельности.
Здесь мы поговорим о том, почему так происходит. Мы рассмотрим конкретные психологические механизмы, принуждающие нас отрицать ошибки, изучим тонкое искусство уклонения от ответственности и поймем, почему умные и честные люди создают порой замкнутые циклы. Система уголовного правосудия послужит для нас лупой, однако мимоходом мы взглянем и на удивительные провалы в политике, экономике и бизнесе, а также на барьеры, сплошь и рядом возводимые на пути прогресса. Мы не можем учиться на ошибках, если будем закрывать глаза на неудобную правду, однако, как мы увидим, именно на это запрограммирован человеческий мозг. Часто он идет на невероятные уловки, лишь бы оставаться в приятном неведении.
С точки зрения психологии причина, по которой ошибки правосудия столь болезненны для всей правовой системы, достаточно очевидна. Показательна история подобных ошибок. В 1932 г. профессор права Йельского университета Эдвин Борчард опубликовал книгу «Осуждение невиновных и государственные компенсации за ошибки уголовного правосудия» (Convicting the Innocent and State Indemnity for Errors of Criminal Justice) [84]. Многие описанные в ней дела – ошибки в прямом смысле слова. По одному из этих дел восемь человек были осуждены за убийство в отсутствие «жертвы», которая пропала и была признана мертвой, а позднее объявилась живой и здоровой.
Подобные примеры дают возможность распознать ведущие к ошибкам ловушки и выявить слабые места системы. Однако многие обвинители, полицейские и судьи (а то и представители защиты) сделали совсем другие выводы. Они отмахнулись от предложенных возможностей, полагая, что система безупречна и нелепо думать иначе. Как сказал прокурор графства Вустер: «Невиновных не осуждают. Об этом не беспокойтесь… Это физически невозможно» [85].
Трудно найти более выразительный пример замкнутого цикла мышления. Действительно, если правосудие не ошибается, зачем тратить время, учась на ошибках, которых нет?
«Исторически правовая система воспринималась как нечто совершенное, – поведал мне нью-йоркский адвокат Барри Шекк. – Когда суд кого-то осуждал, приговор воспринимался как подтверждение того, что система работает хорошо. Ставить работу системы под сомнение не пытался почти никто. Само понятие “ошибка правосудия” казалось в свое время очень странным».
Стоит отметить, что, когда в начале XIX в. в Англии и Уэльсе впервые появился апелляционный суд по уголовным делам, это не понравилось прежде всего самим судьям. Суд действовал по очень простому принципу: он давал возможность пересмотреть дело. Власти официально признали, что ошибки возможны. Судьи были против в основном из-за того, что им не нравилась эта предпосылка. Создание апелляционного суда оказалось «одной из самых затяжных и тяжелых кампаний в истории правовых реформ», потребовав «принятия 31 закона за 60 лет» [86].
Следующие десятилетия мало что изменили. Доказанные ошибки правосудия считались «редчайшими случаями» или ценой, которую нужно платить за систему, в целом принимающую верные решения. Почти никто не проводил системного тестирования работы полиции, судопроизводства, криминалистики и т. д. Зачем, если система и так близка к совершенству?
Как сказал Эдвин Миз, Генеральный прокурор США при президенте Рейгане: «Дело в том, что не многие подозреваемые невиновны в преступлении. Тут налицо противоречие. Если вы невиновны, никто не будет вас подозревать».
Все изменилось утром понедельника 10 сентября 1984 г.
Ровно в 9:05 в лаборатории в Лестере (Англия) ученый-исследователь Алек Джеффрис рассматривал рентгеновские снимки ДНК и сказал себе: «Эврика!» Он осознал, что при изучении цепочек генетического кода можно выявить генетические «отпечатки пальцев», уникальный маркер, который позволяет с огромной точностью идентифицировать человека. Это озарение, а также исследования биохимика Кэри Муллиса, который получил впоследствии Нобелевскую премию, ознаменовали переворот в криминалистике [87].
До появления работы Джеффриса самым сложным аспектом судебной науки был, пожалуй, анализ крови. Есть всего четыре группы крови, а значит, капля крови на месте преступления могла уменьшить список подозреваемых, но не намного. В Великобритании, например, у 48 % населения первая группа крови [88].
Генотипоскопия дает совсем иные результаты. В отсутствие загрязнения (контаминации) объектов и при корректном проведении теста вероятность того, что два не связанных узами родства человека обладают совпадающими ДНК, составляет примерно один шанс на миллиард. Последствия были революционными, и правовая система осознала их почти сразу.
В небольшой группе дел тесты позволяли точно распознавать ДНК по частицам плоти на месте преступления. Скажем, при изнасиловании полиция может извлечь немного спермы из тела жертвы и сузить круг потенциальных насильников до одного человека. Анализ ДНК – уникальное средство доказательства виновности, которое помогло вынести сотни справедливых приговоров.
Кроме того, генотипоскопия имеет огромное значение для закрытых дел: она реабилитирует невиновных. Так, если ДНК спермы, извлеченной из тела жертвы, сохранена и не совпадает с ДНК человека, отбывающего наказание, невозможно отрицать, что настоящий преступник по-прежнему на свободе.
«ДНК для правосудия – все равно что телескоп для звезд, – говорит Шекк. – Это не урок биохимии, не демонстрация удивительных свойств увеличительного стекла, а способ увидеть вещи такими, какие они есть. Генотипоскопия позволяет увидеть невидимое» [89].
Говорить о стопроцентной точности тестов ДНК не приходится – результаты могут исказить человеческая ошибка, подлог, неправильная маркировка или неверные интерпретации при условии, что генетического материала недостаточно [90]. Однако если проводить тесты непредвзято и систематически, их результаты достаточно точны. К началу 1989 г. разработанную Джеффрисом лабораторную технику можно было использовать в криминалистических лабораториях. Так начался самый потрясающий эксперимент в истории юриспруденции. И результаты не заставили себя ждать.
14 августа 1989 г. Гэри Дотсона, ранее осужденного за изнасилование в Чикаго, освободили из тюрьмы после многократных заявлений о том, что он невиновен. Нижнее белье жертвы изнасилования послали на тест ДНК, и выяснилось, что сперма принадлежит другому мужчине. Дотсон провел за решеткой больше 10 лет [91].
Через несколько месяцев был пересмотрен приговор Брюсу Нельсону, ранее осужденному за изнасилование и убийство в Пенсильвании, – тест ДНК показал, что слюна на сигарете, а также на груди, бюстгальтере и волосах жертвы принадлежит не ему. Нельсон отсидел пять лет. Затем Леонарда Каллиса, севшего в тюрьму за сексуальные посягательства на 18-летнюю девушку в штате Нью-Йорк, освободили после того, как тест ДНК доказал его невиновность. Он отсидел почти шесть лет.
В Великобритании первая отмена приговора по результатам теста ДНК произошла в 1986 г. Майкл Ширли, молодой матрос, осужденный за изнасилование и убийство Линды Кук, барменши из Портсмута, был освобожден из тюрьмы. Его осудили, поскольку судмедэксперты взяли у жертвы несколько мазков и сообщили присяжным, что группа крови насильника совпадает с группой крови Ширли (а также 23,3 % мужчин Великобритании).